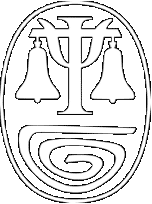Відсоток виправдань у радянських судах наблизився до нуля не в 1930-ті, а в 1950-ті роки − адвокат Ілля Новіков
 2199
2199
Програма "Антикульт" на "Громадському радіо" 28 березня 2020 року. Частина перша. Інтерв’ю з Іллею Новіковим.

Яку роль відігравали адвокати в радянських зрежисованих процесах 1930-х років? Чи вдавалося захисникам домогтися виправдань у загальнокримінальних справах? Як мстилася влада адвокатам, які захищали дисидентів? Про це у випуску програми "Антикульт".
Григорій Пирлик (Г. П.): Вітаємо, ви слухаєте "Антикульт" − програму про міфи та явища, які пережили Радянський союз. При мікрофоні Григорій Пирлік та Дмитро Бєлобров, наш звукорежисер Дмитро Сміян.
Дмитро Бєлобров (Д. Б.): Радянський адвокат завжди був своєрідним аксюмороном. Як можна захищати клієнта, якщо адвокат залежить від держави, не є вільним, а рішення приймаються не в залі суду?
Г. П.: Але адвокатура спромоглася пережити радянську владу, завжди балансуючи на межі припинення свого існування, а деякі навіть стали відомими під час політичних процесів пізнього періоду СРСР.
Д. Б.: Детальніше про це будемо говорити з нашими гостями. Це адвокат Ілля Новіков та правозахисник Євген Захаров.
"Довідкове бюро": Декретом Раднаркому від 24 листопада 1917 року "Про суд" радянська влада скасувала всю судову систему, в т. ч. інститути приватної та присяжної адвокатури, які існували за царської влади. Їх замінили радянські суди, які вирішували справи, керуючись революційною совістю і пролетарською свідомістю. На роль обвинувачів та захисників допускались усі незаплямовані громадяни обох статей, що користуються громадянськими правами. Тобто від них навіть не вимагали бути юристами. На зборах московської колегії захисників головний обвинувач країни Андрій Вишинський заявив: "Принципами радянського захисту мусять бути принципи соціалістичного будівництва". Під час Великого терору роль адвокатури фактично була нівельована існуванням так званих "двійок" та "трійок". Із часом рівень правової культури покращувався, але фактично радянська влада проголошувала: адвокатура − це пережиток минулого, адже рішення приймалися не в суді.
Д. Б.: Пане Ілля, вітаємо вас.
Ілля Новіков (І. Н.): Здравствуйте.
Д. Б.: Ви прослухали зараз наше "Довідкове бюро". Що там було правильно, в чому ми помилилися? Я думаю, завжди так буває, коли ми торкаємося тем, в яких ми не знаємося на 100 %, а так буває дуже часто. Давайте це визнаємо, з рештою. Бо журналісти так часто роблять, ми помиляємося. От в чому ми помилилися, чи були помилки? Якщо б ви хотіли щось додати, що б ви додали до цієї історії?
І. Н.: Тема истории адвокатуры российской имперской, потом советской и постсоветской настолько сложная, что в ней даже в рамках краткого дайджеста просто невозможно дать такую позицию, которая была бы бесспорна во всех отношениях. По фактам − да, более или менее, всё так. Надо, наверно, вернуться к тому, что на территории Украины, я об этом в своё время докладывал на нескольких юридических конференциях, довольно интересная ситуация. Здесь в свое время присутствовали два разных больших уклада − российский имперский и австро-венгерский имперский, и это дает довольно интересную картинку.
Д. Б.: Це були два різні підходи, правильно я розумію?
І. Н.: Да. Они не настолько разные. Дело в том, что Европа ХІХ века в определенном смысле с точки зрения юридических подходов была тоже довольно унифицированной. Просто нормой приличия считалось, что любое развитое государство, приличное государство должно иметь определенные институции. И в этом смысле Российская империя и Австро-Венгерская империя во 2-й половине ХІХ века не сильно отличались друг от друга, но, конечно, отличались. И, если мы говорим о ситуации, которая сложилась после Первой мировой войны, после того, как все эти империи уже отошли в прошлое, в России было что-то одно, в западной части Украины было что-то другое. Там был Пилсудский, там была польская адвокатура, которая была очень особенной даже в рамках Варшавского округа ещё России. Потом, естественно, всё это приобрело ещё более интересный колорит. В общем, это такое лоскутное одеяло, достаточно пёстрое.
Если мы говорим уже более узко о том, что наступило в Советском союзе во 1920-е годы и после 1920-х годов, как себя чувствовал советский адвокат... Да, конечно, советский адвокат себя чувствовал очень неуверенно. Хрестоматийный пример, на который, как правило, ссылаются, чтобы показать, что советский адвокат − это ноль, он ничего не значит и ничего не может − это показательные процессы 1930-х годов, особенно московские процессы. Были не только московские, были и другие по стране − "Шахтинское дело" и прочие. Но именно то, что было на бухаринских процессах, когда встаёт адвокат... Там, кстати, далеко не у всех подсудимых были адвокаты. Нормой было то, что судят одновременно полтора-два десятка человек, адвокаты защищают из них троих, может быть, четверых.
Г. П.: Можна запитати відразу, як це виглядало? Я, наприклад, знайомий з адвокатською діяльністю здебільшого за кінематографом. Я дивлюся фільм, я уявляю: отак виходить адвокат, отак він представляє захист. Як це відбувалося в 1930-х? Це було так само, чи навпаки, вони виходили і казали: "Це вороги народу, подивіться на них. Але вони хочуть спокути свою провину". Як це відбувалося?
І. Н.: Если мы говорим о кинематографе, я могу посоветовать очень хороший фильм позднесоветского времени "Защитник Сизов" по новелле, написанной писателем Ильей Зверевым ещё, по-моему, в 1950-е или 1960-е годы. Я не буду спойлерить, но сюжет как раз такой: где-то в провинции приговаривают в попытке устроить диверсию троих "врагов народа", их жёны отыскивают единственного адвоката, который за это берётся. Берётся единственным возможным способом: он начинает доказывать в разных инстанциях, в Москве, в первую очередь, что вот те самые следователи и прокуроры, которые это дело вели, вот они-то и есть "враги народа". И логика системы такая, что она как раз подошла к тому моменту, когда по тем установкам, которые были, пора уже менять действующий состав. И вот этим осуждённым повезло, а следователям, соответственно, не повезло.
Но надо понимать, что репрессия, которая велась через "тройки", вообще не предусматривала участие никакого адвоката, никакого защитника. Это был действительно конвейер, который, в принципе, обходился без заседания как такового. Папки перекладывались со стола на стол, подписывались списки, людей убивали или увозили в Сибирь. А вот те процессы, которые шли с адвокатами, это были процессы либо общеуголовные, и как раз на общеуголовных процессах вещи выглядели на удивление нормальными. Т. е., по воспоминаниям коллег, которые работали в 1930-е годы в народных судах, скажем, по каким-то мелким кражам или общеуголовным преступлениям, там как раз правосудие на удивление было. Ровно потому, что у государства не было какой-то отдельной заинтересованности в том, чтобы обвиняемых по этим статьям во что бы то ни стало осудить, и судам, и, соответственно, адвокатам, позволялось работать более-менее по закону. Установочный процесс, когда какая-нибудь вновь разоблачённая группа троцкистов, бухаринцев выводится к микрофонам, обязательно в присутствии иностранной прессы, и там они действительно сами себя изобличают, после чего встаёт адвокат и говорит: "Мой подзащитный доктор, старый врач, он всю жизнь лечил людей. Пожалуйста, сохраните ему жизнь." Суд возвращается и говорит: "Нет, не сохраним. Всех расстрелять, включая вашего подзащитного."
Это действительно тон наглядный, тон очень показательный, против чего невозможно, казалось бы, спорить. Но эти вещи очень показательные как маркер того, что в предрешённых делах адвокат действительно играл роль сугубо декоративную. Но они на самом деле не отражают то, как была устроена значительная доля вот этих общеуголовных дел.
Когда мы учились, для меня было откровением то, что процент оправдательных приговоров скатился к нолю в народных судах не в 1930-е годы, а как раз в 1950-е. Как раз, когда была ликвидирована специальная система с "тройками", специальный маршрут, по которому шла репрессия. И репрессия стала волей-неволей идти через народные суды, вот там-то винты и закрутили. Как раз с 1950-х годов стала нормальной ситуация, когда судья, на которого была возложена функция тотального осуждения, которая раньше шла через "тройку", просто перестал работать, как судья. И в целом, эта картинка для России справедлива и сейчас. Она в России сохраняется, я бы сказал, на 90 % такой же. Т.е., близок к нолю процент оправданий, каждое оправдание воспринимается, как ЧП, по каждому оправданию прокуратура обязательно приносит апелляционный протест, и т.д.
Г. П.: Ілля, я знаю, що ви зверталися до організації "Остання адреса. Україна", як раз до мого співведучого Дмитра Бєлоброва, щодо встановлення пам’ятних дошок радянським репресованим адвокатам, зокрема, тут, на території України. Чи можете ви навести приклади подібних доль? За яких обставин і за що адвоката могли репресувати?
І. Н.: На самом деле, у меня нет впечатления, что адвокатов репрессировали как-то сильно иначе, чем другие категории. Просто практически до каждой структурной ячейки общества − до завода, до фабрики, до учреждения − раньше или позже докатывалась кампания по поиску "врагов". Да, понятно, что адвокат, наверно, нёс какие-то дополнительные риски. У него было больше потенциальных ситуаций столкновения с прокурором, которые могли привести к тому, что с ним лично сведут счёты. Мы понимаем, что картина репрессий 1930-х годов в минимальной степени объясняется вот этими личными счетами. Она объясняется тем, что просто система требовала определённого количества единиц, вот этих вот голов, как это ни цинично звучит. И она получала их в самых разных местах.
Когда возникла эта идея, что в рамках "Последнего адреса" (который, я думаю, что Дмитрий про это лучше расскажет, чем я, занимается, в принципе, любыми людьми, про которых известно, откуда их увели, что называется, в последний путь), мы, в рамках киевской адвокатуры в данном случае, решили, что можем предметно заняться нашими коллегами. Это тоже не очень простая функция, потому что нет каких-то отдельных выверенных списков именно адвокатов, которые были репрессированы в 1930-е годы. Приходится скорее выборочно смотреть по общим спискам и пытаться среди всех репрессированных найти конкретно адвокатов, табличками в память о которых можем заниматься именно мы. В позапрошлом году было повешено первых три таких памятных знака. Там был один адвокат, один юрист-консульт и супруга адвоката, которую репрессировали, фактически, вместе с ним. У меня нет ощущения, что кто-то из этих людей был каким-то политически значимым человеком, что он был по какой-то причине особенно интересен и особенно неприятен советской власти. Ничего подобного. Они просто попали под этот общий маховик.
Г. П.: Ілля, хотів би поставити ще запитання з приводу "двійок" та "трійок". Навіщо вони були запроваджені? Чи не могло все функціонувати в більш стандартному режимі, коли просто існує суд, там йде судовий процес. Він фейковий, але він все одно продовжується в тому вигляді, в якому він є, без використання таких, так би мовити, ревтрибуналів?
І. Н.: Ревтрибуналы − это тоже немного атавизм. Ревтрибуналы существовали на самых ранних порах. На самом деле многие вещи, включая уголовный процесс и советскую адвокатуру, вернулись не то, чтобы к норме, но к какому-то более-менее похожему на нормальный внешнему виду на фоне НЭПа, в 1920-е годы, в конце 1920-х годов. И, даже при самых жёстких установках, даже при том, что судьи к тому времени уже практически все уже были охвачены партийной организацией, а если и не были охвачены, то были так или иначе подконтрольны, даже при этом соблюдение даже элементарных формальностей (того, чтобы привести человека на заседание, открыть заседание, зачитать какой-то минимальный набор документов, чтобы суд встал на ноги и вышел совещаться, вернулся и т.д.) совершенно не допускало конвейерного способа работы. Т.е., даже при полной нагрузке, даже, если бы штаты народных судов были бы увеличены максимально, это всё равно не позволяло бы репрессировать людей сотнями ежедневно. А темп, который был взят, начиная, может быть, с 1934-1935-го года, как раз предполагал вот такую массовую, конвейерную репрессию, сотни людей. Никакие суды, работавшие по УПК, не могли с этим справиться. "Двойки", "тройки" − это мера, которая была, видимо, вынужденная с точки зрения людей, которые всё это придумали.
Д. Б.: З приводу переходу від сталінських процесів до хрущовських. Я пригадую справу Яна Рокотова, коли Хрущов фактично втрутився в процес. На початку йому дали, здається, сім років за валютні махінації, потім втрутився Хрущов і сказав, що це замало і треба довести цю справу до більш жорсткого фіналу. Як ви вважаєте, які зміни почалися за часів хрущовської відлиги, чи розпочалися вони взагалі? Чи це був, фактично, той самий сталінський варіант, але пом’якшеного типу?
І. Н.: Нет, это не был, конечно, сталинский вариант. Вообще, очень трудная и очень неблагодарная задача судить об изменениях в том, как работает система в целом, по таким-то отдельным, очень таким high profile делам, т.е очень значимым, заметным и т.д. Потому что каждое такое дело неизбежно живёт по каким-то своим индивидуальным законам. Сколько, на самом деле, могло быть таких дел в Советском союзе, в которые лично вмешивался Хрущёв? Наверное, единицы, может быть, десятки, но не больше. Это не определяет облик системы.
Облик системы определяет то, какая репрессивная нагрузка возлагается и на какие органы, как раз то, что я частично уже сказал. После того, как был ликвидирован вот этот чрезвычайный механизм, который позволял осуществлять репрессии в конвейерном режиме, когда каждый уголовный приговор обязательно должен был пройти через уголовный суд, оказались две вещи. Оказалось, что, с одной стороны, вроде как порядка стало больше. И да, мы, адвокаты, безусловно очень склонны, как сказать, вспоминая о делах прошлых лет, вспоминать скорее достижения, чем неудачи. Поэтому в мемуарах советских адвокатов, которые работали в 1950-1960-е годы, вы прочитаете о случаях, когда им удавалось... Оправдания − это редкие случаи, но были и оправдания. Удавалось, например, возвратить дело на дорасследование и там его прекратить, добиться отмены или смягчения наказания, добиться того, чтобы человека вернули из закрытого психиатрического учреждения и т.д. Таких случаев вы найдёте больше, чем, наверное, их было в среднем по пропорции дел. Но колоссальным минусом, который, опять же, дожил до наших дней, является то, что, поскольку суд стал единственным источником репрессий, он заразился идеей того, что ему необходимо работать в жёсткой связке с прокурорским и со следственным аппаратом. И интересы этого прокурорского и следственного аппарата, а именно − отсутствие скандальности, отсутствие оправданий, которые означают, что следователи и прокуроры сработали некорректно или, тем более, со злым умыслом и т.д. − судьи воспринимают очень чувствительно.
Т.е., типичная ситуация, которая у нас есть сегодня, и вот это началось именно при Хрущёве, именно в 1950-е годы, заключается в том, что судья, видя, что ему принесли дело, в котором нет достаточных доказательств или вообще нет никаких доказательств, тем не менее думает, прикидывает: "Что будет, если я по этому делу вынесу оправдание? Наверно, прокурор пойдёт жаловаться. Приговор отменят. А раз приговор отменят, значит в моё личное дело пойдёт негативная статистика, что на один мой приговор больше отменили. Нужно ли мне это?" И зачастую оправдание маскируется мягким приговором. Сколько угодно таких примеров, даже из последних лет из российской практики я могу вам привести.
Г. П.: А в українській практиці (ви ж все-таки працюєте зараз в Україні як адвокат), з того, що ви знаєте, ситуація така сама, чи є все ж відмінності?
І. Н.: Нет, она всё-таки гораздо лучше. При том, что Украина и Россия начинали более-менее с одной стартовой точки, но за время, прошедшее с 1991 года, двигались всё-таки немного в разные стороны. Не в диаметрально разные, но в разные. И пусть не покажется кому-то, что я чрезмерно перехваливаю украинскую судебную систему, но я бы сказал, что от самых главных пороков советской и постсоветской российской судебной модели она скорее свободна.
В России и в Советском союзе государство считало, что оно судей контролирует оптом. Т.е., была бы крайне удивительной ситуация (они такие бывали, конечно, но крайне редко), когда судья начал бы артачиться. Когда он начал бы делать то, чего от него не ожидают. В Украине такие вещи происходят. И я не хочу сказать, что всё идеально, и адвокатам во всех случаях удаётся добиться того, чтобы их услышали, когда им есть что сказать судьям. Но, по крайней мере, в Украине работать адвокату − мне есть, с чем сравнивать − намного проще, чем в России, и намного выше результативность. Нас, по крайней мере, не могут так игнорировать или слушать, что называется, с заранее закрытыми ушами, заранее понимая, что никакой наш аргумент не подействует. Нас слушают, не всегда слышат, но, как правило, слушают. Это, конечно, две большие разницы.
Г. П.: Коли за радянських часів можна говорити про те, що адвокати перетворювалися чи перетворилися на повноцінних учасників судових процесів? Коли вони не відігравали ту роль, яка була їм зрежисована, а могли реально впливати на прийняття рішення?
І. Н.: Вообще говоря, возможность на что-то влиять у адвоката была всегда. Другое дело, что адвокат, который пожелал бы воспользоваться ей системно, часто или пожелал бы воспользоваться ей в каком-то особенно чувствительном для власти деле, конечно, рисковал бы лично. Как пример можно привести историю с группой адвокатов, которая защищала советских диссидентов. Там были такие три очень яркие фигуры: Борис Золотухин, Софья Каллистратова, Дина Каминская. И все они, так или иначе, вынуждены были отойти от этой работы. Т.е., именно потому, что они позволяли себе вести защиту не так, как этого ожидали бы в обычном случае от обычного адвоката... Ожидали бы что? Что адвокат бы встал и сказал что-то очень нейтральное. Что да, конечно, моего подзащитного обвиняют в распространении клеветы на советскую власть, это всё очень плохо, неправильно. Но давайте, товарищи, примем во внимание, там, возраст, заслуги и прочее, прочее, и как-нибудь помягче. Это было нормально. Ненормально было (хотя, конечно же, именно этим и должен был заниматься настоящий защитник) обсуждать вообще, есть ли там клевета на советскую власть? Почему клевета на советскую власть криминализирована? Что это за власть, на которую можно наклеветать, просто перечислив факты? И т.д., и т.д. Вот такая тактика, естественно. возможна для адвоката, поскольку ему дают выступать на процессе, любой адвокат, в принципе, может такое сказать. Но нужно понимать (и это понимали), что сказать такое можно не очень много раз. Если не на первый, то на второй будут сделаны оргвыводы. Тебя либо вовсе исключат из адвокатуры, либо, поскольку распределение адвокатов по делам осуществлялось органами адвокатских коллегий, которые тоже отчитывались по партийной линии, такого адвоката просто не будут назначать на дела, чувствительные для администрации.
Д. Б.: І наостанок в нашому першому блоці хотів би поставити запитання. Ви неодноразово казали, що вашим вчителем ви вважаєте Генрі Марковича Резника, легендарного адвоката радянського, а пізніше − російського. В нього була цитата в "Новой газете" нещодавно: "Когда адвокат входит в заказное дело, политически или коррупционно мотивированное, он осознаёт, что всё предопределено. Но сама по себе защита не теряет значимости". Могли б ви прокоментувати цю фразу та додати ще й те, що для нього було найголовнішим в радянському адвокаті, що він вважав найголовнішим?
І. Н.: Как раз с Генри Марковичем, при том, что я его безмерно уважаю, мы последние пару лет несколько расходимся на взглядах на то, какой должна быть адвокатура в России сегодня. Потому что адвокатура в России сегодня во многом сталкивается с теми же проблемами. Мы сталкиваемся с вопросами нашего выживания как корпорации и сохранения каких-то наших базовых ценностей. Генри Маркович считает, как я понимаю его позицию, что сейчас скорее нужно выжить, а потом уже заниматься восстановлением какого-то наследия. Ну, или он считает, что всё не так уж плохо. Я считаю, что всё достаточно плохо, и что выживать физически как организация, не настаивая на том, что мы должны заниматься тем, чем мы считаем правильным заниматься, не имеет никакого смысла.
В контексте того, о чём вы говорите, я бы сказал так: защита вообще состоит из разных вещей, и это во многом зависит от человека, которого мы защищаем. Кто-то хочет, и большинство людей, наверное, которые попали в такой жёсткий переплёт, хотят, чтобы их страдания были сведены к минимуму. Они просят, чтобы адвокат сделал что-нибудь, чтобы им помочь. Если их могут осудить на десять лет, чтобы это было не десять, а пять, или, может быть, условно, или, может быть, штраф. И тогда мы, конечно, работаем по этой линии. И тогда адвокату высказывать что-то такое, что дополнительно раздражает администрацию или вызывает конфликт с прокурором, опасно с точки зрения интересов своего доверителя. Но именно по политическим делам часто бывают ситуации, когда доверитель соглашается, ему это тоже важно, что некоторые важные, принципиальные вещи должны быть сказаны вслух. И не всегда человек может сказать их сам. И в этом случае адвокат как раз очень важен, во-первых, как средство коммуникации с внешним миром. Не нужно забывать, что до суда, как правило, люди по многу месяцев проводят в предварительном заключении, и часто адвокат для них − единственное связующее звено с внешним миром. Потому что они в лучшем случае могут смотреть телевизор, но по телевизору не скажут ничего важного для них, по телевизору они не услышат своих родных, о состоянии дел и т.д. Но когда приходит время суда − да, есть важные вещи, которые должны быть сказаны вслух для будущего, для истории, как хотите, для современников, для единомышленников. И да, адвокаты в этом случае, конечно, бывают незаменимы.
Я, наверное, последнее, что скажу − есть цитата, которую очень любят наши следователи − российские, и, наверное, советские тоже любили. Цитата из Ленина, о том, что адвокат − это интеллигентская сволочь, которая часто паскудничает, и поэтому его нужно держать в ежовых рукавицах. Но это цитата, которая, наверно, проецируется так, что Ленин, когда он пришёл к власти, пришёл к выводу, что адвокатуру нужно держать в ежовых рукавицах. На самом деле, она высказана гораздо раньше. Она написана в письме своим товарищам, когда Ленин ещё боролся и сам сидел в царских тюрьмах. И она относилась к тому, что, если уж вы занимаетесь политической борьбой, то не нужно позволять вашему адвокату смягчить эти ваши условия. Нужно его заткнуть, отодвинуть в сторону, встать на скамье подсудимых и сказать какие-то важные партийные тезисы. Поэтому адвокаты, которые защищали большевиков, и меньшевиков, и эсеров, естественно, работали, исходя из того, что нужно обеспечить для своего клиента максимально мягкий приговор или максимально мягкие условия. Поэтому в такого рода делах бывает и так, что объективные интересы человека, интерес того, чтобы он как можно меньше времени провёл в тюрьме, противоречат тому, что он сам для себя хочет. В такой ситуации адвокату волей-неволей приходится подстраиваться, потому что решает всё равно всегда сам доверитель, сам клиент.
Г. П.: Дякуємо вам. Нагадаю, Ілля Новіков, адвокат, був нашим співрозмовником.
Друга частина програми «Антикульт» − інтерв’ю з Євгеном Захаровим.