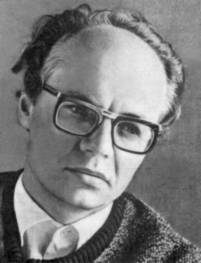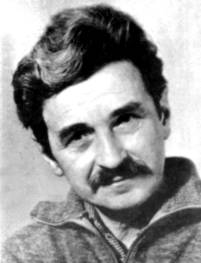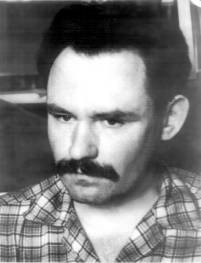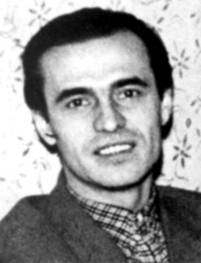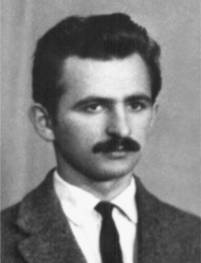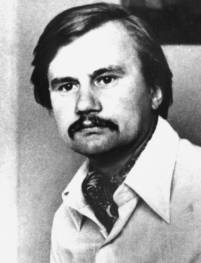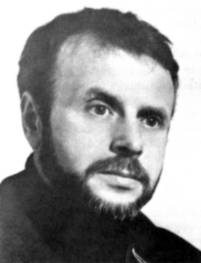Творчеством шестидесятников интересовались все слои населения Украины: интеллигенты, рабочие, крестьяне. Поэты-шестидесятники печатались, и их книги пользовались большим спросом, а выступления собирали полные аудитории. Экспозиции художников посещало большое количество людей. Украинское народное искусство и музыка приобрели невиданную доселе популярность.
Шестидесятники устраивали литературные чтения на частных квартирах, проводили разнообразные литературно-художественные мероприятия. Популярными местами их встреч были мастерские Аллы Горской, Ивана Гончара и других художников.
Но, как сказал Касьянов, «Культурничество... во-первых, было начальным этапом идейного созревания шестидесятников, во-вторых, оно требовало организации».[1]
Центром шестидесятников стал Клуб творческой молодёжи (КТМ) в Киеве. Он был основан в 1960 году (формально под эгидой городского комитета комсомола). При клубе организовались секции кино, театральная, писательская, художественная, музыкальная. Театральная секция превратилась в неофициальный «Второй украинский театр», а при музыкальной организовали первый в Киеве джазовый ансамбль. КТМ стал самым любимым местом встреч нового поколения интеллигентов[2].
Президентом клуба был избран молодой режиссёр Лесь Танюк. С самого начала деятельность клуба выходила за рамки дозволенного. Во «Втором украинском театре» проходили спектакли полузапрещённых Н. Кулиша и Б. Брехта[3]. Экспозиции художников порой были настолько нестандартными и смелыми, что их запрещали ещё до начала. Был случай, когда работники горкома партии собственноручно снимали картины С. Отрощенко, на которых были изображены карпатские церкви, впоследствии уничтоженные[4].
Стихи Василия Симоненко, Ивана Драча, Лины Костенко, Николая Винграновского были очень популярны, на литературных вечерах они вызывали без преувеличения фурор своей смелостью, новизной, мастерством.
Одной из главных задач тоталитаризма было отгородить народ от его собственной истории, сфальсифицировать её, исказить. Можно представить, какую важную роль в таких условиях играли альтернативные лекции по истории Украины, которые абсолютно не вписывались в рамки государственной доктрины – их читали историки Михаил Брайчевский и Елена Апанович. Такое направление работы клуба, как творческая реабилитация репрессированных в 30-е годы деятелей искусства и изучение исторического прошлого, были априори неприемлемыми для режима[5].
Несмотря на всё это, деятельность КТМ в начале его существования была сугубо культурнической и каких-либо серьёзных препятствий власть ему не чинила.
Ситуацию изменили поэты, критики и публицисты – Иван Свитлычный, Иван Дзюба, Евгений Сверстюк, и художники – Алла Горская, Людмила Семыкина, Виктор Зарецкий и другие деятели искусства. Можно согласиться с Г. Касьяновым, что именно благодаря им деятельность КТМ приобрела новый смысл – не только культурно-художественный, но и общественный. Ярким примером этого были литературно-художественные вечера. Стоит вспомнить вечера памяти Л. Курбаса и Н. Кулиша, А. Петрицкого, И. Франко и Леси Украинки, вечер памяти Василия Симоненко, который умер в 1963 году. Ежегодно проводились Шевченковские вечера. Все они выходили за рамки культурничества и были важными общественными событиями, в которых уже ощущалось откровенное противостояние режиму.
«Была очень интересная жизнь в то время в Киеве, – вспоминает Надежда Свитлычная, – Клуб творческой молодёжи я застала ещё тогда, когда приезжала в гости к Ивану, а когда переехала в 1964 году, его как раз тогда разгоняли. Я застала ещё последний вечер Шевченко в марте в Октябрьском Дворце – это был необычайный вечер. Алла Горская делала тогда на него приглашение… оно складывалось гармошкой пять на пять частей, и на каждой частичке было написано название какого-то произведения или какая-то цитата Шевченко, и когда перелистывалась последняя страница, то рядом получалось две записи, то есть на двух страничках, но они оказывались рядом. И было такое: «Караюсь, мучуся, але не каюсь», а рядом: «В сім’ї вольній, новій». Потом те приглашения сразу же, даже уже в тот вечер, и позже, во время обысков, изымали, но у меня оно сохранилось. Программа была очень интересная: был только Шевченко. В отличие от сегодняшних болтунов, там никто никаких докладов не произносил, никто не читал своих произведений, а только Шевченко, и то три поэмы: «Сон», «Кавказ» и «І мертвим і живим...». Читал Пономаренко… Впечатление было необычайное. Атмосфера была просто наэлектризована, и когда власти, которые, конечно же, там были, почувствовали, что это может закончиться не знать чем, и что эти люди понесут с собой из Октябрьского дворца... Такой молчаливо наэлектризованный зал был, и слова: «Раби, підніжки, грязь Москви, варшавське сміття ваші пани...» – и так далее... Реакция была взрывная»[6].
Осенью 1962 года при клубе была создана комиссия для проверки слухов о массовых захоронениях жертв репрессий в Быковне. «Члены комиссии – Л. Танюк, А. Горская и В. Симоненко приехали в Быковню, – описывает Г. Касьянов. – Первое, что они увидели – детей, которые играли в футбол человеческим черепом. После детального осмотра выяснилось, что в черепе была дыра от пули. Рассказы местных жителей дополнили ужасную картину»[7]. В городской совет был составлен меморандум с требованием создать государственную комиссию для расследования этого преступления сталинизма и установить в Быковне памятник жертвам репрессий. Г. Касьянов считает, что именно «этим шагом активисты КТМ окончательно переступили черту дозволенного»[8].
Переход от исключительно культурнической к общественной деятельности не мог не вызвать реакции со стороны режима. С осени 1962 года начали набирать обороты внесудебные репрессии против активистов КТМ: запрет спектаклей, экспозиций, литературных вечеров, слежка, угрозы, профилактические беседы, и даже избиения. Леся Танюка отстранили от руководства и формально избрали президентом клуба Виктора Зарецкого, хотя фактически Танюк продолжал руководить[9].
В 1962 году киевские поэты И. Драч, Н. Винграновский, Д. Павлычко и критик И. Дзюба поехали во Львов, где провели вечера в Союзе писателей и в университете.
Михаил Горынь вспоминает один из таких вечеров: «Драч Иван – молодой парень, которому было тогда всего 25 лет, прочитал своё стихотворение «Куди йдемо». Это было уникальное стихотворение, чрезвычайно смелое. И просто чудо, как тот молодой парень, рождённый на Приднепровье, член партии, отваживался выступать с таким программным, я бы сказал, стихотворением:
Куди йдемо? Яка нас хвиля
Жене на кам’яні вітри?
Якого виґвалтуєм звіра,
Щоб з ним загинуть допори?
Атомні цвяхи, мудрі бляхи
І філософські манівці,
І сита морда костомахи
З кривавим прапором в руці.*
*Куда идём? Какая нас волна / Гонит на каменные ветры? / Какого изнасилуем зверя, / Чтоб с ним погибнуть до поры? / Атомные гвозди, мудрые бляхи / И философские окольные пути, / И сытая морда костолома / С кровавым флагом в руке. (Подстрочный перевод)
Образ смерти, которую всегда рисовали как костлявую, а тут морда смерти стала с флагом не красным, а кровавым, вызвал... чрезвычайно живую реакцию у львовской аудитории, которая была, конечно, антисоветски настроена»[10].
В том же году во Львов приехали Лесь Танюк и Алла Горская. Они пытались поставить в театре им. М. Заньковецкой спектакль Н. Кулиша «Отак загинув Гуска». Спектакль запретили, а Танюку предложили в течение суток покинуть город[11].
Вскоре во Львове возник свой Клуб творческой молодёжи – «Пролисок». Его возглавил литературовед, аспирант Львовского университета Михаил Косив. Туда вошли психолог Михаил Горынь, его брат, искусствовед Богдан Горынь, студент исторического факультета Иван Гель, преподаватель университета Михаил Осадчий. Позже к «Пролиску» присоединились поэты Игорь Калинец, его жена Ирина Стасив-Калинец, поэт Григорий Чубай, художница Стефания Шабатура и другие.
В отличие от киевлян, западноукраинские шестидесятники были априори убеждёнными антисоветчиками, имели эмпирический опыт столкновения с большевистской тоталитарной машиной, и многие из них сначала склонялись к подпольной и даже вооружённой борьбе по образцу ОУН-УПА.
Иван Гель в интервью говорит: «Я был сторонник не только борьбы словом, но и вооружённой борьбы. И считал, что борьба словом это что-то такое – интеллигентская выдумка»[12].
Но во время культурной интеграции между Киевом и Львовом киевляне доказали приоритет борьбы словом в данных исторических условиях. Львовяне в свою очередь открыли им глаза на те ужасы, которые творила советская власть, захватив Западную Украину, на деятельность ОУН-УПА и т.п.
Как свидетельствует Михайлина Коцюбинская, настоящим «живым мостиком» между Киевом и Львовом был Иван Свитлычный[13]. Один из самых известных молодых поэтов и критиков-нонконформистов, он был генератором идей и духовным лидером шестидесятников. Михаил Горынь вспоминает, что именно «Свитлычный предложил легальную форму борьбы – открыто говорить то, что мы думаем о существующем режиме»[14]. Также именно он установил контакты с украинской диаспорой на Западе.
С 1963 года большинство литераторов-шестидесятников прекратили печатать. Ответом на эти меры властей было распространение произведений в самиздате и тамиздате. Сначала шестидесятники печатались в Чехословакии и Польше, а затем в Западной Европе, США, Канаде. Таким образом культура шестидесятников стала знакомой западному читателю. Большую роль в этом процессе сыграл Мюнхенский журнал «Сучасність». О шестидесятниках начали говорить «вражеские голоса» – «Свобода», «Би-Би-Си», «Голос Америки».
В самой Украине ещё некоторое время могли печататься критики Иван Свитлычный, Иван Дзюба, Евгений Сверстюк и другие, но вскоре и это было прекращено советской цензурой. Были случаи, когда известные литераторы печатались под чужой фамилией или псевдонимом. Где-то с 1963-го года начинается активное изготовление и распространение самиздата, которое имело черты организационной деятельности. Как сказал Иван Гель в интервью: «Создаётся такая цепь: киевляне... Горыни, Гель – мы ищем борьбы. И я уже активно начинаю изготавливать и распространять самиздат»[15].
Как свидетельствует М. Горынь, тогда в самиздате появилось много антибольшевистских статей. Сначала политически беззубые, осторожные, такие, как «Мысли и размышления смущённого читателя». Но уже в 1964 году появились работы с острой критикой режима, например, «Украинское образование в шовинистической удавке», «Состояние и задачи украинского освободительного движения», «Вывод прав Украины», «Украина и украинская политика Москвы», статья о процессе над Погружальским, который поджёг библиотеку в Киеве и т.п. «Их появление уже говорило о том, что сформировалось такое просветительское, культурно-художественное политическое движение»[16].
По словам Ивана Геля львовяне сформулировали свою программу как «Борьба за государственность Украины», тогда как киевляне сосредоточились на защите прав человека и культурных прав нации[17].
Клубы творческой молодёжи открывались по всей Украине, в частности в Одессе и Днепропетровске. Создавались диссидентские ячейки шестидесятников во всех крупных городах Украины.
Очень быстро все эти ячейки оказались под колпаком КГБ. Начались гонения, моральное давление, слежка, обыски и наконец аресты. По воспоминаниям шестидесятников открытая, демонстративная слежка за ними началась после прихода к власти Брежнева. Слухи из КГБ о возможных судебных репрессиях были и раньше.
Михаил Горынь вспоминает: «Летом 1964 года приехал во Львов Иван Драч... И он говорил: «Вы знаете, Михаил, я имел разговор с кагэбэшником одним, и он говорит, что вас будут брать...» Но прошло время, нас не брали. Мы продолжали свои работы. Нас взяли лишь после того, как в октябре пришёл к власти Брежнев и началась подготовка разгрома того движения, которое возникло на почве, так сказать, хрущёвской оттепели»[18].
Это объясняется ещё и тем, что среди советского партийного руководства были люди, которые сочувствовали шестидесятникам и пытались ввести их в рамки, дозволенные режимом, чтобы из Москвы не было указания применить репрессивные меры. Например, Пётр Шелест – первый секретарь ЦК КПУ – пытался ограничиться «идейными» мерами против оппонентов официального курса. Когда Иван Дзюба написал свою программную работу «Интернационализм или русификация?» и направил её как приложение к заявлению по поводу национальной политики, по приказу Шелеста она была размножена и распространена для ознакомления среди высоких партийных чинов на уровне секретарей обкомов. Есть версия, что написать эту работу Дзюбе предложил секретарь ЦК КПУ по вопросам идеологической работы Андрей Скаба[19]. Итак, только после указания из Москвы в конце августа – начале сентября состоялись первые аресты. Очевидно, автором этого указания был непосредственно тогдашний кремлёвский «серый кардинал» Михаил Суслов.
На момент арестов движение шестидесятников вышло на уровень общественного противостояния режиму и стало базой дальнейшего движения сопротивления.
«Мы основали совсем другой принцип культурной жизни, утвердили. И это была другая мораль, другая этика… – рассказывает Евгений Сверстюк, – я думаю, что если говорить о нашей середины шестидесятых годов оппозиции – это была моральная оппозиция – наверное, это была этическая оппозиция – наверное, это была эстетическая оппозиция – наверное. И это была наполовину идеологическая оппозиция*. Что же касается политической или религиозной оппозиции, то этого мы избегали, и избегали вполне сознательно – это было совершенно бесперспективно»[20].
[1] Касьянов Г. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960-1980-х років. – К.: Либідь, 1995. – С. 18.
[2] Там же. – С. 19.
[3] Там же. – С. 19.
[4] Там же. – С. 19.
[5] Там же. – С. 19.
[6] Аудиоинтервью с Н. Свитлычной. – Взято В. Овсиенко, 1998 // Архив ХПГ. – С. 2.
[7] Г. Касьянов. Цит. соч. – С. 21.
[8] Там же. – С. 21.
[9] Там же. – С. 21.
[10] Аудиоинтервью с М. Горынем. – Взято Б. Захаровым, 1997 // Архив ХПГ. – С. 4.
[11] Г. Касьянов. Цит. соч. – С. 21.
[12] Аудиоинтервью с И. Гелем. – Взято Б. Захаровым, 1997 // Архив ХПГ. – С. 4.
[13] М. Коцюбинская. «Доброокий» // Доброокий. Спогади про Івана Світличного. – К.: Видавництво «Час», 1998. – С. 108.
[14] Аудиоинтервью с М. Горынем. – Взято Б. Захаровым, 1997 // Архив ХПГ. – С. 5.
[15] Аудиоинтервью с И. Гелем. – Взято Б. Захаровым, 1997 // Архив ХПГ. – С. 4.
[16] Аудиоинтервью с М. Горынем. – Взято Б. Захаровым, 1997 // Архив ХПГ. – С. 5.
[17] Аудиоинтервью с И. Гелем. – Взято Б. Захаровым, 1997 // Архив ХПГ. – С. 4.
[18] Аудиоинтервью с М. Горынем. – Взято Б. Захаровым, 1997 // Архив ХПГ. – С. 5.
[19] Алексеева Л. Цит. соч. – С. 16.
* Далее в интервью Е. Сверстюк объясняет, что «наполовину идеологическая оппозиция» потому, что диссиденты в этот период пытались полемизировать с режимом в рамках их системы понятий, а не создавали альтернативную идеологическую, политическую систему.
[20] Аудиоинтервью с Е. Сверстюком. – Взято Б. Захаровым, 1997 // Архив ХПГ. – С. 11.