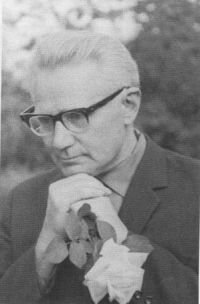
СОХРАНИТЬ В СЕБЕ ЧЕЛОВЕКА...
Интервью Ивана Бенедиктовича БРОВКО
Записал 8 ноября 1998 года Василий Овсиенко.
С устными и письменными дополнениями в декабре 2004 года.
И. Б. Бровко: Я благодарю судьбу, дарованную мне Богом, которая дала мне возможность прожить долгую и нелёгкую жизнь в течение почти всего XX столетия. Ведь родился я ещё при царизме, в 1915 году, 15 января, в селе Маячка Кобелякского района на Полтавщине. Родился в обычной семье хлеборобов, у которой было 5 гектаров земли. Землю обрабатывали мы вдвоём — мама и я. Отец служил на флоте во Владивостоке и редко бывал дома.
Мой отец Венедикт Андреевич Бровко, мать Наталия Федосеевна Карпенко. Их судьба была такой же, как и судьба всех украинцев тех времён.
В 1928 году отец вернулся с флота, где служил около 10 лет на корабле. Он решил заняться сельским хозяйством. Построил новый дом, посадил сад, выкопал колодец в саду. Пяти гектаров было достаточно, чтобы жить независимо и культурно. Но когда началась насильственная коллективизация, отец отказался идти в колхоз. Тогда приехала группа комсомольцев, забрала корову, кобылу, зерно — всё вымели. Мы остались без еды. Нечего было есть и нечем было работать. Скот в колхозе никто не кормил, не поил, и он начал дохнуть. Наша корова как-то отвязалась и дня через три пришла домой. Мы обрадовались, особенно мать, что вернулась наша кормилица. Но под вечер снова пришли два комсомольца и забрали её.
Отец решил вернуться на флот. Где-то в мае 1933 года он попрощался с нами, мы провели его за село — и с тех пор о нём нам ничего не известно. После войны я писал в КГБ в Полтаву, в Киев, в Москву, но ответ был один: «Сведений нет». Так что я и не знаю, как отец закончил свою нелёгкую жизнь.
Когда отец уехал, мать вынуждена была пойти в колхоз. После войны в 1944 году она с моей младшей сестрой Верой переехала в Кобеляки. Демобилизовавшись из армии в 1948 году, я забрал маму в Киев. Здесь она и умерла в 1977 году. Похоронена на Лесном кладбище, недалеко от Б. Д. Антоненко-Давидовича. Всегда, когда иду на кладбище, то первым делом захожу к Борису Дмитриевичу, кладу цветы на могилу, а потом, уже дальше, к маме.
У отца было трое братьев: Пётр, Саша, третий был мой отец Венедикт, самый младший Алексей. Мы казацкого рода, никогда не были крепостными. Все четверо братьев были физически здоровы, никогда не болели. Все были зажиточными, имели по 5–6 гектаров земли, хорошие дома, сады, одевались по-модному. Ни один не пошёл в колхоз.
Отец мамы, мой дед Карпенко Федосий Иванович, был тоже рослый и красивый. Когда его призвали в армию, то зачислили при царском дворе в охрану. Туда брали парней только хорошо сложенных и красивых. Рассказывал дед, что на Рождество и на Пасху к ним всегда выходила сама царица, поздравляла всю охрану, раздавала подарки и целовала.
Дед Карпенко Федосий отслужил, вернулся в село Канавы, возле Маячки, и был учителем в сельской школе. Все его шесть дочерей закончили школу, в которой он учительствовал, были грамотными. Мама моя свободно читала и писала. Вот её портрет. Не по-сельски одета...
У деда Федосия была солидная библиотека, он выписывал газеты, журналы, завёл сад. Такой сад, что к нему приезжали агрономы со всей области учиться. Яблони, груши, виноград был! Когда случилась революция, то дед во времена Грушевского и Петлюры возглавил власть Кобелякского уезда.
Из библиотеки деда Карпенко у меня до сих пор есть Библия. Он подарил её мне, ещё когда я был учеником. С тех пор я вожу её с собой.
Дед был человеком высокой культуры, очень начитанный, знал многих выдающихся людей Украины. Со временем сад его коллективизировали, всё там погибло. Погибла и библиотека. У него был гектар сада, а вокруг тополя, и такие высокие, что их было видно из села Маячки. Когда я шёл к деду, то издалека видел их. Я у деда Федосия часто бывал, он рассказывал мне об Украине. Что ему не нравилось — что я разорял сорочьи гнёзда. Он мне «мораль» читал.
Итак, у нас было 5 гектаров земли, и обрабатывали мы её с мамой. Это был для нас очень тяжёлый труд, но мы не были бедными. И всё же мама всю жизнь мечтала видеть меня не фермером (как теперь говорят), а фельдшером.
В 1930 году я окончил 7 классов в Маячке, поехал в Харьков и поступил в медицинский техникум. Но, к сожалению, не суждено мне было стать медиком. Учился я, получал стипендию. И вот меня вызывают и говорят: «В ваших документах значится, что ваши родители середняки». А это уже был, по тем временам, солидный социальный «грех». За этот «грех» меня лишили стипендии, а через полгода и вовсе исключили из техникума.
Вернулся я домой, а дома у мамы не было ни денег, ни хлеба... А учиться мне очень хотелось, и не только потому, что этого хотели и мои родители, а ещё и потому, что этого же хотел и мой дорогой учитель Григорий Васильевич Левицкий, учитель украинского языка и литературы в школе, где я учился. Именно он, учитывая мою довольно неплохую память, советовал моим родителям не останавливать моё обучение после семилетки, а обязательно продолжить его дальше, вплоть до высшего образования.
Советы Григория Васильевича я воспринял как жизненный завет для себя и выполнил его полностью.
А теперь несколько слов о самом Григории Васильевиче Левицком. Его родовые корни уходят в XVII век. Он был родственником Ореста Левицкого, академика, президента Украинской Академии Наук после революции 1917 года.
Его дальними родственниками были также Дмитрий Левицкий, художник мировой славы XVIII века, а также Григорий Левицкий, известный гравёр XVIII века. Все они, в том числе и Григорий Васильевич, родом из Маячки. При советской власти их почему-то замалчивали, а теперь их популярность быстро растёт. В 2002 году в Маячке открыт памятник Левицким — знаменитым украинцам, которые так много сделали для украинской и мировой культуры.
Таким был и мой незабвенный учитель Григорий Васильевич Левицкий, который не меньше сделал для воспитания национального самосознания и достоинства у украинской молодёжи послереволюционного периода. К сожалению, дальнейшая судьба его сложилась так же трагически, как и судьба всех украинцев, кто в советские времена любил Украину, жил и работал для неё.
После исключения меня в 1931 году из медучилища я, не теряя времени, прямо из Харькова поехал в город Червоноград, что на Харьковщине. Там я сдал экзамены в педагогический техникум. Там была стипендия.
Но не суждено мне было окончить и педтехникум. Осенью 1932 года на Украине начался голод. Я вместе с другими студентами бросил учёбу и поехал домой. 60 километров шёл пешком до Царичанки на Днепропетровщине. Шёл и искал под снегом мёрзлую кукурузу — так есть хотелось...
В Царичанке меня назначили учителем семилетней школы в село Рудки. Так педагогом я и остался на всю свою жизнь, пройдя путь от учителя начальной школы до преподавателя университета.
Всего пришлось мне пережить на своём долгом жизненном пути. Чем жила Украина — тем жил и я. Какова была судьба Украины — такова была и моя судьба. Я был свидетелем и участником всех её, или почти всех, трагических и героических событий.
Видел и перенёс на себе три страшные войны — польскую, финляндскую и так называемую Великую Отечественную — от первого и до последнего дня. Ранен, контужен... Видел и пережил три не менее страшных по человеческим жертвам голодомора — в 1921, в 1933 и в 1947 годах. Правда, последний, в 1947 году, мне не довелось физически переживать — я его просто видел. Был также свидетелем и жертвой, как и мои родители, тотальных коммуно-фашистских репрессий на Украине. Видел и участвовал в разного рода реконструкциях и перестройках — сталинских, хрущёвских, горбачёвских. Но самое главное и самое радостное событие в моей жизни, до которого довелось мне дожить и в котором суждено было принимать активное участие, — это развал СССР и рождение независимой Украины, так долгожданной и так дорого оплаченной.
7 ноября 1998 года в Киеве я был участником митинга патриотических украинских сил на Михайловской площади у памятника жертвам голодомора. Основное, что я вынес из этого митинга, — это ощущение того, что патриотические силы Украины начинают, наконец, брататься, объединяться, как об этом писал когда-то Шевченко, ставить перед собой одну-единственную и самую главную цель — общими силами уберечь независимость Украины. Ведь теперь всем нам известно, что решающей причиной утраты нашей независимости в прошлом был наш раздор в самые ответственные моменты борьбы за независимость. Так было во времена Хмельницкого, и во времена Мазепы, и при Симоне Петлюре. Так что будем беречь нашу независимость!
Я хотел бы остановиться на нескольких эпизодах из своей жизни из довоенных, военных и послевоенных времён, которые, на мой взгляд, помогли мне разобраться в жизни, не потерять того, что генетически заложили в меня мои родители и мои дедушки и бабушки.
Эпизод первый. Это было где-то в 1919 или в 1920 году. Помню, как в воскресенье после завтрака мой дедушка Андрей Бровко — высокий, весь белый, в белой полотняной рубахе и белых штанах, — взял меня за руку, вывел со двора и остановился у тропинки, которая круто спускалась вниз. Справа и слева от тропинки зеленел наш сад. Дальше за садом зеленел наш огород, а дальше виднелись луга, озёра, зеленели лозы, а за ними блестела река Орель — кстати, прекрасно воспетая поэтом Яковом Щоголевым. А с правой стороны Орели начиналась высокая и длинная степная гора.
– Видишь реку Орель? – спрашивает меня дедушка.
– Вижу, – отвечаю я.
– А гору возле Орели видишь?
– Вижу.
– Так вот, на той горе когда-то, очень давно, лет триста назад, стоял высокий маяк, построенный из дерева. Там, на том маяке, была площадка из досок, на которой несли стражу казаки, пристально смотрели за Орель, потому что именно оттуда, с юга, нередко набегали из Крыма татары, ловили людей, молодых парней и девушек, забирали коней и гнали в Крым, чтобы там молодых украинцев продать за деньги туркам. Поэтому наше село, где живут твой дедушка, твоя мама и отец, где и ты живёшь, называется Маячка — от слова «маяк». Правда, теперь уже нет того маяка, его разрушили и сожгли. Но название села так и осталось — Маячка».
Признаюсь, это был первый урок в моей жизни. Но как интересно дедушка Андрей открыл мне глаза на родное село и дал понять слова «маяк», «Маячка», «украинцы». Потом уже, после войны, когда я сам стал дедушкой, я побывал в своей Маячке с сыном Виктором, с внуком Мирославом, и я им о том же маяке, о Маячке, о ясыре рассказывал так же, как когда-то мой дедушка рассказывал мне.
Эпизод второй. Во времена гражданской войны мне посчастливилось собственными глазами увидеть три армии: Петлюры, Махно и Красную армию. Первой была армия Петлюры. Было это летом, какого года — не помню. Помню, как после завтрака я выскочил из хаты, залез, как всегда, на ворота, и вдруг увидел: соседский двор заполнен солдатами и лошадьми. Одни поили коней, другие седлали их, и все дружно пели песню «Засвіт встали козаченьки». Напоив коней, они сели на них, попарно выехали со двора на улицу и направились в сторону Полтавы. Меня поразило то, как красиво они были одеты: высокие шапки с красными китайками, цветные жупаны. Я прибежал в хату и спросил маму:
– Что это за солдаты?
Мама ответила:
– Это казаки армии Петлюры. – И добавила:
– Это те воины, которых любят и уважают твои папа и дедушка.
Тем же летом мне довелось увидеть и армию Махно. В погожие дни я часто перебегал улицу, перелезал через плетень и бежал во двор к соседям, чтобы встретить там своего ровесника Максима и поиграть с ним. Так было и на этот раз. Но вернуться домой я уже не смог. После обеда по моей улице пошли отряды кавалерии. Кавалеристы были одеты во всё чёрное, в руках они держали чёрные знамёна, за ними ехали чёрные тачанки. Уже вечерело. На противоположной стороне улицы стояла моя мама, ожидая, когда пройдёт войско, чтобы забрать меня домой. Когда поздно вечером мы заходили во двор, я спросил:
– А как зовут этих солдат?
– Это махновцы. А кто они — наши друзья или враги, я и сама не знаю.
Но чаще всего мне приходилось видеть Красную армию. Мне запомнился такой эпизод с конца гражданской войны. Стояла поздняя осень. Я проснулся рано. Мамы в хате не было, сестра крепко спала, а на улице творилось что-то необычное: шум, крик, грохот. Я посмотрел в окно и увидел: весь двор запружен красноармейцами. Кто стоял, кто сидел, а многие и лежали. На головах у них были будёновки, а на ногах у многих вместо сапог обмотки. Посреди двора стоял большой котёл, под ним горели дрова, а в котле кипела вода. В хату забежала мама и, схватившись руками за голову, сказала:
– Переловили всех наших кур и гусей, порезали и заставили меня варить им борщ и жарить мясо. Как же мы будем жить дальше?
То же самое они сделали и у соседа, который был богаче нас. К сожалению, этот вопрос в советские времена стал привычным. Достаточно только вспомнить три голода: 1921 года, 1933-го и 1947 года. Особенно 1947-го, ведь он воспринимался как расплата коммунистов украинскому народу за всю пролитую в Великой Отечественной войне кровь.
Эпизод третий: как я впервые услышал русскую речь. Это было в 1921 году. Утром мама, подоив корову, зашла в хату. Мы с сестрой Верой, младшей меня, сидели на скамье, натянув на колени рубашки, и ждали завтрака. Мама процедила молоко, налила нам в большие кружки, дала по куску хлеба. Мы пили тёплое молоко и заедали хлебом — это был наш завтрак. Когда мы позавтракали, кто-то постучал в дверь и вошёл из сеней прямо в хату. Я увидел женщину и возле неё двоих детей — одного мальчика, такого как я, и девочку, как моя сестра Вера. Женщина начала говорить с мамой. Мне трудно было понять, что она говорит, но я догадывался, что она просит есть. Так я впервые услышал русскую речь. Мама в те же самые кружки, ополоснув, налила молока, дала им всем троим по куску хлеба, пригласила их сесть на скамью. Женщина рассказала, что они из Саратова, что у них там голод, что нечего есть. Мама выслушала их и дала на дорогу ещё по кусочку хлеба.
Мне этот эпизод запомнился не только потому, что я впервые услышал русскую речь, а ещё и потому, что покойный Борис Дмитриевич Антоненко-Давидович впоследствии рассказывал мне, как во время голода на Украине в тридцать третьем году украинцы, которые хотели спастись от голода, ехали поездами и чем только можно до границы России. На станции Хутор-Михайловский поезд останавливался. В вагоны заходили милиционеры и выбрасывали голодных. Они, не имея сил, тут же умирали. На станции Хутор-Михайловский грудами лежали трупы. Меня этот рассказ очень поразил, потому что я вспомнил, как мы, будучи сами голодными в 1921 году, без зла принимали голодных из России, кормили их, ещё и на дорогу давали хлеб. В чём же тут причина зла, задумывался я.
Четвёртый эпизод. Смерть Марийки Хайло.
Хочу рассказать эпизод, который, собственно говоря, был решающим в формировании моего мировоззрения. Речь пойдёт о страшном 1933 годе. Я тогда работал учителем украинского языка в семилетней школе села Рудки на Днепропетровщине, в Царичанском районе — это соседний район с моим Кобелякским на Полтавщине. В один из майских дней в школу привезли горячие завтраки, чтобы дать их детям после уроков и чтобы директор потом отрапортовал в районо, что почти все дети были на уроках, что они нормально посещают школу, нормально учатся и что нет никакого голода, о котором так любят говорить классовые враги. У меня в классе на передней парте сидела школьница, которая жила неподалёку от школы, звали её Марийка, а фамилия Хайло. В их семье была ещё девочка младше Марийки, тоже ученица, была мама и был отец. Отец был инвалидом гражданской войны. В борьбе за советскую власть он потерял ногу и ходил на деревяшке. После урока детям раздали горячие завтраки. Марийка взяла ложку, наклонилась, хотела съесть, но ложка выпала у неё из рук. Я увидел, как она опустила головку на парту, а потом сползла, упала с парты и вытянула дрожащие ноги. Я понял, что это смерть — видно было по глазам, по лицу... Для меня, семнадцатилетнего учителя, это была первая живая смерть, которую я видел.
Притихли голодные дети в классе. Замолчал и я, растерянный и ошеломлённый случившимся. И только с портрета, висевшего над школьной доской, улыбался Владимир Ильич, в кепочке, с красным бантиком на лацкане пиджака и с приветственно поднятой рукой. А с противоположной стены на учеников смотрел Тарас Шевченко. Взгляд его был печален, а в глазах блестели слёзы. И ещё было слышно, как из репродуктора, висевшего на столбе возле школы, бодрым потоком лилась песня: «Живём мы весело сегодня, а завтра будет веселей!»
Нет, это был не сон, и не страшная сказка, и было это не за морями-океанами, а у нас, на «нашей, не своей земле». Именно тогда, когда вокруг всё радовалось весне, росло, цвело и соловьиным пением славило жизнь. И только Марийка прощалась со своей маленькой жизнью, так и не ведая, кто же и за что отнял у неё этот бесценный дар Божий, и сделал это дико и хищно, замучив голодом.
В тот последний для Марийки день так никто и не пришёл в школу, чтобы забрать её домой и похоронить по-человечески, по-христиански. Не пришла мама, потому что лежала одна-одинёшенька в хате, голодная, опухшая и без памяти... Не пришла и младшая сестричка, потому что уже месяц, как умерла от голода. Не пришёл и отец, потому что вчера его труп подобрали во дворе возле хаты и отвезли на кладбище, чтобы бросить в общую яму для умерших от голода. Так и отправили Марийку вслед за отцом в ту безымянную яму.
Эпизод... А в нём, как в капле воды, — судьба всей Украины. А сколько зла и жестокости в этом эпизоде! А если ещё добавить то, что отец Марийки воевал на фронтах гражданской войны за советскую власть и вернулся домой калекой... За это ему и отблагодарили коммунисты, задушив голодом и детей, и жену, и его самого.
Прошло семьдесят лет с тех пор, а коммунисты так и не извинились перед народом за свои преступления. Их жестокости и злу нет предела. А в их словах — ни капли совести...
На меня это произвело страшное впечатление. Тем более, что эта девочка была отличницей, красиво пела, декламировала стихи. Я покинул класс, побежал к директору в канцелярию и в отчаянии раскричался: «Вы тут сидите, а на уроках дети умирают!» Директор, по фамилии Лебедь, сказал: «Что вы болтаете! О каком голоде, о какой смерти?! Да этого ничего нет!» А, между прочим, в канцелярии сидела учительница, у которой у самой были опухшие ноги.
Директор сам пошёл в класс, чтобы убедиться, действительно ли школьница умерла. Когда увидел, что это действительно так, то послал одну учительницу, чтобы родители пришли забрали дочь. Но оказалось, что дома у неё лежала одна опухшая мама, она так и не поняла, что ей говорят.
Я стал вслух выражать своё возмущение, обвиняя власть, в том числе и директора, а он начал кричать и обвинять меня в клевете.
Вечером, ещё солнце не зашло, пришёл ко мне учитель, мой коллега, и сказал, что он слышал, как директор школы позвонил в районо, а потом в районное ГПУ, и оттуда сказали, что приедут и разберутся. Коллега посоветовал мне как можно скорее уехать из села, иначе это закончится арестом.
Я за час собрал, что успел... А что у меня было? Зарплаты нам не платили, а выдавали 16 кг зерна и давали горячие завтраки.
Забрал я те десять килограммов зерна, что оставались, некоторые книги, взял сумку на плечи, что-то под мышку, и быстро вышел из села в направлении к реке Орель, а через неё в свою Маячку, к матери и сестре.
Когда я вошёл в лес, солнце уже совсем склонилось, а в лесу стало почти темно. Я почувствовал, что кто-то как будто идёт за мной. Оглянулся и увидел двоих мужчин. Возраст я не разобрал, но увидел, как они спешили. Я тогда начал бежать, оглянулся и увидел, что они тоже бегут за мной. Бежал я изо всех сил, устал, но добежал до ручья.
В воде лежали поломанные деревья, видно, от бури. Я перелез через те деревья, пробежал ещё метров 50. Уже не было сил. Я остановился и присел, чтобы послушать, бегут ли они. Сердце так колотилось, что не давало мне понять, то ли они бегут, то ли сердце бьётся. Я просидел минуты две-три и услышал, что никто через воду не шлёпает. Тогда я потихоньку поднялся и пошёл...
Целую ночь шёл лесом, один, темно...
На рассвете перебрался через Орель, утром дошёл до Маячки.
В поле срывал и тёр колосья и ел. Зерно ещё было мягкое.
Дома тоже был большой голод. Я отдал маме и сестре то зерно, они рассчитали его на целый месяц.
Это событие стало решающим в моём мировоззрении. Больше уже меня не надо было агитировать, рассказывать мне о светлом будущем, искать какого-то оправдания классовой жестокости коммунистов.
Эпизод пятый. Моё учительство. Итак, примерно через месяц после того, как я вернулся в Маячку из трагического села Рудки, я решил поехать в Харьковскую область, в Сахновщинский район, в школу, где работали учителями мои друзья, с которыми я учился.
Уже летом 1933 года меня назначили учителем украинского языка и литературы семилетней школы в селе Кохановка Сахновщинского района.
В этой Кохановке в 1933 году вымерло много людей и осталось много пустых хат. Детей, которые остались в живых при своих родителях, было мало, классы были неполные. И вот однажды, тоже в мае, но уже 1934 года, проводя урок, я услышал — и не только я, но и ученики и учителя других классов услышали, как что-то в коридорах стучит по полу. Я открыл дверь и увидел около 30 детей, обутых в лапти, а под теми лаптями привязаны деревянные дощечки — это чтобы не мочить в воде сплетённые лапти.
Я довёл урок, а на перемене узнал, что это дети из России, в частности, из Свердловской области. В Кохановку приехало довольно много переселенцев, они заселяли те хаты, что стояли пустыми после голода.
Кстати, из тех детей не создали отдельных классов, потому что они были разного возраста. Их всех включили в украинские классы, а из районо поступило распоряжение, чтобы мы, учителя, готовились и переходили на преподавание на русском языке.
Итак, вполне понятная забота об обучении русских детей на родном языке обернулась против украинских детей. Этот факт искусственной ассимиляции украинского населения в результате голода, перевода украинских школ на русский язык меня возмутил. Я начал выражать недовольство. Тогда директор школы, по фамилии Легеза, вызвал меня к себе и сказал, чтобы я подал заявление на увольнение с работы. Это было в 1934 году, в конце учебного года. И я был уволен. Директор заметил мне: «Будь доволен, что мы тебя так отпускаем. Могло бы быть и хуже».
После этого я решил поехать искать педагогической работы в Донбасс, в город Славянск Сталинской области, где работал заведующим районо намного старший меня мой земляк, уроженец села Маячки, по фамилии Белоконь. Потому что мне сказали, что только на Донбассе нет голода, что если я там буду учителем, то мне будет легче.
Оттуда, из Донбасса, из Славянска, я был призван в Красную армию.
Началась новая эпоха в моей жизни.
МОИ ВОЙНЫ
Разговор 24 января 2002 года.
Евгений Сверстюк: Иван Бенедиктович, как ты, такой миролюбивый с виду и по натуре, выбрал военную карьеру? Ты её выбирал?
Иван Бровко: Я не выбирал, просто подошла моя очередь. Правда, мне давали отсрочку, я окончил институт, а после института, хочешь не хочешь, надо армию отслужить. И меня призвали в 1939 году. Как раз тогда я окончил ДИНО — Донецкий институт народного образования в Луганске, филологический факультет.
Я попал в Коломну под Москвой. Там стоял очень современный артиллерийский полк, который на линии Маннергейма в Финляндии разбивал те не менее современные доты.
Е. Сверстюк: Лето 1939 года. Приближается осень, «освободительный поход» на Польшу, так?
И. Бровко: Да. Но до Польши было ещё далеко. В этой Коломне стоял, как я уже сказал, один из самых современных полков, так называемый полк 402-миллиметровых гаубиц-пушек. Как ударит, то... Ну, один снаряд 100 килограммов, ты представляешь себе?
Первое, что на меня произвело впечатление, — это столовая. Одели нас в форму и дальше с песней «Выходила на берег Катюша» — в столовую. Я впервые попробовал, что же такое щи. Говорят — борщ, и я, голодный, как поел те щи из капусты...
Е. Сверстюк: Кроме щей ещё что-то давали?
И. Бровко: Ну, было и второе. Кормили, можно сказать, нормально.
Е. Сверстюк: То есть солдат получал паёк не хуже, чем учитель?
И. Бровко: Это точно. Но, вместе с тем, учитель имел право что-то выбирать. А солдат — что давали. Но я же футболист, любил футбол, ты же сам знаешь, как я к «Динамо» отношусь: бросаю всё... Я даже в университете бросал лекции — студентам давал задание, а сам бежал на стадион «Динамо», потому что играла команда из Бразилии. Я побежал, и смотрю — рядом со мной бежит секретарь парторганизации университета... Правда, он бежал из кабинета, а не с лекций, как я. Мы прибежали, и я увидел, как наш Войнов забил такой красивый гол! Я ещё мальчишкой играл в футбол, а попал в полк, так забыл о высшем образовании и пошёл в футбольную команду полка. Спим, в шесть часов — «Подъём!» Все вскакивают, потому что попробуй не вскочить! Нас же, футболистов, не трогают, потому что комиссар очень любил футболистов. Вот мы и спим. Я уже не хожу в столовую под «Выходила на берег Катюша». Мы, человек 10-12 футболистов, идём вразвалку в столовую, где-то на полчаса-час позже.
Приходим — к нам бегут солдатики, подают нам обед. Мы так же вразвалочку из столовой выходим. Смотрю: сапоги кирзовые, грубые, причём ноги у меня не толстые, а голенища вот-такие! Это у футболиста! Мы, футболисты, думали-думали и пошли в мастерскую при полку, которая переделала нам одежду и обувь. После этого футболиста от офицера не отличишь...
В выходной собрались мы, человек пять футболистов, и поехали в Горький. Я хотел узнать, где же там жил Максим Горький.
Идём, я спрашиваю у встречных об этом. И случайно наткнулись на базар. А на базаре помидоры, огурцы! Мы накупили, понапихали в карманы, идём и едим. А навстречу военный наряд. Смотрят — солдаты в форме едят огурцы, да ещё и на улице. «Не положено!»
Забрали нас троих и повели туда, где, как оказалось, недалеко и Горький жил. Трое суток сидели мы, пока тот комиссар, что любил футбол, не приехал и не забрал нас.
Прошло немного времени — и война.
Как раз в тот день я был в кинотеатре. Шёл фильм «Вечера на хуторе близ Диканьки». Я смотрел и думал: вот отслужу (а осталось мне всего 4 месяца) — и сразу же домой. Поеду только в Диканьку или в Миргород, где жил Гоголь, и в школе там буду учить детей...
Вышли из кинотеатра, смотрю — офицеры бегут, все кричат: «Война! Война!»
Дней через двадцать наш полк был направлен в Белоруссию. Доехали мы до Орши. Именно под Оршей налетели на нас немцы.
Авиационный удар был такой сильный, что наш поезд буквально разорвало и разнесло во все стороны. Кое-кто успел выскочить из вагонов, выскочил и я. Смотрю, а впереди меня мой черниговский друг скачет на одной ноге, а вторую ногу ему разорвало, кости раздроблены, кровь течёт...
Такой была моя первая встреча с войной.
Е. Сверстюк: А в Белоруссии в 1939 году ты был?
И. Бровко: Да, мы попали под Гродно, из Гродно в Западную Украину, на Волынь.
Е. Сверстюк: Никаких боевых действий не было?
И. Бровко: С нашим полком — не было.
Е. Сверстюк: Ты ещё был рядовой?
И. Бровко: Нет, я уже был сержантом, но это звание присваивалось за высшее образование.
Мы пробыли там недолго, а потом, видимо, руководство договорилось по пакту Риббентропа-Молотова, и нас вернули обратно в Коломну.
Е. Сверстюк: А если бы вас спросил кто-то: где ты был и что ты там делал? Каким духом дышал?
И. Бровко: Наш полк послали на Волынь для того, чтобы, когда начнётся война с немцами, мы были на месте. Мы же тяжёлая артиллерия...
Е. Сверстюк: Артиллерия, по сути, в той войне молчала.
И. Бровко: Она там не нужна была. Там достаточно было пехоты, самолётов, особенно НКВД. Мы пробыли там месяца два-три — снова в вагоны и назад.
Е. Сверстюк: А что в сознании было: вот вы вернулись из Польши. Что ты там делал, зачем ты там был? Как ты это тогда понимал?
И. Бровко: Я понимал так, что это Гитлер начал войну. А что Сталин — так об этом чуть позже... Тогда говорили, что Гитлер прёт на Польшу, поэтому надо спасать Западную Украину.
А потом нас всем полком в 1939-м послали в Финляндию, на линию Маннергейма.
Наш полк был не такой мобильный. Нам дали место на расстоянии от линии Маннергейма 10 километров (а мы стреляем ещё и дальше).
Мы стали устраиваться. В лесу снега по колено. Сосны высокие, все белые...
Помню, в тот же день нас послали в штаб полка — это за полкилометра. Идём, впереди лейтенант и нас трое. Только «бах!» Смотрю — лейтенант, что шёл впереди, упал. Оказывается, там на соснах, тоже в белое одетые, были финны.
Эта финская война, я вам скажу, в основном, выиграна за счёт того, что у финнов были очень хорошо обученные снайперы. Это была снайперская война.
Мы там пробыли с полгода, и нам приказали ехать назад, для нас война закончилась.
Е. Сверстюк: Но вас не обстреливали?
И. Бровко: Нас — нет. Вот только что мы шли и нашего лейтенанта убили. Очевидно, снайпер в бинокль видел, кто идёт, и он прицелился в лейтенанта, а не в солдат.
Е. Сверстюк: Хорошо, вот вы возвращаетесь назад — зачем вы там были?
И. Бровко: Евгений, тогда мы были там для того, чтобы победить «империалистическую Финляндию», которая, мол, заняла древние русские земли. Доказывали, что там, где линия Маннергейма, — это исконно русское, что надо его отвоевать и поставить на колени капиталистическое государство, которое выполняет американские и английские приказы.
Е. Сверстюк: Хорошо, теперь возвращаемся к 1941 году. Вашу часть снова бросают на западный фронт — так?
И. Бровко: Да, в Орше нас всех пересадили в другой поезд и быстро повезли на Урал. Там было наше военное училище, где мы ускоренным методом закончили военное обучение, нам присвоили воинские звания. Я стал лейтенантом.
Когда вернулся в Москву, меня назначили командиром одной из первых батарей «Катюш», потому что училище было артиллерийско-ракетное, высшее, имени Красина.
Меня назначили командиром, я стал воевать там, где и Юрий Кондратюк, под Москвой. Его, правда, призвали на войну рядовым...
Е. Сверстюк: И он погиб под Москвой?
И. Бровко: Да, там была сильная война. Я был ещё лейтенант в конце сорок первого, а Юрка Тюлин был старший лейтенант, командир батареи — такой был грамотный, начитанный, семья интеллигентная, мы с ним встретились...
Е. Сверстюк: А ты семьи ещё не знал?
И. Бровко: Да, семьи ещё не знал. Это не был стандартный офицер, который умеет только командовать «Смирно!», «Повернись!». У него была совсем другая манера.
Мы сдружились и пошли вперёд, дошли до Варшавы, а от Варшавы до Берлина.
Е. Сверстюк: И остановились вы в пригороде Варшавы, который называется Прага... Это когда было?
И. Бровко: Это было уже в начале января 1945 года. Я был майор, начальник штаба третьей армейской группы ГМЧ — гвардейских миномётных частей, или, как их называли, «Катюш». А командиром был генерал Тверецкий — москвич.
А что такое третья армейская группа? Это группа штабных офицеров, опытных, грамотных. У меня два образования — военное и гражданское. Я в штабе сначала разведкой заведовал.
Нас бросали туда, где идут бои, мы планировали бой вместе с артиллерией, пехотой, авиацией, по передовой линии немцев. С этой же целью нас перебросили из Прибалтики в Польшу.
Мы ночью приехали на машинах под Варшаву. Там было полно советских войск, танки стоят, но никто не стреляет. И никто ничего об этом не говорит. У меня был заранее послан один капитан. Он нашёл дом для штаба.
Смотрю — двухэтажный домик, хорошенький, прямо над Вислой. И как же этот район над Вислой называется? — Прага. Так же, как у нас Дарница.
Я вот хочу написать и оправдать название — и эта польская Прага, и чешская Прага за свободу боролись. И Киев боролся.
Е. Сверстюк: Ну, этот капитан нашёл помещение. Но когда вы идёте в наступление, зачем оно вам сдалось?
И. Бровко: Для штаба Третьей армейской оперативной группы, которая приехала, чтобы принять участие в борьбе. Оно нужно было. А тут бои. Страшные бои...
Мы прибыли вечером. В доме было четыре комнаты на первом этаже и на втором четыре.
На втором этаже две комнаты забиты книгами. В первую очередь я пробежал глазами по книгам, другие не обратили на книги внимания. Смотрю — а одна комната почти полностью заставлена украинской литературой — историческая литература, редкие книги: и Грушевского, и Винниченко, и Ефремова, и Русовой. Конечно, я не мог ничего брать — это же стыдно: зачем мне лезть? Ведь в доме нет хозяина. Видно, там жил какой-то украинский интеллектуал.
Эта Прага на левом берегу, как и Дарница, но, в отличие от Дарницы, она компактная и лежит вплотную к Висле. Есть дома прямо над Вислой. И ещё тем отличается, что Висла немного уже, чем Днепр. Но как Киев наверху, так и Варшава. А Прага внизу, как и Дарница. Этот двухэтажный домик был над самой Вислой.
В Праге полно солдат, танков — и все молчат, не стреляют. А зато на правом берегу идёт страшная война — стреляют, взрывы...
Я стал спрашивать у других офицеров, почему мы стоим. Мне сказали, что генерал Бур-Комаровский поднял польское восстание против немцев, чтобы пока наша армия войдёт, которая везёт в обозе генерального секретаря коммунистической партии для поляков, взять власть в Варшаве. А потом чтобы торговаться. Это было общеизвестно.
Я понял, почему мы не стреляем. А до того я думал, что мы подтягиваем резервы.
Е. Сверстюк: Мы остановились на той библиотеке, где ты делаешь вид, что не хотел ничего из неё брать, но заметил, что хозяина нет.
И. Бровко: Это ты правду говоришь. Когда я посмотрел на те книги, мне хотелось их брать, но никто же не берёт. И куда я их буду брать? Если я буду в машину нести, то это тоже увидят, шофёр скажет: что это ты столько наносил? Значит, нужна какая-то другая ситуация.
А где хозяин? Никто не знает. Оказывается, все поляки сбежали — они думали, что и здесь будут бои.
Впоследствии я увидел Варшаву в первые дни после войны — на неё страшно было смотреть. Там только одна церквушка, туда на запад, была не разрушена — всё лежало разрушенное!
Е. Сверстюк: И сколько дней вы ждали, пока варшавское восстание немцы разгромят?
И. Бровко: Примерно дней десять.
Е. Сверстюк: Что же вы делали эти десять дней?
И. Бровко: Вся наша армия стояла без движения. Когда мы остановились в пригороде Варшавы, в тот же вечер приезжает полковник Георгий Александрович Тюлин (я его по-дружески называл Юрой). Он был начальником штаба «Катюш» 1-го Белорусского фронта.
Тюлин приехал на машине, позвал генерала Тверецкого, а генерал Тверецкий позвал меня как начальника штаба группы.
Тюлин говорит, что есть распоряжение командующего 1-м Белорусским фронтом, что пока воюют с немцами поляки английской ориентации (потому что польский президент Миколайчик тогда был в Лондоне), то мы подождём, пусть они друг другу хорошо набьют морды, особенно полякам за то, что они не хотят ставленника Сталина, коммуниста Болеслава Берута, и спешат сами освободить от немцев Варшаву и поставить своего руководителя, чтобы потом всему миру доказывать, Рузвельту и Черчиллю, что это они Варшаву отвоевали.
Вот это полковник Тюлин рассказывает, что есть такое распоряжение. А стрелять ни в коем случае, никакой провокации, абсолютная тишина. Они дней 5–7 будут сражаться.
Итак, что делать, команда будет потом. А немецких самолётов ночью по 15-20-30 летает, только гр-р-р-р-р, всё уничтожают, всё разваливают. Немцы тоже видят, сколько под Варшавой нашей армии. А нам: «Ждите команды».
Полковник Юрий Тюлин решил ждать утра, чтобы ночью не ехать, потому что ночью ехать опасно.
Мы в штабе остались вдвоём. Сидим и говорим. (Этот факт описан в известной книге «Космические и земные орбиты Ю. В. Кондратюка» — меня попросили туда статью написать).
Мы выпили рюмку, закуска есть. Смотрим в окно — всё горит. Варшава в огне.
Е. Сверстюк: Водки вам не давали?
И. Бровко: Водки было море, это не проблема. Нам выдавали. Не трофейную — мы везли с собой. Выдавали и солдатам, особенно когда идут в бой, то сто грамм давали. Так что с водкой не было проблем, да ещё и доставали вина, потому что это всё-таки Варшава. Не знаю, где оно бралось, потому что я этим не занимался — у меня было много подчинённых офицеров, в том числе и по материальному обеспечению. Это было его дело.
Мы говорили о Черчилле. Хорошего мнения о нём были и Юра, и я, а потом стали говорить о Рузвельте и Трумэне.
Дошло до Сталина. Я выпивши стал говорить что он... Одним словом, я высказал категорически негативное мнение о Сталине. И рассказал, как я в 17 лет учился в медицинском училище, меня лишили стипендии, потому что мои родители считались середняками — 5 гектаров земли было. Поэтому я ушёл из Харькова в педучилище. И я ему привёл пример, как у меня на уроке умерла опухшая девочка. Отца вчера похоронили в общей яме. В Красной армии служил, там его покалечили. Так это советская власть так ему отблагодарила.
В частности, я рассказал Тюлину, что в 1933 году в моём селе на кладбище была выкопана большая яма, в которую сбрасывали десятки умерших от голода людей, и даже ещё живых; как в хате соседа молодая мать съела своего ребёнка — каннибализма в истории моего народа до тех пор не бывало.
Мне трудно понять, сказал я Тюлину, во имя каких идеалов, каких целей было замучено в Украине такой страшной смертью почти десять миллионов невинных людей. Я процитировал известные слова Достоевского, что если по вине правителя умрёт хотя бы один ребёнок, то такой правитель не достоин ни доверия, ни уважения.
Юра Тюлин слушал. А я разошёлся, а потом спохватился, ведь идёт война, Сталин главнокомандующий, коммунисты у власти...
Тюлин это выслушал, встал и говорит: «Я по-другому о Сталине думаю. Больше такого разговора между нами не должно быть». Попрощался и ушёл, сел в свою машину и уехал преждевременно, не дождавшись утра.
Я остался один. Там офицеры были, но в других комнатах, они к нам, начальникам, не заходили.
Итак, я сижу и думаю: ну, зачем мне было это говорить? Как он, Тюлин, дальше поведётся? Приедет ли завтра НКВД сюда? Потому что как же дальше воевать, если начальник штаба, да ещё и «Катюш», самого передового рода войск тогда, говорит, что ненавидит Сталина? Или, думаю, второй вариант: Тюлин больше никакого контакта со мной иметь не будет. Или третий: как будто ничего и не было.
И получился как раз третий вариант: как ничего и не было.
Юра был не из тех, кто подобные вещи превращает в политические дивиденды. Интеллигентность и порядочность были в его генах. От отца-профессора, доктора агрохимии, которого преследовали в 30-х годах, от матери-учительницы.
Искренняя интеллигентность была свойственна и его младшим сёстрам — Ирине, которая сбежала прямо со студенческой скамьи на фронт, Маргарите — впоследствии профессору Московского государственного университета имени Ломоносова. Эту благородную, интеллигентную русскую семью я близко знал и глубоко уважал.
После войны отец Юрия Тюлина приезжал в Киев. Мы с ним пошли в театр имени Ивана Франко, он попросился. По-моему, «Маруся Богуславка» шла. Он плакал.
Е. Сверстюк: А он язык знал?
И. Бровко: Украинский — нет, не знал, но хорошо понимал. Он сирота, из Пензенской губернии, в детском возрасте этот Тюлин, отец Юры, в Житомире батраком был у какого-то богатого дядьки. Я не спросил, украинец он был или русский. Ему очень понравилась Украина.
А жена его, Мария Николаевна, — интеллигентная, из богатых русских. Рассказывала мне когда-то: «А у нас выезд собственный был». А что такое выезд, я не знал, так спросил, что это такое. «Ну, лошади и карета». У них был и кучер. Как шофёр. Её отец был директором частной гимназии. Хорошая, демократичная женщина была.
Они вообще не шовинистически настроены. Это порядочная русская интеллигенция. Я о них опубликовал статью в книге «Космические и земные орбиты Ю. В. Кондратюка (А. Г. Шаргея)» (Днепропетровск: Сич, 1996, с. 276-283. – Ред.).
МОЙ КОСМОС
Когда мы пришли в Берлин, я уже опубликовал в военных журналах три статьи о том, как «Катюши» применялись в бою. Это послужило одной из причин, чтобы включить меня в комиссию учёных, которая должна была изучать немецкую ракету «Фау». Эта комиссия называлась «Выстрел», в ней руководителем был Сергей Королёв, впоследствии выдающийся учёный в области аэрокосмической техники.
Моей задачей было изучать информацию о запуске немецкой баллистической ракеты ФАУ-2. Я два года работал в институте RABE («Reaktische Bauen»). Он, по сути, был русский, из немцев там был учёный Гро́труп, заместитель фон Брауна.
Я таки хорошо овладел ракетной техникой, участвовал в первом запуске ракеты ФАУ-2 в Капустином Яру.
Было у меня довольно интересное сотрудничество с Сергеем Павловичем Королёвым.
После войны американцы и англичане уступили нам триста километров территории к западу от Берлина до Тюрингии, а мы им за это дали пол-Берлина. Так что в Берлине была власть и наша, и английская, и французская, и американская.
В Тюрингии, в городке Блайхероде (очень красивый городок, а за ним горы, леса), был подземный завод, который выпускал ракеты «Фау». Это была самая передовая на то время ракета. Немцам не хватило двух месяцев, чтобы зарядить ракету «Фау» атомной бомбой и ударить по Англии, по всему миру — вот была бы трагедия! Но не успели.
В сентябре 1945 г. большинство членов комиссии, включая С. П. Королёва, В. П. Мишина, Н. А. Пилюгина, В. П. Глушко, В. П. Бармина и других специалистов ракетной техники, на самолёте Ли-2 прибыли в Берлин.
На аэродроме под Берлином нас встретил Георгий Александрович Тюлин. Основная цель у нас была собрать документацию, отыскать части и детали немецкой ракеты Фау, скомплектовать её и запустить.
Это была очень нелёгкая задача. И не только потому, что основные немецкие специалисты-ракетчики во главе с главным конструктором фон Брауном, прихватив всю или почти всю техническую документацию, уехали кто в США, кто в Англию. Туда же, вслед за документацией, отвезли и целиком укомплектованные ракеты «Фау».
Трудности заключались ещё и в том, что то, что осталось, было почти полностью выведено из строя — разбомблено, разбито, растащено, как, например, в случае с ракетным исследовательским центром в Пенемюнде, на острове Узедом (северная Германия). Даже станки — и те были разбиты, чтобы ими уже никто не пользовался. Такова была судьба подземного завода в Блайхероде (Тюрингия), который изготавливал ракеты «Фау».
Попутно отмечу, что Блайхероде отличался не только своим уникальным заводом, но и всемирно известным теперь концлагерем «Дора», расположенным под заводом. Сюда, на завод, в сентябре и октябре 1945 г. приезжали крупнейшие специалисты ракетостроения — С. П. Королёв, В. П. Глушко, Н. С. Рязанский, В. С. Будник, Б. Е. Черток и другие. Они воочию убедились — завод пуст, даже станки были вывезены или выведены из строя. Единственное, что там сохранилось в целости, так это лагерный крематорий и бараки.
К слову, на подоконнике одного из бараков мне с трудом удалось прочитать: «Повій, вітре, на Вкраїну...». Очевидно, кто-то из моих земляков, узников лагеря, таким образом выразил свою тоску по далёкой родине. Большинство из этих бараков в 1947 г. мы вывезли в Капустин Яр, на наш первый космодром.
Одним словом, всё нужно было начинать сначала, почти с нуля. И мы начали.
Прежде всего, нам удалось вернуть из США в Германию Гро́трупа, одного из ведущих заместителей фон Брауна. Выпустили из советских концлагерей немецких военнопленных, которые раньше обслуживали ракеты «Фау», и подключили их к работе. (А они уже работали на урановых рудниках в Узбекистане). Мы восстанавливали отдельные части и детали ракетных систем, отыскивали техническую документацию. С этой целью члены комиссии выезжали на территорию Польши и Чехословакии, и не безрезультатно.
А в то время, когда наша комиссия с такими трудностями восстанавливала ракету «Фау», англичане решили аналогичную проблему: уже в октябре 1945 г. они пригласили наших специалистов на свой первый запуск ракеты «Фау-2». Осуществляли его, в основном, немецкие ракетчики. Было это в Куксхафене, недалеко от Гамбурга. В качестве гостей с нашей стороны туда ездили Г. А. Тюлин, С. П. Королёв, В. П. Глушко и Ю. А. Победоносцев.
В 1946 г. в районе Нордхаузена мы сформировали на базе группы «Выстрел» свою опытную ракетную часть — бригаду особого назначения (БОН). Её командиром был назначен генерал-майор А. Ф. Тверецкий. Командование стартовым дивизионом было поручено мне. Бригада, безусловно, много сделала для формирования стартовой команды и освоения ракеты «Фау», но главное всё-таки планировалось и осуществлялось в специальных отделах тюлинской комиссии. По дороге из Берлина в Нордхаузен можно было встретить не один указатель «Хозяйство Тюлина». Всё это были центры, в которых интенсивно осваивалась и совершенствовалась немецкая реактивная техника.
Первый запуск ракеты «Фау-2» (у нас она называлась А-4) в СССР был осуществлён в октябре 1947 г. на тогда ещё недостроенном полигоне в Капустином Яру. Как командир стартового дивизиона, помню, с какой ответственностью все готовились к этому запуску. У Королёва и Тюлина буквально до всего доходили руки. День и ночь проводили они на стартовой площадке, каждую деталь, казалось бы, самую мелкую, они проверяли по несколько раз. Такая точность, даже скрупулёзность, была отличительной чертой этих людей. Стартовала ракета удачно.
Е. Сверстюк: Ты в немецком языке имел большие достижения?
И. Бровко: Больших не имел, хоть у меня была хорошая учительница, фрау Эльза Ритдорф, но и она не достигла своего. Я выписал и выучил тысячу немецких слов. Но это были глаголы только в инфинитиве и существительные в именительном падеже. Что-то у меня не клеилось...
Е. Сверстюк: Ясно почему — потому что не надо было.
И. Бровко: Так переводили же, были квалифицированные переводчики.
МОЯ БИБЛИОТЕКА
Е. Сверстюк: Ты мне всё-таки расскажи, как ты управился с той библиотекой в Варшавской Праге.
И. Бровко: Теперь о библиотеке. Через десять дней стояния была дана команда объезжать Варшаву. Все «Катюши» поехали под Радом, это от Варшавы на юг. Дом штаба заняла пехота.
Я хотел узнать, кто хозяин дома, — никто не знает. Тогда я полез в библиотеку... Думаю: я уеду, а солдаты её скурят... При мне, помню, одну библиотеку под Москвой растащили...
Е. Сверстюк: Да это ясно.
И. Бровко: И тогда я набрал больше ста книг. Я набрал столько, сколько влезло в машину. А это же штабная машина, не легковая, а крытая. Там столик, на нём, может, сто, а может и немногим больше книг лежало. Но какие замечательные книги! Офицеры не все понимали, что это такое. Многие из них и не знали, кто такой Грушевский...
Я взял 16 томов «Кобзаря». Его у меня со временем одолжил профессор Чавдаров. Попросил чтобы я ему дал, когда он что-то писал. А когда он умер, я поехал к сыну забрать, а сын не отдал: «Вас тут много ходит, тому дай и тому дай — а откуда я знаю, что это ваши книги?» Много книг пропало. Но сколько студентов ими воспользовались, как, например, Ярослав Дзыра. Его приняли на работу в Академию Наук, он начал писать кандидатскую диссертацию. А жить негде, так я ему сказал: пойдём ко мне. Он вот здесь у меня два месяца жил и написал диссертацию на этих книгах.
Е. Сверстюк: Постой, так их же кагэбисты «почистили»?
И. Бровко: Много осталось. Их «чистили» раза два. Они приезжали с обысками, но у меня много книг было спрятано, а много было на руках. Кое-что возвращали, но много и до сих пор не вернули. Но есть — вот о Софии Русовой. Я ту Русову так полюбил... Здесь есть книжка Русовой о том, как живут люди в Норвегии.
Е. Сверстюк: Я это изучал. Я же написал предисловие к книге о Норвегии. Но я воспользовался не твоей книгой.
И. Бровко: А эту книгу кто-то обклеил. Борис Гринченко, «Письма с Украины Приднепровской».
Е. Сверстюк: А, эту книгу ты когда-то давал мне читать. А вы, пан Василий, «Письма с Приднепровской Украины» Гринченко и «Письма на Приднепровскую Украину» Драгоманова читали? Если не читали, то скажу, что это большая роскошь — не знаю, как сейчас, но тогда для меня это было так.
И. Бровко: Ой, и я тоже так любил их читать в армии. Это чудо. Как что-то такое родное я их читал. Вот «Букварь» Тараса Шевченко — это же чудо! А вот Панько Кулиш...
Е. Сверстюк: Михаил Возняк, «Кирилло-Мефодиевское братство», 1921 года.
И. Бровко: А вот эта книга точно оттуда: Понятенко, «Культура, национальность и ассимиляция в их взаимных отношениях», издательство «Зоря», 1911 года.
А это Кулиш, но Кулиш из этой библиотеки или из лейпцигской? В Лейпциге, по-моему, русское всё было.
Е. Сверстюк: И «Гісторія», а не «Історія».
И. Бровко: А эту я взял в Лейпциге — «Генеалогия морали» Ницше. Ты, Евгений, её брал, там твои подчёркивания есть.
В. Овсиенко: Антисоветские подчёркивания?
Е. Сверстюк: «Славянские литературы»!
И. Бровко: И твой почерк? И что у тебя за привычка подчёркивать? Карандашом это надо делать.
Е. Сверстюк: Карандашом — это да, но теперь, я думаю, для тебя интереснее, что есть такие подчёркивания?
И. Бровко: Да я только и читаю то, что ты подчеркнул. Слушай, а вот «Украинский букварь» Тараса Шевченко, «Грамматика» Пантелеймона Кулиша — это же редкие книги, им цены нет!
Вот «Украинский букварь» Кубанского украинского общества школьного образования, 1919 год. На Кубани пишут для своих детей, вот слушай: «На Украине главный город — Киев. У нас на Кубани главный город — Екатеринодар. На Украине самая большая река — Днепр, а у нас — Кубань. Наши деды жили на Украине». Так украинцы-кубанцы писали.
Тут щедривка, Рождественские праздники, Новый год. А ещё — «з Василлям». Это, наверное, праздник Василия, 14 января. Смотри, и гнёздышко тут, чтобы дети не разоряли. Это шедевр, это свидетельство того, что кубанцы не потеряли украинского чувства.
Е. Сверстюк: Давай я опубликую это в газете «Наша віра».
И. Бровко: Бери. Но ты вернёшь, правда? А это Лотоцкий.
Е. Сверстюк: Лотоцкий? Лотоцкий — это очень важная страница прошлого, это очень важная книга.
И. Бровко: В наших библиотеках она была снята большевиками, её даже не было в педагогическом институте, где я учился.
А это «Записки Научного общества имени Шевченко», Львов, 1922 года. Какой том? Я не умею прочитать. А ну, пусть Евгений — если он прочитает, то он доктор, а если нет, то он такой, как и мы. Какой том?
Е. Сверстюк: M — это тысяча, С — сто, Х — десятка, L — 50, но тут нет L. Это том сто тридцать второй.
И. Бровко: Его брали Ярослав Дзыра, Вера Лисовая. Кто-то обложку сделал. Эта литература многим подняла сознание.
Ко мне в 1989 или в 1990 году приехала Оксана Мешко с Верой Ткаченко. Как взяла меня Оксана Яковлевна в оборот: «Почему вы не занимаетесь общественной работой? С таким опытом!»
А ей уже кто-то подсказал, кто я такой, что она не боялась так говорить. Потому что я бы мог партийный билет вытащить...
Е. Сверстюк: Тогда уже нечего было вытаскивать — уже можно было воробьям кукиши показывать. Вот Ольга Бобуская-Стадник из Мукачево тоже пишет, как она использовала твои книги. И Станислав Репьях.
В. Овсиенко: А как вы эти книги привезли из Германии? Больше ста книг — это же большой багаж.
И. Бровко: Я был большим начальником — ехал из Берлина начальником поезда, в котором было двадцать вагонов. Там полно солдат и офицеров — везём ракету под большим секретом. А на одной платформе — моя легковая автомашина, которую я купил в Берлине благодаря Эльзе. Там было много посуды, которую подарила мне Эльза, а также эти книги. Всё это я привёз в Кобеляки.
Е. Сверстюк: И вот эта ложечка, что вы видите — тоже оттуда.
И. Бровко: Эльзина. В Кобеляках кое-что пропало. Двоюродные братья приходят: «Дай почитать». Взял — и по сегодняшний день там. Но потом я привёз всё в Пущу-Водицу. В Пуще ещё было благополучно.
Е. Сверстюк: Благополучно-то благополучно — но тайные обыски были.
В. Овсиенко: А в каких годах были те обыски?
Е. Сверстюк: Первый обыск был в 1960 году.*
*Примечание. Вот лишь некоторые из книг, уцелевших после обысков:
Рассветы. Думы и поэмы П. Кулиша. Издание 2-е, дополнительное киевскаго книгопродавца Ф. А. Іогансена в Киеве. Март 1876 г. 254 с.
История. Славянские литературы. А. Н. Пыпин и В. Д. Спасович. Два тома. Том. 1. С.-Петербург, 1979. 448 с.
А. Я. Конисский. Жизнь украинскаго поэта Тараса Григорьевича Шевченка (критико-биографическая хроника). 1814-1861. Одесса. 1898. 730 с.
Сочинения Осипа Юрия Федьковича. Первое полное и критическое издание. Том первый. Стихотворения. Из перепечаток и автографов собрал, упорядочил и добавил пояснения др. Иван Франко. Во Львове. В типографии Научного Общества имени Шевченко. 1892 г. 806 с.
История религий. Краткий очерк религиозных верований. Сочинение английского священника Е. Д. Прайса. Изд. В. И. Губинского. С.-Петербург, 1904. 210 с.
Киевская старина. Ежемесячный исторический журнал. Т. XCI. Киев, 1905.
Произведения Амвросия Метлинского и Николая Костомарова. Изд. о-ва «Просвіта». Во Львове, 1906. 482 с.
С. Русова. Как люди живут в Норвегии. С.-Петербург. Типография Училища Глухонемых. 1906.
Фридрих Ницше. Генеалогия морали. Памфлет. С.-Петербург. Книгоиздательство «Вестник Знания» В. В. Бюстера. 1908. 96 с.
Александр Грушевский. Из современной украинской литературы. Очерки и характеристики. Киев. Из типографии Первой Киевской Печатной Спилки. 1909 г. 238 с.
Андрей Товкачевский. Утопия и действительность (к характеристике украинской интеллигенции). Сборник статей. К., 1911. 112 с.
П. Понятенко. Культура, национальность и ассимиляция в их взаимных отношениях. «Світло», № II, III, 1911. Киев, Типография 1-й Киевск. Печат. Спилки. 1912.
Славный музыкант Николай Лысенко, его жизнь и творчество. Написал В. Будищанец. Полтава, типография О. Л. Брауде. Г. 1913. 46 с.
Жан Жак Руссо. Эмиль, или О воспитании. С.-Петербург. 1913. 492 с.
Маленький каталог новых украинских книг и изданий по украиноведению. Август 1915 г. Петроградская книжная лавка («Украинский базаръ»). 16 с.
Письма с Украины приднепровской П. Вартового (Б. Гринченко). Напечатано в «Буковине» за гг. 1892-1893 в Киеве. Типография «Губернского Правления». 1917. 180 с.
О. Олесь. Стихи. Кн. V. На зелёных горах. Издательское товарищество «Криниця». В Киеве. 1917 г. 160 с.
Мих. Грушевский. Хмельницкий в Переяславе. Исторические образы. Киев, 1917. Типография т-ва «Петро Барський». 80 с.
Мих. Грушевский. Об украинском языке и украинской школе. Издание третье. Киев, 1917. Типография Славянская. 64 с.
М. Драгоманов. Автобиография. Издательское товарищество «Криниця» в Киеве. № 41. 1917. 32 с.
М. Драгоманов. Швейцарский союз. Издательское товарищество «Криниця» в Киеве. Военная Типография «Герольд». 1917. 68 с.
П. Высочанский. Стоит ли нам жалеть о царях? Издание 2-3. Звенигородка. Типография Ю. Юдицкого, 1917. 16 с.
С. Ефремов. Как люди себе права добывают. Издание третье. Издательское товарищество «Криниця» в Киеве. Военная Типография «Герольд». (1917?). 22 с.
Звёздный венок. Сборник стихов Д. Дороша. Издание Александровского (на Екатеринославщине) т-ва «Просвіта». 1917 год. 16 с.
Постановления уездного съезда в г. Александровске на Екатеринославщине 20 августа 1917 года. Типография Я. Ф. Нутис. Александровск. 16 с.
И. Франчук. Как воевали Запорожцы? Т-во «Вернигора». Киев, 1917. Типография Счастливцева. 16 с.
М. Черненко. К чему приведут нас союзы? Полтава. Электр. типография А. Л. Ганфа. 1917. 8 с.
Ф. Матушевский. Права национальных меньшинств. Издание Союза Украинских Автономистов Федералистов. № 2. Киев, 1917. 16 с.
Материалы к программе. Издание «Украинской Демократической партии». В Лубнах. Типография Б. Левитанского, 1917 г. 32 с.
Олелько Островский. Берестечко. Исторический рассказ. В Киеве. Г. 1917. Т-во «Вернигора», 80 с.
Олелько Островский. Полтава (1709 г.). Исторический рассказ. Типография «Польский Друкарь». Киев, летом 1918 г. 64 с.
Тарас Шевченко. Кобзарь. (Предисловие Богдана Лепкого на 169 с. Выходные данные не сохранились. Последняя ссылка в библиографии 1918 г.)
Г. В. Плеханов. История русской общественной мысли. Типография «Земля», М., 1918, 296 с.
Произведения Григория Квитки-Основьяненко. Издательское товарищество «Криниця» в Киеве. Киевская типография «Польская». 1918 + ХХХ с.
Олелько Островский. Стрельцы. Драма в 4 действиях. г. Золотоноша. Типография Рабиновича и Штефиля. 1918 г. 72 с.
Кирилло-Мефодиевское братство. Написал Михаил Возняк. На средства фонда «Учитесь, братья мои». Ч. 3 Львов, 1921, 240 с.
Записки Научного Общества имени Шевченко. Том CXXXII. Львов, 1922. На средства Общества из типографии НО имени Шевченко.
А. Лотоцкий. Страницы прошлого. Ч. I. Варшава, 1932, 290 с.
Май 1960 года выдался для меня крайне напряжённым и контрастным. Сначала будто бы всё шло хорошо. Я завершил писать и подготовил к защите докторскую диссертацию. Сразу же после первомайских праздников мне предложили возглавить кафедру педагогики при Киевском госуниверситете, где я тогда работал доцентом педагогики. Казалось, небо у меня было безоблачным, а впереди — ждала честная и добросовестная работа.
Но не так сложилось, как думалось. А началось всё с того, что в середине мая меня срочно вызвал к себе министр высшего образования Даденков и велел немедленно выехать в Черновцы и присоединиться к комиссии по проверке работы местного университета. «Торопитесь, – сказал министр, – там вас уже ждут».
Прибыв в Черновцы, я увидел, что меня действительно с нетерпением ждал председатель комиссии доцент Чернявский, преподаватель Киевского автодорожного института. Но, как выяснилось позже, не столько для помощи в работе, сколько для того, чтобы взять под контроль каждый мой шаг и каждое слово. Ведь именно в то время, когда я находился в Черновцах, в Киеве органы безопасности подвергли пристрастному допросу и запугиванию моих родных, знакомых, а также преподавателей и студентов. Даже мою старенькую маму, которая в то время возвращалась из Киева на Полтавщину, сняли с поезда, завели в отдельную комнату на вокзале в Полтаве и грубо и бестактно обыскали.
Возвращаясь из Черновцов, я был задержан кагэбистами в Киеве. Сначала меня отвезли домой, предъявили документ на обыск квартиры, и три молодца в штатском почти целый день рылись в моей домашней библиотеке.
Всё самое ценное из книг, что собиралось в течение почти столетия, сначала моим дедом и отцом, а потом мной, за час было перенесено в машину и отправлено вместе с хозяином библиотеки на печально известную Владимирскую, 33. Среди конфискованных книг значились произведения Грушевского, Ефремова, Винниченко, Олеся, Богдана Лепкого, а ещё — Софии Русовой, Бердяева, Фрейда и многих других выдающихся авторов, тогда строго запрещённых.
Там мне предъявили стандартное обвинение: «Клевета на ленинскую национальную политику и антисоветская деятельность». Почти неделю продолжались допросы, угрозы, обещания. Кульминацией была встреча с генералом Шульженко, председателем республиканского КГБ.
Я помню, как меня вызвали в это кагэбистское здание на Владимирской, 33. Со мной говорили, меня упрекали, как это я, офицер секретных войск, ракетчик, а занимаюсь таким глупым делом — с националистами якшаюсь, нашёл какого-то Сверстюка и других. И говорят: «Вы докрутитесь до того, что плохо вам будет — и из университета выгоним, и из партии выгоним, так что кончайте это».
Тот генерал, которого впоследствии убили в поезде, Шульженко, говорил на украинском языке: «Скажите, как вы дошли до того, что стали на националистический путь?». Я ему отвечаю: «Я иду путём, которым шли мой дед, мой отец — это трудовой путь украинца». А он меня перебивает и говорит: «Единственно правильный путь — это ленинский путь, и вы как коммунист должны знать это! Повторяю: единственно правильный путь — ленинский, и если вы не опомнитесь и не примете правильного решения, то на том пути вам плохо будет».
В. Овсиенко: На дедовом и отцовском...
И. Бровко: Классически было сказано, я до сих пор не забыл.
Е. Сверстюк: Я этот «Букварь», пожалуй, не возьму — совсем нет религиозного элемента. Разве что ради обложки.
И. Бровко: Я благодарю Бога, что Он дал мне честно дожить до такого почтенного возраста и что я с вами в такой атмосфере... Ну, чудо — ей-богу! Я рад жизни. Вот завтра-послезавтра приедет редактор журнала «Сузір’я» — это очень хороший журнал, — чтобы я о Королёве написал как пример для воспитания детей. Я украинскую линию Королёва обязательно проведу. Уже написано на 50%.
Когда я работаю, то себя лучше чувствую — занят, а как только ничего не делаю, то нездоровится...
МОЁ ШЕСТИДЕСЯТНИЧЕСТВО
(Из воспоминаний И. Б. Бровко о Борисе Антоненко-Давидовиче // Костёр. Борис Антоненко-Давидович глазами современников. – Составитель Б. Тимошенко. – К.: Изд-во им. Олены Телиги, 1999. – С. 161-173.
В тот день, 30 мая 1960 года, меня отпустили домой, а уже назавтра по телефону я был вызван в университет на заседание партбюро. Обвинения те же самые: клевета и антисоветчина.
Секретаря партбюро особенно возмущал факт, что я на лекциях позволял себе цитировать, как он выразился, «злейшего врага украинского народа Грушевского». Только одного этого факта достаточно, делал вывод он, чтобы исключить Бровко из КПСС и лишить его права на преподавание в университете.
Именно это предложение и было поставлено на голосование членов партбюро. Я видел, как вчерашние мои друзья, коллеги по работе, даже фронтовые побратимы (были и такие) единодушно подняли руки за предложение секретаря.
После закрытия заседания никто ко мне не подошёл, не позвал к себе и даже кивком головы не попрощался. Согнувшись и не глядя друг на друга, все по-мышиному спешили к выходу, разбегались по коридорам и кабинетам.
Последним и одиноким покидал я аудиторию красного корпуса. Изгнанный, униженный, заклеймённый, я в душе навсегда прощался с университетом, который любил, которым гордился и для которого так много хотелось сделать. И всё же не чувствовал себя виновным.
Когда свернул на бульвар Т. Шевченко, увидел — справа на скамейке сидели трое юношей. Вдруг один из них стремительно вскочил и пошёл мне навстречу. Остановился, взял за плечи и сказал: «Иван Бенедиктович, держитесь, мы вас любим, спасибо вам за всё то доброе, что вы нам подарили». Поцеловал, так же стремительно вернулся и пошёл к своим друзьям.
Это был Володя Пидпалый, молодой поэт, мой студент с филфака. Его поцелуй, его искреннее слово, словно целебное лекарство, придали мне сил — исчезло отчаяние, и я снова почувствовал уверенность в себе, в правоте собственных убеждений.
Вернувшись домой и оставшись наедине, я подумал: как же мне дальше жить, и что меня ждёт завтра? На эти тяжёлые вопросы мой разум лихорадочно искал ответы.
Вечером меня позвал телефонный звонок. С настороженностью я взял трубку и услышал незнакомый мне мужской голос и красивую украинскую речь. Это был Борис Дмитриевич Антоненко-Давидович. Он сказал, что хотел бы со мной встретиться, и если я смогу, то лучше всего это сделать завтра в 12 часов дня у него на квартире. Я ответил, что, конечно, рад буду такой встрече и что это для меня большая честь, но ведь... я сейчас нахожусь под (хотел сказать «колпаком»), а сказал: под крепкой крышей. Борис Дмитриевич ответил: «Все мы живём под одной крышей, но надеюсь, что это не станет помехой нашей встрече». Он назвал мне свой телефон, адрес, и, прощаясь, добавил: «До встречи завтра, 31 мая!»
Теперь мне из головы не выходила завтрашняя встреча. Конечно, я слышал о Б. Антоненко-Давидовиче и раньше, ещё тогда, когда был студентом педтехникума, в 1930 году. Довольно много мне о нём рассказывали мои коллеги из университета, когда он вернулся в Киев, и они с ним нередко общались. Но никогда не встречался с ним.
И вот она, первая встреча. Ровно в 12 мне открыл дверь и жестом руки попросил заходить в квартиру сам Борис Дмитриевич. Мы пожали друг другу руки. Я увидел перед собой красивого, интеллигентного мужчину среднего роста и среднего возраста с чисто выбритым лицом и с густой прядью полуседых волос, спадавшей на левую сторону. А ещё с добрым и внимательным взглядом умных глаз.
Хозяин предложил мне стул у своего письменного стола, а сам сел в своё рабочее кресло.
Заметив, что я невольно поднял глаза и рассматриваю портреты на стене, он сказал: вверху портрет Пантелеймона Кулиша, ниже — Мыколы Хвылевого, а ближе всего к вам — Григория Косынки. (Придёт время, и Борис Дмитриевич расскажет мне о трагической смерти этого талантливого писателя от рук озверевших кагэбистов, смерти, от которой в душе холодеет...).
На этом «портретная» разминка закончилась. Она мне напомнила известную поговорку: скажи мне, кто твои друзья, и я скажу, кто ты.
Не теряя времени, Борис Дмитриевич перешёл к теме, ради которой, собственно, и встречу эту назначил. Его интересовало заседание университетского партбюро. Молва о нём среди киевской интеллигенции, преимущественно преподавательской, разошлась мгновенно. Однако слухи ширились противоречивые. Одни убеждали, что была разгромлена украинская буржуазно-националистическая организация, другие утверждали, что всё ограничилось административным наказанием национально сознательных преподавателей и студентов. Так что же было на самом деле, спрашивал меня Борис Дмитриевич, разгром или «домашняя взбучка»?
Я ответил, что разгрома не было, поскольку некого было громить, не существовало, как мне кажется, в университете буржуазно-националистической организации. А вот наказания были, и притом жестокие, несправедливые. Да разве только со мной так поступили... Наказывают систематически, как правило, национально сознательных и патриотически активных преподавателей и студентов. Особенно тех, кто становился на защиту украинского языка, культуры, духовности, кто требовал, чтобы лекции читались, а научные труды писались на родном языке. И я привёл несколько самых свежих примеров.
Недавно снят с работы и заклеймён как украинский буржуазный националист декан факультета журналистики доцент Матвей Шестопал. Конечно же, за то, что активно вводил на факультете чтение лекций на украинском языке. (Лишённый работы, больной от ранений в прошлой войне, затравленный, вскоре он так и умер в бедности и одиночестве).
А сколько претерпел гонений, унижений профессор химии Андрей Голуб! И за что? За отстаивание и введение в лекционный обиход украинской научной терминологии по химии. Казалось бы, в любом университете другой страны за это профессора поддержали бы, отметили бы его, только не в Киевском; здесь работу Голуба трактовали как рецидив злостного буржуазного национализма. Парадокс!
Или вот ещё такой пример. Профессору математики Остапу Парасюку «подбросили» в каждую студенческую группу по несколько китайцев и вьетнамцев, чтобы таким образом заставить его преподавать на русском языке. Тогда профессор заявил: я соберу всех китайских и вьетнамских студентов в одну группу и буду преподавать на русском бесплатно, а нашим студентам — на украинском языке. Боже, какой тогда поднялся шум, в каких только грехах не обвиняли профессора! Примеров таких хоть отбавляй...
Борис Дмитриевич согласился и попросил меня, чтобы я вкратце рассказал о своих «грехах», в частности о том, за что же меня выгнали из университета. Учитывая то, что квартира Антоненко-Давидовича, несомненно, прослушивалась, с его разрешения, отдельные, наиболее крутые высказывания я писал на бумаге и давал ему читать.
Что же касается моих «грехов», то они, по официальной версии секретаря партбюро, сводились к тому, что, читая студентам курс педагогики, я позволял себе там, где речь шла об истории или политике, цитировать не только Маркса или Ленина, но и Грушевского; а когда приводил примеры из литературы, то нередко обращался, кроме, скажем, Горького, ещё и к Александру Олесю или Винниченко; чисто же педагогические утверждения аргументировал и Макаренко, и Софией Русовой, а специфические психологические явления объяснял, где надо было, и по Фрейду. Всё это давало мне возможность раскрывать педагогические темы и глубже, и убедительнее. А вот секретарь парторганизации трактовал это как проявление «оголтелой антисоветчины», как классово враждебную деятельность, которая, мол, идеологически калечила советских студентов.
Обвинение меня в антисоветчине ещё в какой-то мере можно было понять, ведь Грушевского коммуношовинисты генетически не переносили. А вот что касается обвинения в буржуазном национализме, то оно не только надуманное и тенденциозное, но и — коварное. Судите сами.
Как-то в одной из своих лекций я отметил, что первым украинским писателем, кто показал организованное рабочее движение, был Иван Франко, и было это в 1880 году в повести «Борислав смеётся». И тут же заметил, что о рабочем движении писал также и русский писатель Максим Горький, в частности в романе «Мать», но значительно позже, в 1905 году. Казалось бы, всё здесь правильно, всё соответствует историческим и литературным фактам и датам. А оказывается, шовинистические партийные и кагэбистские начальники университета увидели в этом унижение великой русской литературы и великого пролетарского писателя Горького. И тут же квалифицировали этот факт как рецидив украинского буржуазного национализма. А с украинским национализмом, как известно, надо бороться, и притом беспощадно...
Конечно, были у меня и другие «грехи», например, резко негативная оценка убийства Степана Бандеры коммунистическим агентом, в чём я абсолютно не сомневался. Этот «грех», по сути, был решающим при определении моей судьбы на майском заседании партбюро.
Наша встреча с Борисом Дмитриевичем завершилась оптимистично. Хотя моя информация не была исчерпывающей, но достаточной, чтобы утверждать: украинская национальная идея не умерла, наоборот, она бурно возрождалась, особенно среди вузовской молодёжи и интеллигенции, где столичному университету принадлежало ведущее место. Что и подтвердил своими парадоксами шовинистический шабаш на майском заседании партбюро. Пройдёт немного времени, и это патриотическое движение к независимости Украины приобретёт мировую огласку, утвердившись в названии — шестидесятничество. Борису Дмитриевичу приятно было это осознавать, его душа радовалась, ведь воля Украины, которой он отдал так много сил и здоровья, снова приобретала реальные очертания...
После этой встречи с Антоненко-Давидовичем в течение почти двадцати пяти лет наши взаимоотношения были дружескими, светлыми и желанными. Мы доверяли друг другу. Нередко Борис Дмитриевич приглашал меня к себе в гости, а я его с женой — к себе. Именно у него я познакомился с Василием Стусом и Гелием Снегирёвым. Хотелось бы подробнее остановиться на нескольких эпизодах из нашего совместного бытия.
Эпизод первый. Презентация романа «За ширмой» в Нежинском педагогическом институте имени Николая Гоголя.
После почти двухлетнего безработья, мне наконец разрешили работать в высшей школе и дали назначение на должность доцента психологии в Нежинский пединститут. Это было в 1962 году. Украинские национально-освободительные идеи после развенчания сталинщины стали быстро прогрессировать. На их основе в пединституте почти стихийно самоорганизовалась группа национально сознательных преподавателей. Помню, как я привёз из Киева работу Ивана Дзюбы «Интернационализм или русификация?». Какой консолидирующий резонанс она имела тогда среди нас, преподавателей, а также и студентов! От нас, из Нежина, эта работа пошла в Прагу и Братиславу, а потом и дальше — в США и Канаду.
В октябре 1965 года декан филологического факультета доцент Григорий Герасимович Аврахов пригласил Бориса Антоненко-Давидовича на вечер, посвящённый обсуждению его книги «За ширмой». Автор дал согласие и приехал.
Вечер начался в 17 часов в актовом зале института. Студентов и преподавателей, и не только филологического факультета, пришло столько, что зал буквально был забит. Не пропустили вечер также проректор института и секретарь партийной организации.
Открыл вечер декан факультета доцент Аврахов. Он, как и положено, представил Бориса Дмитриевича, а потом перешёл к роману «За ширмой». Это была своеобразная презентация произведения для молодёжи. Григорий Герасимович, сам преподаватель украинской литературы, обратил внимание будущих учителей на вечную проблему в украинской и мировой литературе, проблему отцов и детей, аргументировав её убедительными примерами из романа «За ширмой». Он рекомендовал молодым слушателям это необычное произведение обязательно прочитать.
После Григория Герасимовича слово взяла преподавательница, тоже украинской литературы, доцент Леся Коцюба. Она причислила роман «За ширмой» к лучшим произведениям всей послевоенной украинской литературы. Анализируя центральные образы романа — врача Постоловского и его родной тяжелобольной матери, преподавательница, со свойственной ей смелостью и прямотой, сказала: «Сегодня за ширмой истории лежит тяжелобольная и беспомощная наша мать Украина, ожидая смерти, а её сыновья, похожие на Постоловского, своим равнодушием способствуют этому. Это моё видение главных образов, — уточнила она и продолжила: — Автору романа удалось показать в обычном и малом — необычное и великое. Это стиль писателя. Прочтите его повесть „Смерть“, и вы убедитесь. В этом — талант писателя».
Выступление Леси Иосифовны вызвало довольно дружные аплодисменты. Но не у всех. Администрации и партийному руководству института её выступление не понравилось. Были и раньше у Леси Иосифовны категоричные суждения, но это выступление стало для неё роковым. Уже на второй день начались неприятности, а дальше — преследования; разумеется, режиссёром был КГБ. Вскоре её ночью забрали из квартиры в Нежине и доставили на Владимирскую, 33, в Киеве. Там держали её почти неделю. Но ничто не могло сломить эту героическую женщину. Отпустив домой, в Нежин, её вскоре лишили работы в институте. Потом настроили сына против неё, матери, а со временем — и родного брата, полковника. Оставшись без средств к существованию, без помощи равнодушных сына и брата, униженная, затравленная, она заболела и в отчаянии умерла.
Вот так судьба Леси Коцюбы совпала с судьбой главной героини романа «За ширмой» — матери врача Постоловского.
Но вернёмся к вечеру в актовом зале пединститута. После Леси Иосифовны выступило ещё много преподавателей и студентов. Все они, прочитав роман, давали ему высокую оценку, а особенно — очаровательному и богатому языку произведения. В завершение вечера слово было предоставлено Борису Дмитриевичу. Он уточнил некоторые коллизии произведения, ответил на вопросы, которых было очень много, и искренне поблагодарил студентов, преподавателей, декана за организацию вечера и такую тёплую встречу с ними.
Небольшая группа почитателей Бориса Дмитриевича пригласила его на ужин в городской ресторан, в отдельную комнату. На ужине каждый чувствовал себя довольно раскованно. Задавались самые разнообразные вопросы: и о его личной жизни, и о долгих годах, проведённых в лагерях, и о том, как противостоять русификации, и о его отношении к Степану Бандере. Были и неосторожные вопросы, а были и подозрительные. Тут же, на ужине, Борис Дмитриевич искренне поблагодарил Лесю Иосифовну Коцюбу за её яркое выступление, которое произвело на него чрезвычайное впечатление своим правильным пониманием образов романа, а главное — умением уловить суть основной идеи. Борис Дмитриевич тогда не мог даже подумать, что пройдёт немного времени, и эту очаровательную женщину, истинную патриотку Украины, постигнет горькая участь. И за что? За её чистую, как слеза, любовь к родному народу.
Эпизод второй. Путешествие в Мотроновку, на могилу Пантелеймона Кулиша.
Борис Дмитриевич уважал и ценил Пантелеймона Кулиша. И когда в 1969 году приближалось 150-летие со дня рождения писателя, он предложил мне вместе поехать в Мотроновку и там, на могиле Кулиша, отметить эту дату. Это было 8 августа. Кстати, всего три дня назад, 5 августа, Борис Дмитриевич отмечал своё 70-летие. Я с радостью принял его предложение. Впоследствии к нам присоединились Евгений Сверстюк с десятилетним сыном Андреем и Иван Дзюба. Наши планы значительно облегчались тем, что у меня была машина, и это нас освобождало от ненужной зависимости. Готовясь к поездке, старались телефоном не пользоваться, чтобы лишний раз не беспокоить КГБ. С этой же целью договорились: не увлекаться комментариями, ограничивать себя в эмоциях, избегать полемики... Исключение было только для Бориса Дмитриевича.
Мы по телефону друг другу не звонили, а заранее договорились, где встретимся. У меня была машина, я их ждал по дороге на Бровары, сразу за Киевом, в лесу — в том лесу, где похоронены советские политзаключённые. В Быковне. Они приехали в Быковню на автобусе и трамваях, а я уже ждал на машине, мы сели и поехали. Борис Дмитриевич рассказывал о Разумовских, когда мы подъезжали к селу Лемеши. А потом мы были в Батурине в музее, посмотрели на ту знаменитую церковь, где был похоронен Кирилл Разумовский.
Погода стояла чудесная. Бориса Дмитриевича посадили впереди, а на заднем сиденье устроились Евгений с Андрюшей и Иван Дзюба.
Миновав Козелец, что на Черниговской трассе, мы быстро приближались к следующему селу. Борис Дмитриевич обернулся к нам и сказал: «А вот и Лемеши, необычное село!» Мы вскоре поняли, что, придавая Лемешам статус «необычного» села, Борис Дмитриевич имел в виду тот факт, что из этого села вышла целая плеяда знаменитостей, начатая вольным казаком Григорием Розумом и продолженная его сыновьями и внуками — графами, фельдмаршалами, министрами, дипломатами, академиками, гетманами.
У нас было ещё время, и была долгая дорога, поэтому мы попросили Бориса Дмитриевича поделиться своим видением феномена Разумовских.
Борис Дмитриевич сначала вытащил сигаретку, закурил её, чем, кстати, он очень злоупотреблял, и начал свой рассказ.
— Род Разумовских — это явление уникальное, — сказал он, — подобные аналоги, может, и есть в мировой истории, но очень мало. К тому же, каждый из них, из пяти Разумовских, был личностью — яркой, самобытной, по-европейски образованной, и приятно, что каждый из них сохранил в себе что-то наше, казацкое, и оно в них не было просто родимым пятном, а проявлялось иногда активно и ощутимо.
Не подумайте, что я хочу из них сделать героев, борцов за Украину. Нет, они такими не были. За графские, маршальские титулы, за огромные наделы земли и за десятки тысяч крепостных они верно служили чужой, дикой и жестокой империи. Помните, у Шевченко:
Як Кирило з старшинами
Пудром осипались,
І в цариці, мов собаки,
Патинки лизали.
Шевченко терпеть не мог холуйства и не прощал его никому, этот признак рабства.
Борис Дмитриевич прикурил очередную сигаретку, минут пять смотрел вперёд, на дорогу, которая бешено неслась нам навстречу.
— И всё же, давайте посмотрим на Разумовских с другой стороны, — продолжил он, — чисто человеческой. Возьмите того же Кирилла Разумовского, гетмана, который туфельки лизал царице, но ведь именно он не побоялся написать и послать ей знаменитую петицию из Глухова с решительным призывом вернуть украинцам утраченные вольности и позволить ему создать парламент по образцу польского сейма.
А разве не тот же Кирилл Разумовский обращался к царице Елизавете с просьбой не посылать украинское войско на войны, которые не отвечают украинским интересам? Скажите мне, — Борис Дмитриевич посмотрел в нашу сторону, — кто из сегодняшних секретарей Коммунистической партии Украины посмел бы обратиться с такой просьбой в Кремль?
А разве не он, не Кирилл Разумовский, добивался права от царицы на установление Украиной дипломатических отношений с европейскими государствами?
Большой заслугой гетмана является то, что он построил в Батурине первый в Украине университет, и не его вина, что царица Екатерина запретила открытие этого университета.
А вот разрешения на открытие начальных школ для казацких детей он таки добился. И открыл их не сотни, а тысячи. Потому-то и грамотность детей в Украине в конце XVIII века была выше, чем грамотность в конце XIX века.
Верю, — сказал Борис Дмитриевич, — что гетман Кирилл Разумовский вынашивал в душе образ независимой Украины и всё делал, чтобы мирным путём вывести её из-под опеки России и приблизить к Европе. А сложись в Украине соответствующая политическая и военная ситуация, то, очевидно, пошёл бы тем же путём, что и Мазепа.
Но не суждено было. Екатерина II понимала, что Украина без гетмана Разумовского гораздо надёжнее и безопаснее. Поэтому в 1764 году Гетманщина в Украине была ликвидирована. И потекли для Украины серые, безрадостные колониальные будни.
Була колись Гетьманщина,
Та вже не вернеться!
Так писал об этом событии тот же Тарас Шевченко.
Поменяв уже -надцатую сигарету, Борис Дмитриевич продолжил рассказ о феномене Разумовских.
— Чрезвычайно интересная фигура, — сказал он, — Андрея Разумовского, сына Кирилла Разумовского. Будучи в Австрии российским послом, он близко сошёлся с Моцартом и Бетховеном. Последнего ознакомил с украинской народной песней, вообще с украинской мелодикой. И диво: наши чарующие мелодии зазвучали в трёх бетховенских квартетах. Бетховена мир знает и слушает, а благодаря ему и нас, нашу Украину, помаленьку узнаёт. Так и спасибо за это Андрею Разумовскому!
Не менее интересной личностью был и второй сын Кирилла Разумовского — Григорий Разумовский. Академик геологии. Один из минералов, найденный им, так и называется в мировой минералогии — разумовскит. Знал и ценил философию Сковороды, которая, безусловно, имела влияние на его мировоззрение.
Может, меньше всего полезного сделал для Украины третий сын Кирилла Разумовского — Алексей Разумовский. И всё же, будучи министром образования России, он поспособствовал открытию первой гимназии в Киеве.
И уж совсем как легенда воспринимается фигура Разумовского Алексея Григорьевича, старшего брата Кирилла Разумовского. Обычный сельский пастух из Лемешей, он своим чарующим голосом и своей красотой буквально пленил царицу Елизавету Петровну и всех её придворных вельмож. Да так, что царица пожелала стать его женой. И стала. Будучи графом, фельдмаршалом, бывший пастух не забыл Украины и всё сделал, чтобы вернуть родному народу его автономные права. При нём в Украине снова была возрождена Гетманщина.
Нет, не блудными сыновьями Украины были Разумовские. Объединённые казацкой генеалогией, они как могли и сколько могли помогали своей матери Украине, будучи на службе у злой мачехи России.
Верю, — подытожил Борис Дмитриевич, — придёт время, и в Лемешах, в этом необычном селе, будет стоять обелиск казаку Григорию Розуму и его патриотически настроенным сыновьям и внукам.
Наша машина приближалась к повороту на Мотроновку. Кто-то предложил сначала посетить Батурин, а, возвращаясь назад, заехать в Мотроновку. Все согласились, и через десять минут мы были в Батурине.
Наше знакомство с казацкой столицей началось с краеведческого музея. Зашли в маленький одноэтажный дом, и внимание сразу привлёк отдел, в котором демонстрировались экспонаты русско-шведской войны начала XVIII века. В частности, наш взгляд остановился на маленькой книжечке, кажется, называлась она «Черниговщина». На её открытых страницах были подчёркнуты строки, где писалось, как жители Батурина, все как один, поднялись на борьбу против Мазепы и шведских захватчиков. Как Меншиков, командующий русской армией, благодаря помощи местного населения, одержал блестящую победу над врагом 2 ноября 1708 года. Как после победы русская армия и местное население славили это событие.
А действительно ли так было? Действительно ли русские солдаты и местные жители обнимались и целовались, славя победу? История, многочисленные исторические факты свидетельствуют об обратном. Общеизвестно, что, овладев Батурином, русские войска зверски вырезали всё население города, не пожалев даже детей, стариков и женщин. Батуринская резня, дикие издевательства над мирным населением, разрушение всего города — одна из самых ужасных и печальных страниц в истории Украины.
Так кто же правду говорит: история или батуринские музейные экспонаты?
Там же, в музее, мы познакомились ещё с одним оригинальным экспонатом. Директор музея вынул из архивной папки документ и дал его нам для ознакомления. Это было распоряжение царицы Екатерины о запрете открытия в Батурине университета. Переписать этот документ мне не удалось, но содержание его примерно таково: если среди малороссов есть одарённые, которые хотят учиться, то пусть едут в Москву, там есть университет, и там они смогут удовлетворить своё желание. Открывать университет в Батурине для малороссов нет нужды.
Этот язвительный документ был подписан царицей тогда, когда университет в Батурине был полностью готов и ждал той радостной минуты, когда будет дано разрешение открыть двери и пригласить первых студентов и профессоров на первую лекцию.
Евгений Сверстюк поинтересовался, почему эта «реликвия» держится в архивной папке, а не выставлена для ознакомления посетителей музея. Ответ был коротким: не велено сверху.
После этого у нас возникло следующее желание: пойти и посмотреть на этот исторический памятник. Университет стоял на высоком левом берегу реки Сейм. Четырёхэтажный корпус коричневого цвета ещё радовал глаз. Но окна на всех этажах чернели дырами, а на полуразрушенной крыше росли сорняки. Вокруг — грязь и запущенность. Видно было, что это высокое и довольно ещё крепкое здание никому не нужно.
— У Батуринского университета, — рассказала нам экскурсовод музея, — печальная и трагическая судьба. Его история, как известно, тесно связана с именем последнего гетмана Украины — с Кириллом Разумовским. Построенный в 1760-1764 гг., по замыслу — это был первый университет европейского типа в Украине.
Но лютые екатерининские морозы так и не дали ему расцвести. Чистые высокие аудитории и залы, кабинеты, богатейшая библиотека, мраморные бюсты Аристотеля, Платона, Ярослава Мудрого так и простояли, ожидая студентов, вплоть до 1861 года. Этот светлый год, освободивший миллионы людей от крепостничества, для университета был чёрным годом. Именно в 1861 году он был до основания разграблен и практически полностью уничтожен, кроме стен.
Так они, голые стены, и простояли вплоть до конца XIX века. В 1900 году в Батурин из Вены приехали потомки Андрея Разумовского. Благодаря их усилиям, университет полностью был восстановлен. Открытие планировалось на 1914 год. Но именно в этом году, как известно, началась Первая мировая война, которая в царской России переросла в революцию, а затем — в гражданскую войну. И снова всё случилось, как и должно было случиться: университет во второй раз, уже в советское время, был разрушен и разграблен.
Именно на такой — разрушенный, ненужный, забытый, мы и смотрели в августе 1969 года. Кое-кто из нас видел его впервые, кое-кто даже и не слышал и не знал, что в нашей истории есть такой своеобразный феномен культуры и образования. Призванный сеять вечное, разумное, доброе, он вот уже два столетия маячит как символ надругательства над Украиной. Почему же так случилось, спрашивали мы сами себя. И есть ли ещё где-то в мире что-то подобное? Не хотела царица Екатерина видеть этого университета, не хотят его замечать и те, кто пришёл в Украину после царей. Очевидно, образованная и умная Украина их не устраивает.
Именно в тот день стало известно, что университет и его территория уже переданы какому-то очень богатому рыбному хозяйству из Архангельска, которое хочет здесь открыть собственный дом отдыха.
Такова она, история первого университета в Украине. Трагическая и поучительная.
У нас ещё было время, и мы решили по дороге зайти в Воскресенский храм, в котором был похоронен гетман Кирилл Разумовский. Храм нас приятно поразил. Построенный в стиле барокко, он довольно хорошо сохранился. В храме и вокруг — чисто. Посреди храма стоял знаменитый надгробный памятник Разумовскому, говорят, работы Мартоса. Под стеклянным покрытием усыпальницы горела свеча. Но всё это, как оказалось, была имитация. Первый, настоящий, памятник не сохранился. Он был разрушен и разворован, как и многое другое в храме.
Настало время ехать в Мотроновку. Мы вышли из храма, мои друзья направились к машине, а я завернул к ближайшей хате, чтобы попросить у хозяев ведро воды для радиатора машины. Пока мне наливали воду, я успел прочитать эпитафию на смерть Кирилла Разумовского, высеченную на белой мраморной плите, которая почему-то лежала перед входом в сени хаты. Я прочитал: «Здесь похоронен гетьман Украины...». На меня это произвело тяжкое впечатление: положили её здесь для того, чтобы о неё вытирать грязные ноги. У меня в глазах потемнело. Не было сомнения, что эта плита украдена из усыпальницы Разумовского, где мы только что были. Когда я рассказал друзьям об увиденном, они не удивились — такова государственная политика, историческая память украинского народа ей не нужна. Это вытирание ног о надгробие Разумовского — это как вытирание ног об Украину.
Через двадцать минут мы были в Мотроновке. Когда-то это был хутор Мотроновский, на котором Кулиш с женой Анной Барвинок доживали свой век. Сегодня же — это животноводческая ферма местного колхоза. Остановились на небольшой зелёной полянке, вокруг которой росли кусты, деревья, а через неё пролегала узкая тропинка. Там, на поляне, у самой тропинки, и была могила Пантелеймона Кулиша: земляная, осевшая, а в головах — высокий деревянный крест. А через тропинку рядом — ещё три могилки, такие же низенькие, заросшие травой, но без крестов. Мы поинтересовались у мужчины, который шёл по тропинке, чьи же это три могилки. Остановившись, он сказал, что ближайшая к Паньку Кулишу — это могила его жены Анны Барвинок, а рядом с ней — могила её брата Василия Белозерского, а чья третья — не знает. Мы допытывались, почему на их могилах нет ни крестов, ни надписей, кто там похоронен. Собеседник ответил, что ничего не было и на могиле Кулиша, это при немецкой оккупации местное население поставило ему крест. Да так он и стоит по сей день.
Был второй час дня. Люди проходили по тропинке, но к могиле Кулиша никто не подходил и не останавливался. Не лежали цветы и не было следов, что кто-то здесь сегодня был. Похоже, что мотроновцы, озабоченные колхозными буднями, забыли о своём славном земляке.
Мы подошли к могиле, с нами был и наш самый младший друг Андрюша, и склонили головы. Борис Дмитриевич сказал:
— Он любил Украину, жил для Украины и много доброго сделал для неё. Его «кулишовка» упорядочила наш язык, его «Чёрная рада» положила начало украинскому историческому роману, его переводы Шекспира, Байрона, Гёте приблизили нас к культуре Европы, его Библия на украинском языке ещё теснее породнила нас с Богом. Спи спокойно, неутомимый подвижник, друг Тараса, тебя твой народ не забудет!
Наше чествование 150-летия со дня рождения Пантелеймона Кулиша завершилось возложением цветов на могилу юбиляра, а также на могилы Анны Барвинок, Василия Белозерского и на могилу неизвестного.
Через час мы возвращались домой, в Киев, ехали с тёплым чувством исполненного долга, но и с горькой болью в сердце: почему могила Кулиша так и осталась без внимания? Очевидно, главная причина здесь была не столько классовая, сколько имперская. Любить так Украину, как любил её Кулиш, — это не нравилось ни царям, ни генсекам. Потому такое и официальное почтение.
Эпизод третий. Поездка в Полтаву и Старые Санжары.
Слава Богу, путешествие в Батурин и Мотроновку завершилось благополучно. А сколько их ещё было, таких путешествий. Разве можно забыть нашу поездку с Борисом Дмитриевичем и Иваном Макаровичем Гончаром в Полтаву на Сорочинскую ярмарку, а потом — в Старые Санжары. Цель поездки определил Иван Макарович — поиски и приобретение этнографических ценностей Полтавщины. Побывав на ярмарке, мы успели ещё побывать в Опошне, Старых Санжарах и в моих родных Кобеляках.
Самое печальное впечатление произвели на нас Старые Санжары, родина дорогой всем нам правозащитницы Оксаны Яковлевны Мешко. Когда-то это был богатый и красивый городок. Именно городок, а не село. Через него проходил знаменитый Чумацкий шлях, об этом упоминает Т. Шевченко в повести «Наймичка». Помню и я этот городок с 1928 года. Меня очаровывали его широкие и ровные улицы с высокими яворами. Справа и слева стояли красивые белые хаты, утопавшие в садах и цветах. Здесь жили трудолюбивые и довольно зажиточные люди, потомки запорожских казаков.
Старые Санжары поддержали Центральную Раду, а молодёжь вся пошла к Петлюре. Хлеборобы Старых Санжар оказали серьёзное сопротивление насильственной коллективизации. За всё это советская власть жестоко отомстила гордым и свободолюбивым жителям городка.
Первые репрессии на старосанжарцев градом посыпались сразу же после окончания гражданской войны. Почти треть населения городка осуждена и выслана в Сибирь или расстреляна. Среди расстрелянных были и отец и брат Оксаны Мешко, а две сестры и брат сбежали и разбрелись по свету.
Ещё одну треть населения городка унёс искусственный голодомор 1933 года, который особенно бесчеловечным был именно в Старых Санжарах, как акт мести бывшим петлюровцам и кулакам. А остальное население почти доконали репрессивные органы сразу же после окончания войны с фашистской Германией. Да так доконали, что и название городку поменяли. С 1946 года его официальное название — село Решетники. А в следующем, 1947 году, была впервые осуждена и Оксана Мешко.
Когда мы убедились, что от древнего богатого, красивого казацкого городка Старые Санжары осталось полуразрушенное, бедное колхозное село Решетники, нестерпимо тяжело стало на душе... Борис Дмитриевич, сев в машину, приложил руку к сердцу, склонил голову и попросил воды.
На второй день через Кременчуг и Золотоношу мы вернулись в Киев.
Завершая воспоминания, скажу: не менее впечатляющими были также наши поездки с Борисом Дмитриевичем в Умань к Надежде Суровцовой, а также в Канев на могилу Тараса Шевченко. В этих поездках я впервые услышал от него рассказ о трагической смерти талантливого писателя Григория Косынки, о приёме Сталиным украинских писателей в 1929 году, об атамане Зелёном и трипольской трагедии, о его участии в освободительной борьбе периода гражданской войны в Украине, в частности о событиях в Проскурове.
Потом поехали мы домой. Ехали мы всегда осторожно, чтобы нас не останавливала милиция и не проверяла. Но всё было благополучно.
...Уже много лет нет среди нас дорогого Бориса Дмитриевича. Но каждый раз, когда я иду на могилу моей мамы, что на Лесном кладбище, то захожу по дороге и к Борису Дмитриевичу, кладу цветы на его могилу и благодарю Бога, что свёл меня с этим рыцарем мужества и духовности, который оставил в моей душе глубокий след гуманности и помог в самые тяжёлые времена моей жизни сохранить в себе человека.
Эпизод четвёртый. Встреча с Василием Стусом.
(Записано 11 октября 2003 года)
А ещё было, что Борис Дмитриевич позвонил мне, чтобы я к нему зашёл. Я приехал. Они сидели вдвоём с Василием Стусом в его квартире на улице Богдана Хмельницкого. Тогда она была Ленина, на втором этаже.
В. Овсиенко: В этой квартире впоследствии жил Николай Данилович Руденко (19.12. 1920 – 1.04. 2004), это дом № 24, квартира 68.
И. Бровко: Я слышал. Это даже приятно, что так передано. Он меня познакомил с Василием Стусом. Стус меня не знал, так Борис Дмитриевич характеризовал меня по-своему, как он может, представил Стусу. Стус сначала держался скованно, ведь третий человек пришёл. А в дальнейшем держался свободно.
Мне запомнилось из его рассказа вот что. Говорит, вот живу в Киеве — до того скучно! И назвал несколько фамилий тех людей, с которыми он до ареста работал в Институте литературы. Говорит, боятся встретиться с ним: за руку поздоровается, а потом показывает на часы: «Я спешу, прости!» — и побежал. И ещё и ещё привёл примеры. Говорит, хожу один — ну, хоть в лагеря возвращайся! В шутку сказал: «Там хоть друзья, душу откроешь, поговоришь, а тут, в Киеве, хуже, чем в лагере». Ну, улыбнулись мы, но в том была большая доля правды, что люди очень боязливые и не контактировали с ним.
В. Овсиенко: Это могло быть в промежутке с августа 1979 года до второго ареста, 14 мая 1980 года — тогда Стус был в Киеве. (Василий Якивчик говорит, что эта встреча была в марте 1980 года. — Ред.).
И. Бровко: А остальной разговор я не запомнил. Василий Стус был очень поражён, что после его возвращения в Киев из заключения и ссылки он встретил людей таких окаменевших, парализованных этой идеологией, перепуганных, что даже не хотели говорить с ним, — убегали, боялись. Такая была советская демократия.
Опубликовано:
Сохранить в себе человека... // Добром согретое сердце. К 90-летию И. Б. Бровко / Харьковская правозащитная группа; худ.-оформитель Борис Захаров, ред. Василий Овсиенко. - Харьков: Фолио, 2005. - 136 с. фотоилл. (С. 5 – 39).
Снимок:
Brovko И. Б. Бровко, проректор Киевского института культуры. 1972 г.
Снимок Александра Рябокрыса:
Brovko1 И. Б. Бровко 22.02. 2002 г. выступает в с. Старые Санжары на Полтавщине на торжествах по случаю присвоения местной школе имени Оксаны Мешко.
Снимок В. Овсиенко:
Brovko2 Плёнка 0123, кадр 16. 24.01. 2002. Киев. Иван Бенедиктович Бровко, Евгений Сверстюк, Василий Овсиенко.
