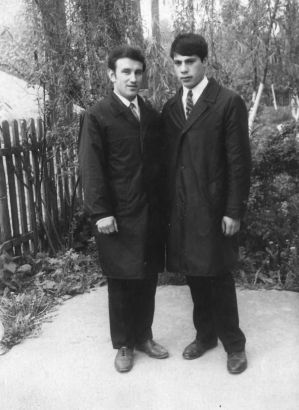СЕМЬЯ
Василий Овсиенко: 8 февраля 2000 года в славном городе Коломыя Ивано-Франковской области, в гостеприимном доме пана Мирослава Симчича* (*Справки о некоторых политзаключённых, упомянутых в этом интервью, и о других реалиях вынесены в конец и размещены в алфавитном порядке. – Ред.) рассказывает о себе пан Дмитрий Гринькив.
Дмитрий Гринькив: Я, Дмитрий Дмитриевич Гринькив, родился в селе Марковка, ныне Коломыйского района, в простой крестьянской семье. Отец мой принадлежал к уважаемому в селе роду Гриньковых, а мать – из рода Копильцевых, её звали Елена Юрьевна. Брат отца Василий был сечевым стрельцом, а его сын Николай (мой двоюродный брат) позже воевал в УПА, был в сотне Спартана пулемётчиком. Конечно, сечевое стрелецтво в нашем роду было очень близко сердцу.
Отец, Гринькив Дмитрий Петрович, родился в 1900 году, а все его товарищи, родившиеся раньше – 1888, 89, 90-го и все его ровесники – все попали в Сечевое Стрелецтво*. А отца позже взяли в польскую армию, он служил при канонирах (пушках).
Поскольку из семьи в Сечевое Стрелецтво ушёл старший брат отца Гринькив Василий Петрович, то на хозяйстве с моим дедом Петром остался младший Дмитрий – мой отец. Он должен был содержать всё хозяйство и потому рано женился (едва ему пошёл 20-й год) на сестре своего товарища, Прасковье Приймак. Кстати, товарищ отца Приймак Василий, старше на 2 года (род. 1898 г.), ушёл в Сечевое Стрелецтво и был участником многих боёв, а также был на итальянском фронте.
Я сын от второго брака. Первую жену, Прасковью, расстреляли мадьяры, когда отступали. У нас в Марковке был фронт. Мадьяры хотели забрать корову из хлева, а она была такая настойчивая женщина, не хотела её отдавать. Тогда один мадьяр выстрелил ей разрывной пулей сзади в голову. Так что отец застал свою жену мёртвой во дворе, с разорванным лицом. У него тогда от первого брака было трое сыновей и одна дочь. Их уже нет в живых: два сына подорвались на мине, а один пал под Кёнигсбергом, будучи мобилизованным в Советскую Армию. Это мой сводный брат Гринькив Василий Дмитриевич.
А мать моя – это вторая жена отца. Он женился на ней в 1947 году, после фронта. Это у неё тоже был второй брак. Её муж, говорят, умер от тифа, а она осталась с маленьким ребёнком – с моим братом по матери, Копильцевым Василием Николаевичем.
Я родился в 1948 году 11 июня. Позже мать уже не могла иметь детей – я так и остался единственным общим ребёнком своих родителей.
Конечно, отец в те времена помогал нашим ребятам-повстанцам, потому что его племянник воевал в сотне Спартана. В боёвке этого села была и наша дальняя родня – из Гриньковых и из Копильцевых. Отец мог помогать тем, что возил фураж на подводе, доставлял в сотню то, что нужно было привезти. Через дом проходило много вещей, необходимых для повстанческого движения. Отец иногда даже разделывал здесь какую-нибудь живность, чтобы подкормить повстанцев (свинью или там какого-нибудь телёнка). Когда поступало такое задание, то он это делал.
Его дочь Мария, то есть моя сводная сестра, очень активно помогала ребятам. Она была связной. Помнится, мне рассказывали такой случай, когда два повстанца отбивались у нас на окраине. Это был средь бела дня неравный бой с энкавэдэшниками. Всё село, как говорится, замерло, потому что видели, что там ребята отбиваются уже до последней пули. И они почему-то бросились в село. Перебегая через село, отстреливались от нападавших энкавэдэшников. Их, нападавших, было много, и они летели, как бешеные псы, за этими ребятами. Один парень тяжело дышал, потому что был ранен в руку. Он шёл через наш двор и узнал Марию. Очевидно, у него были какие-то отношения с ней, потому и направился именно в этот двор, бросил завёрнутые в военную одежду документы и какие-то вещи и сказал Марии на ходу: «Спрячь, я тебя прошу». Ребята бросились в другой перелесок и скрылись.
Ну, конечно, у энкавэдэшников были бинокли, и они зафиксировали, что ребята свернули в наш двор. Пришли, перевернули всё вверх дном. Начали издеваться над Марией – она старшенькая была: «Чего он заскакивал, что ты с ним говорила?» Она говорит: «Я дала ему только воды напиться, потому что он был измучен. Я не знала, кто это, а на нём было галифе, так я подумала, что это ваши ребята, раз военная одежда». Ну, конечно, они там всё перерыли, но ничего не нашли. Как оказалось – сообразительная была девушка, – она эту одёжку с документами бросила в ясли корове под сено, а корова как раз жевала сено, так они не обыскали, хотя в хлев заходили, посмотрели, не задержались ли тут ребята. Это был героический поступок. Можно понять, в каком состоянии были отец и мама, когда такое событие произошло почти на глазах.
Но позже, уже когда племянник Николай стал чаще приходить по вечерам к отцу, то отец помогал ему и сотне Спартана, чем мог. Племянник (у него был псевдоним «Виноград») был пулемётчиком сотни и выполнял конкретные поручения. Например, такое (я это описываю в одной из новелл). Вместе с повстанцем с псевдонимом «Зверобой», тоже пулемётчиком, они по своей инициативе и с разрешения сотенного Спартана взяли в перекрёстный огонь большой отряд энкавэдэшников и «стрибков»* (*«Стрибки», «ястребки» – от рус. «истреблять». Созданные НКВД военизированные группы из местного населения для борьбы с повстанцами. – Ред.), который прибыл на четырёх «студебеккерах»* (*Грузовые автомобили производства США, полученные СССР во время II Мировой войны по ленд-лизу. – Ред.) из Печенижина, где дислоцировался гарнизон НКВД. Перед этим налётом гарнизонников стало известно об их рейде, так что ребята попросились на эту отважную акцию, заверив сотенного, что обойдётся без большого боя. Иначе будут большие жертвы и с той, и с другой стороны. Они без боя их задержат и заставят вернуться назад в свои гарнизоны. Сотенный сначала колебался отдать такое на двоих человек, сказал, что это невозможно: «Вы идёте на верную смерть, ребята». Но они заверили, что сделают это. У них был свой план, и они пошли.
Один засел со стороны села Рунгоры, а Николай, мой двоюродный брат, засел со стороны Марковки. Они пропустили машины под лес и оказались как бы уже в тылу энкавэдэшников, которые вылезли из машин. Ребята с пулемётами выбрали хорошие места – и ударили поверх голов, когда те уже вышли шеренгами. И так били, что все энкавэдэшники попадали в болото и не могли поднять голов. Пулями чесали поверх голов, чтобы не сильно задеть, чтобы не вызвать жертв среди них, и так дали им понять, что в лес им идти нельзя. Энкавэдэшники, видимо, посовещались и поняли, что это, и потихоньку начали отступать к «студебеккерам». Спрятались за «студебеккерами», а ребята дальше не давали им возможности отступать к лесу. Тогда они сели в машины и уехали.
Это, конечно, было оценено на высоком уровне, они оба получили награды за эту операцию, что отвратили от сотни Спартана опасность. Был такой случай в нашем селе...
Ну, что касается того – я маленький был, я 1948 года. Единственное, что в моей памяти закрепилось: когда приходили в наш дом эти энкавэдэшники, срывали пол в хлеву шомполами, кричали, били, всё время уводили куда-то отца – я это помню, но я был очень маленький. Приходили иногда, когда мама одна была в доме, спрашивали, где отец, на русском языке заставляли её: «Вари кулеш, вари кулеш». И мама вынуждена была иногда даже варить для врага еду, лишь бы они убрались из дома. Ну, но это все знают, все это пережили.
В.О.: А тот бой, о котором вы рассказывали, когда он был?
Д.Г.: Он был где-то в 1945 году. О нём мне рассказывал сам мой брат. Он уже покойник. Как он ушёл из сотни, я не могу рассказать.
ЮНОСТЬ
Я окончил Марковскую восьмилетнюю школу. Пошёл в неё в 1955 году, а в 1961 уже пошёл в Печенижинскую школу, которая на то время была одиннадцатилетней. Это как раз тогда, в хрущёвские времена, установили 11 классов. Окончил в 1966 году. Тогда было очень модно поехать куда-нибудь по комсомольским путёвкам на стройки. Но сначала брат мне рекомендовал, и друзья: «Ты хорошо знаешь историю, иди поступай в Ивано-Франковский педагогический институт на исторический факультет». Если бы я пошёл, то не исключено, что поступил бы и учился бы. Но мои друзья, особенно Роман Чупрей, говорят: «Сейчас уже не модно быть учителями, сейчас, знаешь, век технократов, инженеров – давай лучше поступим во Львовский политехнический, на энергетический факультет». Такая какая-то неизвестная для нас была эта профессия. Я забрал документы из Ивано-Франковского педагогического института и занёс их во Львовский политехнический. Конечно, допустил ошибку, потому что нужно было сразу перестроиться насчёт экзаменов. Я готовил историю, знал гуманитарные предметы, а на Львовскую политехнику больше нужна была математика и физика. Письменную математику я прошёл, а на устной меня срезали – тогда был введён новый раздел, логарифмы. Я там немножко, как говорится, плавал. Хотя преподавательница, принимавшая экзамены, сказала: «Вы на второй год обязательно к нам поступите, я вижу по вам, вы всё будете знать. Просим». Я говорю: «На второй год, очевидно, меня уже здесь не будет».
Но судьба повернулась так, что я с той преподавательницей ещё раз встретился спустя более десяти лет, когда уже поступал в Институт нефти и газа в Ивано-Франковске. Она там тоже была в приёмной комиссии, узнала меня, потому что у неё была память на фамилии. Кроме того, там уже учился на четвёртом курсе Гринькив Василий из моей дальней родни. Она его хорошо знала, поэтому спросила, не родственники ли мы.
Ну, я взял и поехал на так называемые новостройки по комсомольской путёвке. Мы же тогда комсомольцами были. Поехал в Днепропетровск, выбрав этот город по неизвестным причинам. Город на Днепре, там как раз заводы строятся, и это меня привлекло. Думаю, год поработаю и вернусь поступать в Институт нефти и газа или в Политехнический.
Я поехал. Попал на завод, который обслуживал большой жилищный трест, «Днепростроймеханизация». У того треста был завод – Днепропетровский районный ремонтный завод. Он был неподалёку от Шинного завода – такого гиганта на Украине. По той же путёвке много приехало из Ивано-Франковщины – и из Рогатинского района, и из нашего Коломыйского, из Богородчан там были. Мы с ребятами подружились. Нас там сразу приняли в бригады, где большинство людей были из Восточной Украины. И бригадирами были, и хорошие такие мастера. Они сразу сказали: «Ребят из Ивано-Франковской области мы забираем, потому что эти ребята работящие, они будут хорошо работать».
Мы пошли в механический цех учениками слесарей-сборщиков металлоконструкций. Там разные были конструкции – от простых строительных перил на балконе и лестничных перил до более сложных, этих мусоропроводов. Там уже нужно было в чертежах разбираться. Мы начали это осваивать. К нам присмотрелся главный инженер завода и порекомендовал нескольким из нас пойти учиться в Строительный институт. Пока что мы пошли на подготовительные курсы по заявке этого главного инженера. Но поступить мы не успели, потому что нас уже вызвали в военкомат Амуро-Нижнеднепровского района г. Днепропетровска и записали в первый летний призыв (тогда по инициативе маршала Гречко в армии начались реформы по сокращению срочной военной службы).
Я написал письмо Чупрею – Чупрей, кажется, все экзамены сдал во Львовский политехнический, но не прошёл по конкурсу. Мы списались, я позвал его ехать ко мне, будем тут вдвоём. Мы товарищи, так хотели быть вместе. Он приехал, мы вместе сдали экзамены, присвоили нам второй разряд. Что-то три месяца поработали, освоили свою специальность и начали работать в бригаде Николая Гулаги, был такой из Восточной Украины бригадир, прекрасный человек. Но нас всё-таки тянуло на Западную Украину.
Кстати, мама Романа Чупрея (я общался с его семьёй) в своё время сделала большой вклад в развитие печенижинской «Просвиты». Печенижин – это большой посёлок. У нас село маленькое, а их – большое. Его мама, Луцак Гафия, очень много интересных вещей рассказывала о том, чего в школьной программе не было. Говорила, что теперь засилье русского языка, что мы и литературу не ту читаем, нет той литературы... И всё она возвращала нас назад, в те времена, когда та литература была, а теперь она запрещена. Нас это угнетало: почему запрещена? Мы с Романом всегда были в этом деле единомышленниками: надо этот запрет обойти. Почему так должно быть? Почему запрещён Грушевский? Она очень хорошо знала труды Михаила Грушевского, «Историю Украины-Руси». Она доставала нам такую литературу, мы ещё тогда её перечитывали. А когда мы попали в Днепропетровск, то уже не имели возможности это перечитывать и с ней общаться. Там была другая атмосфера и другие люди. Но мы с удовольствием вспоминали ту литературу и не раз в кругу восточных украинцев о ней говорили. Они с удивлением это выслушивали – о сечевом стрелецтве, о боёвках УПА на Западной Украине. Они очень удивлялись.
Нас там обычно всех называли «бандеровцами». Мы не обижались. Это если бы сказал какой-нибудь русский, со злостью, – а они это говорили с каким-то будто бы и уважением. Мы даже гордились этим и свободнее себя чувствовали на том заводе. Это были такие открытые люди. Мы не чувствовали никакого подозрения к себе. Нас даже могли использовать какие-то силы, потому что мы были такими простыми. Мы понимали так, что мы украинцы и они украинцы, и так просто им и говорили: «Почему вы по-русски говорите? Давайте начнём по-украински». Они качали головами и удивлялись нашей простоватости. Потому что они уже, видно, хорошо наелись всего этого, так помалкивали. Но нас очень благосклонно воспринимали.
В конце концов мы получили повестки в военкомат, потому что были призывниками. Роман сразу сообразил и говорит: «Я сбегаю». Пройдя одну комиссию, он уехал. А я задержался. Моя задержка объяснялась тем, что у меня там была девушка – это моя нынешняя жена. Я сказал Роману: «Ты уже едешь, а я не могу ехать». Потому что намеревался на ней жениться. Но я ещё же молодой, это было ещё в планах. Говорю: «Я всё-таки, наверное, останусь и попробую поступить здесь или в университет, или в этот Строительный институт, где мы по договорённости с инженером проходили подготовительные курсы».
Но в том году по приказу министра обороны Гречко была введена двухлетняя служба и брали с 18 лет. Сделали весенний призыв, и меня по специальности должны были взять на подводные лодки. Был там на заводе один работник, такого крепкого сложения, казацкая кость, он мне сказал так: «Вот видишь, какой я? А меня эти подводные лодки здоровья лишили, что я ничего не хочу. Избегай их всякими способами!» – «А как избежать? Я же повестку получил – видишь?» – «Я тебе посоветую, как это сделать. Попросись у этого военного комиссара Нижнеднепровского района, что хочешь поехать домой, и не вернись вовремя. Ну, скажешь, опоздал, родители там расплакались...» А я жил в общежитии Днепровского района, это на левом берегу Днепра, и добирался на работу на правый берег.
Хорошо, я так и сделал. Говорю военному комиссару, что на те несколько дней, которые дают перед призывом, я поеду в Марковку. Поехал, попрощался с родителями, но на два дня задержался. Возвращаюсь, а там военный комиссар топает ногами, кричит, аж пена изо рта: «Пришибленные, угловатые и хитрые эти бандеровцы, они все такие! Не выйдет из тебя хорошего мужика, солдата. А я хотел, чтобы ты был хорошим солдатом!» – «Вот, – думаю, – какой они мне вуз готовили: чтобы я пошёл на подводные лодки!» – «Ну, хорошо, пойдёшь в танковые войска!» Он не любил танковые войска: этого военного комиссара разбили во время Второй Мировой войны в наших краях. Между Городенкой и Коломыей он потерял целый полк танков, они были разбиты немецкими частями. Поэтому он с такой досадой вспоминал ту Коломыю, куда я ездил. Так что это с его стороны была как бы месть. А для меня это не означало мести – мне служить где угодно.
Призвали меня в июне 1967 года. Я попал в Остёр на Черниговщине, в тот учебный корпус на Десне, который готовил сержантов, младших специалистов, механиков-водителей танков. Попал я в разведывательные части плавсостава, которые обслуживают плавающие танки ПТ-76. Я завершил обучение, стал механиком-водителем, выполнил все те нормативы. Там было условие, что кто закончит обучение на отлично, тот имеет право выбора между частями Киевского военного округа. Я выбрал Днепропетровск. Надо мной все очень удивлялись, потому что Днепропетровск считался очень опасным для танкистов. Они считали, что это дыра, там плохо служить, там, говорят, Коммунистическая дивизия – куда ты идёшь? А это я в связи с тем, что у меня там осталась девушка – такое романтическое увлечение. Конечно, я попал не в сам Днепропетровск, а под Новомосковск, где стояли две танковые части. Как мы их называли, военные поселения – Черкасск и Гвардейск. Говорили, что это тот знаменитый маршал Чуйков, глядя на карте на изгиб Самары, которая впадала в Днепр, сказал: «Здесь после окончания войны поставите танковые части». Там я дослуживал свою танковую службу, уже сержантом.
Ничего особенного на службе не было, но, поскольку это Коммунистическая дивизия, то начали на меня давить, почему, мол, ты, такой активный сержант, а не партийный? А я ещё с села знал, что у нас партийных не привечали. А они: да ты что, да как, то-сё... Там пропаганда была довольно серьёзная, я остался один-единственный беспартийный сержант в той части разведки. А в этой части разведкой всей дивизии руководил майор Володин. Он начал подходить ко мне и говорить, чтобы я остался служить как офицер: «Мы видим, что вы такой вышколенный, учебное заведение окончили. Но это невозможно, потому что вы беспартийный – надо вступить в партию». Мне не с кем было посоветоваться, потому что я был один в той части, так просто одного сержанта, который должен был демобилизоваться, спросил: «Что это тебе даст, что ты партийный?» А он сказал: «Да это сегодня так, а завтра может быть по-другому. Я могу и выйти из партии». Он был родом с Винниччины. Я себе думаю: всяко может быть. Я слышал и такие вещи, что партийные люди могли и помочь в разных ситуациях. И меня захватила эта романтика. Я подумал себе, что если я стану партийным, то не изменю своих взглядов, но, возможно, смогу чем-то поспособствовать украинскому делу. Я дал согласие.
Где-то в августе или сентябре 1968 года (помню, было тепло) надо было ехать в Днепропетровск вступать в кандидаты. В комиссии был генерал-майор, фамилии которого я не знал. Они задавали банальные вопросы, но генерал спросил, какая у меня семья. Я сказал, что простые крестьяне. Они покивали головами. Очевидно, они делали какой-то запрос, там был особый отдел. Я вернулся в часть, а потом тот майор Володин сказал, что меня приняли кандидатом, и отныне у меня начинается кандидатский стаж.
Я попадал под сокращённую службу, уже не служил три года. Некоторые из тех, кто вместе со мной завершили обучение, уже демобилизовались, я с ними встречался в Днепропетровске как с гражданскими, а сам ещё служил. Мне было странно, почему они уволились, а я ещё нет. Я поднял этот вопрос. Майор говорит, что мне ещё осталось несколько месяцев, осенью я уйду из армии. То есть я ушёл не в июне, а в ноябре 1969 года.
К тому времени я уже был женат. Из Днепропетровска ко мне на службу приезжала та девушка, Анна Сербин. Я с ней учился в Печенижинской школе: она была в классе «А», а я в «Б». По взаимному согласию мы поехали вместе на стройки Днепропетровска. Анна рассказывала, что в Днепропетровске есть её родня. Правда, мы с той роднёй так и не связались.
Навещая меня на службе, Анна как-то пожаловалась, что какой-то сержант на контрольно-пропускном пункте ехидно пошутил, мол, мало ли тут этих «гулящих» ездит. Тогда, чтобы не было таких разговоров и разных пересудов, мы с Галиной решили пожениться. Случилось это 26 октября 1968 года. По паспорту она Анна, из рода Сербиных. Она из Полтавской области, село Вечирки Пирятинского района. Это село (я в нём позже был) недалеко от Берёзовой Рудки, где есть тот памятный панский дом, в котором бывал Тарас Шевченко. Очевидно, где-то там, в той Берёзовой Рудке, он и рисовал портрет той знаменитой пани.* (*Во дворце братьев Закревских в Берёзовой Рудке Т. Шевченко бывал в 1843 г., тогда и нарисовал портрет Анны Ивановны Закревской. Бывал там также в 1945–47 гг. – Ред.). Сейчас есть фильм о Шевченко, где упоминают Берёзовую Рудку. Когда я был в Вечирках, то люди говорили, что там ещё со времён Тараса Шевченко сохранилось зеркало и другие реликвии. Вот оттуда родом, из Сербиных, была и моя жена. По маме она Дикая, казацкого рода. Говорят, что тот казацкий род Диких и основал село Вечирки. А по роду её отца она из Сербиных. А как они оказались здесь – это уже такое...
Итак, я женился и в ноябре 1969 года уволился из армии. Куда мне идти работать? Возвращаюсь на тот же завод в Днепропетровске, откуда я призывался. Поставили меня на партийный учёт. Парторг подумал и говорит: «Знаете, вы такой активный парень, вижу, вы вернулись на свой родной завод – так я вас представляю к медали к 100-летию со дня рождения Ленина». Это они в апреле 1970 года должны были эту медаль дать. А я беру и говорю, что не знаю, насколько она мне нужна… Потому что я думал, что медали дают за какие-то заслуги, а оказалось, что они отобрали нескольких рабочих, которые хорошо работали после демобилизации. А я тем временем списался с домом, и брат мне написал, что там немного плохи дела, что родители старые, чего это ты там остался? Возвращайся домой. Потом я списался со своими товарищами, они тоже предлагали возвращаться домой. Я решил ехать с семьёй, потому что у меня уже была семья: в декабре 1969 года родилась дочка Алёнка, нам стало труднее в Днепропетровске, так мы решили вернуться домой, где было и жильё, и всё было.
Мы так и сделали. И так быстро, что администрация завода и оглянуться не успела. Меня вызвал раздражённый этот парторг и говорит: «Как так? Мы на вас возлагали надежды, а вы уезжаете? Вы не уедете – мы вас тут представляем к награждению медалью». Я говорю: «Нужна ли мне эта медаль?» А он говорит, что это выглядит неуважительно, ведь медаль все хотят получить. А для меня это было непонятно: зачем она мне, та медаль? Он был очень раздражён и сказал, что такого не ожидал: «Это западенец, почему он так?» Но то, что он говорил, меня не останавливало.
Очевидно, он написал какую-то сопроводительную записку, потому что когда я пришёл в Коломыйский горком партии становиться на учёт, то там секретарь так поднял на меня взгляд и говорит: «Ага-а...» Так протянул тот секретарь, что учёт вёл. Так что у них уже была на меня какая-то характеристика. Говорит: «О, так вам придётся заново проходить кандидатский стаж. Почему вы из Днепропетровска ушли, не дождались, чтобы вас там приняли?» Если бы я там получил ту медаль и сразу после этого меня приняли бы в партию, я так понял. Не хватало нескольких месяцев, чтобы выдержать этот годичный кандидатский срок. А я всё это поломал, и тут говорят, что заново надо. Какой-то вечный кандидат. Но я это не принимал близко к сердцу. Кандидатские взносы платились тогда так же, как и членские.
Оформился я на работу в Коломые. Поселились мы в Печенижине у родителей жены, у Сербиных. Отец её там был воспитателем в школе-интернате, мама работала в больнице. Там квартира была довольно просторная, большая. В своё село я не поехал, потому что добираться до работы было труднее, а из Печенижина ближе. В этом же 1970 году оформился в строительное управление № 112 в Коломые. Позже оно стало ПМК-67 (передвижная механизированная колонна), им руководил директор Чернявский. Работал я слесарем-сборщиком, потому что эту специальность я получил на днепропетровском заводе. Они не возражали. Сразу же стал на квартирную очередь, потому что строителем её можно было быстро получить. Строительство в Коломые велось в то время довольно интенсивно, сдавали дома планово и быстро.
А тем временем я интенсивно готовился к поступлению в институт. Через несколько месяцев мне выдали неплохую характеристику, обычную, что хорошо работаю. Я поступал в Ивано-Франковский институт нефти и газа. Поскольку в Коломые открыли вечерний факультет, на который приезжали преподаватели института, то здесь в 1970 году и начал я своё обучение.
В 1971 году пришло время принимать меня в партию. А перед тем ко мне подошёл парторг предприятия Кизилов и сказал: «Мы присматривались к вам. Вы неплохо пишете репортажи в газеты о строителях. А у нас сложились такие обстоятельства, что нет секретаря комсомольской организации. Такая важная организация, большая. Не смогли бы вы её возглавить как кандидат в Коммунистическую партию, да и ещё поступили в институт?» Я подумал, посоветовался с ребятами. Ребята сказали, что это неплохое дело.
А я тем временем начал перебираться в Коломыю: мне нужно было жить где-то поблизости, потому что из Печенижина стало трудно доезжать. Я прописался в общежитии и должен был хоть раз в неделю там переночевать, чтобы меня комендант видел. А на самом деле я семейный. Я решил перевезти и жену в Коломыю. Нашёл квартиру. И эта квартира произвела переворот в моём сознании. Я понял, что я на правильном пути. Я подружился с людьми, у которых поселился. Они были участниками освободительной борьбы. Прасковья Рыжко, жена хозяина дома Романа Рыжко, родом из Печенижина, была связной УПА, отсидела 10 лет в Караганде. А он был из дивизии СС «Галичина».
Они были сознательными людьми и начали вести со мной разные беседы. Но он вёл себя со мной довольно осторожно, потому что я ему сказал, что партийный, и показал ему свой партбилет. А он так встал, посмотрел и говорит: «А что же это тебе даст в таком деле, что ты хочешь что-то делать для Украины?» Я говорю: «Возможно, так, а возможно, не так». А Прасковья из того дома: «Вы плохо сделали, что пошли в партию. Смотрите, что вытворяют партийные!» И начала приводить разные такие примеры, которых я никогда не слышал. Началось раздвоение личности, что я одновременно партийный, а тут мне показывают, что эта партия преступна. А Прасковья была довольно осведомлённой женщиной. У них была богатая библиотека. Они мне показали несколько старых книг.
Конечно, я, встречаясь со своими ребятами, говорил о том, что как-то нужно Украине выходить из неволи. Потому что увидел, что даже в институте очевидное засилье русского языка, что мы вынуждены учиться по русским книгам. Был «сопромат» вместо «опору матеріалів», «теплотехника». Ну, мы сами переводили, когда учились.
В.О.: А преподавание велось на каком языке?
Д.Г.: Математик преподавал на русском, сам еврей. Историю КПСС преподавал искренний украинец по фамилии Твердохлиб. Мне довелось с ним общаться. Он уважаемый человек, нормально разговаривает, а надо целый курс истории КПСС выучить и сдать. И марксистско-ленинскую философию – если ты эти предметы не уважаешь, то тебя где-то там затирают, не видят.
А потом этот наш Коломыйский вечерний факультет Ивано-Франковского Института нефти и газа на втором курсе ликвидировали. Хотя мы очень выступали за то, чтобы в Коломые был филиал, потому что у нас нет ни одного высшего учебного заведения. Но пришли партийные и сказали на собрании студентов: «Извините, нет возможности построить помещение». А наш вечерний факультет действительно ютился по школам. Например, во второй школе. Мы даже на обувной фабрике учились в актовом зале. Помыкались те студенты-заочники, а потом вынуждены были перевестись на заочную форму обучения.
А тем временем в 1971 году меня вызвали на бюро и принимают, наконец, в партию, по рекомендации этого парторга Кизилова, который «поженил» меня на должности секретаря комсомольской организации. Начал я работать как секретарь комсомольской организации. Они стали на меня давить: «На ваше предприятие приходит много людей из сёл, а вы никого не принимаете в комсомол. Надо готовить этих людей, чтобы они поступали». А я говорил девушкам, которые приходили в ПТУ учиться на маляров-штукатуров, чтобы вступали. Они: «А мы верим в Бога». Если верят в Бога, то в комсомол уже не идут. Я говорю: «Верьте хоть десять раз в Бога, вам это не помешает. Просто не говорите этого приёмной комиссии, а себе верьте». А некоторым этим молодым людям надо было и квартиры получить в строительном управлении, так они подумали себе, что это неплохо, и начали поступать в комсомол. Но один из секретарей, кажется, второй, раскусил мою тактику. Вызвали меня на партбюро и начали критиковать, что, мол, Гринькив применяет такую тактику. Потому что одна из тех «искренних комсомолок» рассказала: «Гринькив сказал, чтобы мы так говорили. Верь себе, а в комсомол поступай». Так она меня выдала. На бюро говорят: «Как так? Что вы себе позволяете?» Хотели меня снять с должности секретаря комсомольской организации, выговор по партийной линии дать. Но парторг Кизилов махнул на них рукой. Он был какой-то отставник, довольно солидная, влиятельная фигура, его знали в городе и в партийных кругах. Он им сказал: «Бросьте, ещё и не такое бывает! Он мировой мужик, хорошо дело делает». Это был человек, который хорошо знал ту систему. Что это всё для очковтирательства было, ширмами только прикрывались. Он впоследствии во время каких-то проверок, которые налетали из области, говорил: «Дима, смотри, чтобы у тебя всё было с протоколами хорошо! Главное – бумаги, а там...» И махнул рукой, дальше не договаривал, потому что это само собой было понятно.
«СОЮЗ УКРАИНСКОЙ МОЛОДЁЖИ ГАЛИЧИНЫ»
Общаясь со своими одноклассниками – Чупреем Романом, Демидовым Дмитрием – мы говорили о том, что в Украине наступают какие-то перемены, а мы остаёмся в стороне. И эти перемены уже таковы, что о них уже поют соловьи, все птицы щебечут, а мы будто остались в стороне от хода истории. Мы об этом начали откровенно говорить с Прасковьей Рыжко. А она говорит: «Ну что ж, есть серьёзная работа. Если хотите, то прошу очень: есть самиздат, а вы его не читаете, не распространяете». Мы спрашиваем её: «Где же его достать, что для этого нужно сделать?» – «А вы слушайте радиопередачи!»
Так мы пришли к тому, что решили разработать какую-то концепцию самообразования, чтобы больше знать, что творится в Украине. Как раз наступил 1972 год, поднялся большой шум об арестах интеллигенции, что Пётр Шелест написал книгу «Украина наша Советская»* (*К.: Изд-во полит. л-ры Украины, 1970. Книга, которая должна была определить пределы дозволенного в национальном вопросе, в марте 1972 г. была подвергнута острой критике на заседании Политбюро ЦК КПСС, в мае П. Шелест был освобождён от обязанностей Первого секретаря ЦК КПУ и назначен заместителем Председателя Совета Министров СССР, а в мае 1973 выведен из состава Политбюро. Век доживал на даче под Москвой. – Ред.). Прасковья сказала мне, что вот такое дело. Я разозлился, говорю: «Как так, что люди молчат? Почему их арестовали? Надо криком кричать!» А она говорит: «А как вы можете кричать? Вы же партийный, не крикнете». – «Я не крикну?! Я должен что-то сделать такое!..»
Это меня так задело, что я пошёл к Чупрею, собрал в январе 1972 года ребят, бросил партбилет на стол и говорю: «Ребята! Мы должны взяться за что-то такое, чтобы бороться за Украину». Дмитрий Демидов говорит: «Как ты можешь такое говорить, если ты партийный?» – «Пустое! Все партийные наверху воюют за Украину, а как вы себе думали? Вон сколько интеллигенции арестовано! Так что, они не были партийными? Они не понимали, что надо бороться?»
Ребята поверили мне. Потом Демидов на следствии так и говорил: «Как я мог не поверить, если партийный человек бросил билет на стол и сказал, что нужно бороться за Украину?» Это он чекистам сказал, а чекисты хорошо поняли, что это был сильный аргумент, они не могли сопротивляться.
Я сказал: «Создаём организацию». – «Создаём». Согласились создать организацию. Поскольку я был «аккумулятором» этой идеи, то они признали, что я буду руководителем. Демидов сказал, что будет идеологическим наполнителем организации. Ему тут же, на первом заседании в январе, было дано задание, чтобы он разработал программу нашей организации. Организацию мы назвали «Союз украинской молодёжи Галичины». Поскольку Роман Чупрей в то время учился во Львовском политехническом институте, на втором курсе, кажется, факультета автоматики, то он получил отдельное задание сагитировать из Львовского института несколько студентов в нашу организацию. Первым вопросом стояло создание организации, то есть набрать надёжных людей, которые действительно хотят бороться за Украину.
Прасковья прослушивала все те радиопередачи каждую ночь и каждый день. Она была активным человеком и увидела, что в нас загорелся огонёк. Мы не очень и скрывали, сказали: «Есть такие ребята». Я приводил к ней этих ребят, она рассказывала то, что выслушивала по передачам. Мы уже знали об убийстве Аллы Горской*, о произведениях Валентина Мороза* «Среди снегов», «Репортаж из заповедника имени Берия». Это читалось по радио, мы прослушивали, пересказывали друг другу. Мы работали так в общем. А потом решили, что надо расширить свою деятельность. Дальше без программы нельзя было работать. Демидов долго разрабатывал программу, а потом уже, когда мы во второй раз собрались, в феврале, то каждому определили конкретное задание.
Присягу на верность Украине мы приняли в январе 1972 года. Звучала она очень просто и прямо, но был один романтический нюанс относительно ответственности. На столе, за которым мы сидели, был нож с такой наборной ручкой, красивый нож. Я говорю: «Надо поклясться на ноже. Мы не будем резать друг другу руки и кровь пускать, чтобы на крови клясться». Я вонзил этот нож в стол, положил на нож руку и произнёс примерно такую клятву: «Я клянусь в верности идеям Украины, за которые боролись и умирали тысячи людей и сохранили эту идею в своих сердцах. Так и мы сохраним эту идею, потому что будем бороться, пока бьются наши сердца и пока у нас будут силы». Все положили руки на мою руку и так поклялись: «Клянусь!» Очень простой вариант сложился, и это произошло так мгновенно, что мы и оглянуться не успели. Клятву тогда приняли Иван-Василий Шовковый. Он с вами был в лагерях?
В.О.: К сожалению, нет. Я тогда в Мордовии сидел.
Д.Г.: Да, Шовковый Иван-Василий был на Всехсвятской, в Пермской области.
В.О.: Иван-Василий – это двойное имя?
Д.Г.: Да, двойное. Мы позже узнали, что у него двойное имя, нам чекисты на это открыли глаза. Мы знали его как Василия, а оказалось, что он по паспорту Иван. Ну, кто же будет проверять? Поклялись Роман Чупрей, Дмитрий Демидов, Василий Михайлюк, Фёдор Микитюк, Николай Мотрюк. Сначала шесть человек приняли присягу в тот Рождественский праздничный вечер в январе* (*Д. Демидов указывает дату 31 января 1972. Действительно, СУМГ возникла после январских арестов интеллигенции, которые начались 12 числа. – Ред.). А в феврале приняли присягу ещё такие люди: Любомир Чупрей – это брат Романа Чупрея, инженер-энергетик уже с полным высшим образованием (как и Демидов – с законченным высшим образованием, он инженер химик-технолог). Иван Мотрюк и Василий Кузенко тоже приняли присягу.
Позже был принят в организацию Гринькив Василий Иванович – так неофициально. Ему было сказано, не вступил бы он в организацию и не возглавил бы её. Мы хотели его принять. Он был очень мощным интеллектуалом, окончил педагогический институт и поехал где-то в Ровненскую область преподавать математику, кажется, в Сарненский район. Мы его встретили летом 1972 года. Он партийный был и довольно такой известный парень. Говорим так: «Ты не бойся, потому что я тоже партийный. Все теперь борются за Украину». Он говорит: «Да, я это чувствую и понимаю, что так и есть. Но если бы нас обнаружили, ты знаешь, что с нами будет?» – «А что же делать? Кто-то должен начинать, – говорю, – кто-то должен что-то делать». Он присутствовал у нас на собрании, благосклонно воспринял наши идеи, но сказал: «Дмитрий, я вижу, что ты уже так говоришь, так это ведёшь, что здесь не нужен другой руководитель, кроме тебя». И отказался от руководства, уехал на свою преподавательскую работу. Потому что летом он ещё был дома, а преподавать начал в сентябре.
Я индивидуально давал задания. Сначала устно, а потом – не можешь проследить, кто что сделал. Так я заготовил такие листы (потом один из них попал в органы КГБ, из чего они имели на следствии «раскручивать» нас). Вот, например, записано по псевдонимам: «Лесовик» имеет задание изучить достоверные данные о сотенном таком-то и таком-то, который действовал на территории села Марковка». Другому там: достоверные данные о другом человеке, который был в УПА; записать тексты песен, которые пелись на том конце села. Такие вот вроде бы лёгкие задания. Другому было: получить из библиотеки такого-то собирателя такие нелегальные запрещённые книги. Ну, скажем, генерала Петрова – там были такие книги. О сечевом стрелецтве – что было запрещено. Кстати, одна из этих книг фигурировала у нас на следствии. Всё это мы перечитывали.
Ага, ещё одним заданием было такое: разыскивать оружие. Это такая романтика, потому что ребята все молодые, так чтобы заинтересовать их оружием. Это все встретили благосклонно, говорят, пусть будет, пусть бы у каждого было какое-то личное оружие. Чтобы не стрелять в кого-то там, но конкретно вопрос не ставился, что мы должны оказывать кому-то какое-то сопротивление или что.
Я в то время был председателем ДОСААФ* (*ДОСААФ – «Добровольное общество содействия Армии, Авиации и Флоту». Организация, созданная властью для подготовки молодёжи к службе в Советской Армии. – Ред.) на этом предприятии, а тогда очень популярна была сдача нормативов ГТО* (*«Готов к труду и обороне». – Ред.). Я проводил стрельбы с комсомольскими молодёжными бригадами и имел доступ к оружию. Следовательно, мог сэкономить патроны, которые бригады не отстреляли. Поэтому позже во время обыска у меня из дома и забрали что-то около 600 патронов. Я также имел доступ к пистолетам «Марголина» – десятизарядным малокалиберным пистолетам. Это было прекрасное оружие. Я до сих пор жалею, что не сохранил хоть один пистолет как реликвию с тех времён. Но это оружие – что оно даст нам сейчас? Дай Бог, чтобы в тебя никто не стрелял и ты никого не стрелял.
Итак, я имел возможность брать из ДОСААФ по доверенности этот пистолет и проводить учения для своих ребят. Я учил их, как пользоваться оружием, учил безопасности. Таких учений летом 1972 года состоялось три. Они проводились в урочищах между Марковкой и Молодятином. Там есть такие урочища Чимшоры и Купчава. Мы туда выезжали. Не все вместе, а так, трое сегодня, там где-то через неделю трое других, уже в другое урочище. Стрельбы надо проводить в какой-нибудь балке, чтобы они глушились, потому что пистолет «Марголина» громкий. Я доставал мишени, ребята научились стрелять.
Под осень была годовщина убийства Олексы Довбуша* (*Довбуш Олекса род. в 1719 в с. Печенижин Коломыйского р-на. Предводитель карпатских опришков. Погиб в 1745. – Ред.). А тогда уже в Печенижине открыли ему памятник. Так мы готовили венок к памятнику Довбуша с сине-жёлтой лентой. Задание каждому конкретное: кто там венок достаёт, кто ленту, кто надпись делает. Планировали написать на сине-жёлтой ленте слова Шевченко: «І буде син, і буде мати, і будуть люди на землі» (И будет сын, и будет мать, и будут люди на земле). Сине-жёлтая лента должна была играть основную роль: чтобы напомнить людям наш сине-жёлтый флаг.
Ещё планировали что-то с тризубом, но у нас ничего не вышло. Чтобы хорошо нарисовать тризуб, я обратился к своему хозяину Роману Рыжко, у которого жил тогда на Прикарпатской, 54. Он мне из той литературы выбрал самый выразительный тризуб, из старых украинских календарей. Там были такие красивые тризубы. Я срисовал тот тризуб и решил, что надо сделать печать организации. Я это поставил на повестку дня, на обсуждение с ребятами. Ребята говорят: «Да, действительно. Печать – это для внутреннего пользования. Но если бы написал какую-нибудь листовку и печать приложил – это бы влияло на людей». Решили сделать печать.
Заготовку я заказал в том ПМК-67 у какого-то токаря-москаля – кстати, тот москаль фигурировал в деле (Миков В.С. – Ред.). А ему что – он хорошо знал, что изготавливает, это старый москаль, но ему бутылку поставили, так он за бутылку... Он выточил из бронзы заготовку на печать, обвёл линии. Хорошая такая заготовка вышла. Теперь осталось найти человека, который мог бы выгравировать надпись «Союз украинской молодёжи Галичины» по ободу и тризуб в центре. Такое может сделать гравёр. И тут мы допустили большую ошибку, потому что гравёры, как всегда, являются «их» людьми, из органов КГБ. Нашёлся один мудрый среди нас, который предупредил меня. Это Кузенко Василий, говорит: «Не иди, потому что все эти гравёры какие-то подозрительные люди». Но я всё-таки был напористым в этих делах. Пошёл к тому гравёру, который, как мне казалось, заслуживал доверия. Познакомился с ним и говорю, что надо выполнить одну надпись. Он спросил, какую надпись. Я показал печать, но ещё не сказал, что в центре должен быть тризуб, потому что даже слово «тризуб» вызывало у всех шок. Он сказал: «Хорошо, оставьте у меня». Я оставил.
А он, видно, понёс эту печать, куда следует, и там ему сказали, чтобы не выпускал это дело из рук, пока я не приду. Я уже потом это анализировал, так понял, как это было, потому что он сам заинтересовался: «Ой, чего вы не заходите? А что тут должно быть посередине?» Я говорю: «Да вы выполните надпись, а там мне скажут. Это не мне». Такую я выбрал тактику. Он забрал печать и сказал: «Хорошо, я это изготовлю». Я пообещал: «Мы тебе заплатим». И спросил, откуда он и что. Он ответил: «Я живу здесь в Коломые». Мы проверили, действительно, живёт он в Коломые, на улице Шкрибляка, Стадниченко Тарас, семья у него неплохая: отец довольно уважаемая фигура, из старых коломыйских родов, имел хорошую библиотеку.
Мы решили с ним встретиться и поговорить полуоткрыто. Но когда я заходил спросить за работу, то он и сам сказал: «Тут один человек подошёл к нам. Дал мне сделать надпись на „Кобзаре“: „Пусть будет свободной Украина!“ Так я не знаю, как быть». Он назвал того человека, чтобы я пошёл к нему и начал общаться. Возможно, это была затея органов. Я случайно знал этого человека. Это был таксист, который работал на автостанции. Я сказал об этом ребятам, а ребята сразу засомневались, что это, очевидно, какая-то ловушка: таксисты ненадёжные люди. Я говорю: «А какое отношение к нему имеет этот Стадниченко?» – «А может он не знает? Ведь он искренне сказал про „Кобзаря“».
Мы допускали, что это всё-таки хорошо продуманная ловушка для нас. Но мы уже и так попались. Где-то в декабре 1972 года мы пришли к выводу, что этот Тарас Стадниченко работает на КГБ. Собрал я собрание и говорю: «Что будем делать: „хвост“ втёрся в доверие, он приходил на наше собрание. Что делать? Думаю, нам теперь надо сворачивать нашу деятельность». Как выкрутиться? Выкрутиться решили очень просто. Чтобы окончательно его проверить, мы с Чупреем придумали такую штуку. Чупрей на одном из заседаний сказал, что у одного студента его группы (а он был старостой группы) по фамилии Лотов дома есть два пистолета. Роман выполнял ему какие-то работы и был вхож во львовскую квартиру этого Лотова, а тот похвастался, что его отец и дед военные, на фронтах они обменялись именным оружием. Дед уже умер, тот пистолет остался в доме, а отец ещё жив. Значит, есть два пистолета. Роман Чупрей посмотрел на те пистолеты, ахнул, пришёл и сразу сказал мне. Я говорю: «Роман, я в системах не разбираюсь. Но маленький пистолет, очевидно, „браунинг“, а второй какой-то другой системы. Надо провести такую операцию. Ты мне говоришь адрес, а мы приедем и сделаем это дело. Ты этого делать не будешь, потому что ты там засветился».
Это всё говорилось в присутствии Стадниченко. Когда мы это сказали, то он, очевидно, донёс им, а те приказали: «Любой ценой ты должен быть вместе с Гринькивым, когда он поедет к Лотову». И Стадниченко сам себя этим начал выдавать, потому что на одном из заседаний очень настаивал: «Что вы это оружие до сих пор не достали? Оно должно быть у Лотова на квартире! Вы должны поехать и забрать его! Я вызываюсь поехать». Ребята посмотрели на него и потом говорят: «Подозрительный какой-то он. Чего это он хочет ехать?»
Тогда мы сделали так: назначили день операции. Это было где-то в феврале 1973 года. Стадниченко я сказал, что он не подходит: «Я поеду. Я и ещё один человек, а ты останешься здесь». – «Да нет, и я поеду!» – «Нет-нет, только мы вдвоём. Там больше двух не должно быть, не дай Бог. Ты в очках, ты приметный».
И что он делает? В назначенный день он пришёл на вокзал – нас нет. Тогда он сел в поезд, едет во Львов, приходит в общежитие к Роману Чупрею и говорит, что сейчас должен приехать Дмитрий. А Роман знал, что это проверка, и говорит: «Ну, так что? Будем ждать». Целый день прождали, а я не приехал. Роман через день приезжает в Коломыю и говорит: «Это не наш парень. Это беда! Что будем делать?» У нас уже была служба безопасности. Кузенко говорит: «Я его задушу. Только дайте мне его в руки, я его...» Так прямо и заявил. А я говорю: «Ну, если у тебя такие замашки, что ты бы и шкуру с него содрал, то как бы это выглядело? Я не могу дать такой санкции. Мы не знаем этого человека до конца. Мы должны сделать какой-то такой ход, чтобы мирно отстранить его от организации».
Думали-гадали и пришли к выводу, что надо собрать большое собрание, сообщить и этому Стадниченко, но о повестке дня ничего не говорить и на том собрании объявить о роспуске организации. Мотивировать тем, что мы уже достаточно знаем врага в лицо, изучили его методику, знаем, как с ним бороться, а теперь каждый дальше продолжает сам, не ориентируясь на организацию. Она выполнила свои функции и самораспускается.
В начале марта 1973 года мы разыграли «самороспуск». Стадниченко, очевидно, моментально побежал к чекистам, а чекистам уже нечего было делать, и они немедленно загребли нас. Они испугались, что после самороспуска им не в чем будет нас обвинить. Я потом говорил чекистам: «Что, перепугались, что мы распустимся?» Чекист аж взорвался. «Вы уже начали срываться. Вы должны были тонко вести войну с нами – чего не вытерпели?» А они говорят: «У вас же была служба безопасности». Будто меня подкалывают. Я говорю: «Она не функционировала, та служба безопасности. Если бы она функционировала, мы бы наломали дров. До того пока не дошло».
Чекисты допустили ещё одну ошибку. За неделю до ареста в военный комиссариат был вызван член организации Василий Михайлюк. Он работал на ДОЗе (деревообрабатывающий завод). Вызван – и на два дня исчез. Ко мне прибежал переполошённый Василий Кузенко: «Ты знаешь, что нет Василия Михайлюка? Ещё не вернулся». – «Как не вернулся? Его же вызвали в военкомат. Так надо пойти туда и узнать».
А было так. Его вызвали в военкомат и начали в чём-то обвинять, забрали в медвытрезвитель, а там составили акт, что он выпивши. Перед тем его напоил «хороший парень», а Василий сказал: «Да что там тот военкомат! Мне там надо заполнить какой-то бланк». Конечно, уже подвыпившего Василия Михайлюка в военкомате задержали и вызвали из медвытрезвителя милицию. Его в медвытрезвитель, задержали на целые сутки, составили там акт. А он работал мастером, окончил Львовский лесотехнический институт и очень дорожил карьерой. Так они ему показали: «Видишь этот акт? Либо ты рассказывай всё об организации и пиши заявление – либо мы сейчас посылаем этот акт на твою работу». Михайлюк струсил и написал всё, что знал. Поэтому прокурору на суде было что сказать: что организация была раскрыта по заявлению этого Василия Михайлюка. Хотя на самом деле это было не так. Они лишь прикрылись Михайлюком.
В.О.: А Стадниченко будто бы уже и ни при чём!
Д.Г.: А того уже не надо было. Такие вот интересные нюансы. Об этом следствии можно написать целое исследование. Ну, у них был большой опыт, это страшная организация.
В.О.: Да, КГБ обогащался опытом, раскрывая нас, а мы со своим опытом шли в неволю и никому там его не передавали.
Д.Г.: Они также учитывали и то, как мы их раскрывали. Что, разве они не обсуждали, как и почему мы их раскрыли? Их агент работал слишком настойчиво. Надо было тоньше работать. Это был их просчёт. А мы, вместо того чтобы направлять свою энергию на конкретную работу, перед арестом вынуждены были вести невидимую борьбу с агентурой КГБ. Так продолжалось последние 3–4 месяца. Но что же было делать?
АРЕСТ
Что ещё сделал этот Стадниченко? За день до обыска, 14 марта, он приносит мне заготовку печати, которую мы ему дали. Он уже выполнил надпись «Союз украинской молодёжи Галичины», а тризуб не изготовил. Говорит: «Ты знаешь, штекеры ломаются (штекер – это название буравчика в гравировальных работах). Может, ты знаешь, где есть эти штекеры?» Я сказал ему, что спрошу. Он принёс мне эту заготовку поздно вечером, я сонный был, и забил мне голову этими штекерами. Расчёт был такой, чтобы я не успел её никуда вынести, чтобы она была на квартире. Они, очевидно, ещё и следили за домом, буду ли я куда-то выходить или нет. Я взял заготовку и говорю: «Хорошо, да уже оставляй её. А штекеры мы где-нибудь найдём». Тем более, что мы уже его подозревали. Я забрал заготовку и положил в такой задвижной шкафчик в кухонном наборе. Завёрнута она была в ту же бумагу, на которой была надпись моей рукой «Союз украинской молодёжи Галичины». Я положил заготовку и подумал, что разберусь с этим. А утром в шесть часов меня уже разбудили, поставили вместе с женой к стене. Она, кстати, беременна была.
15 марта 1973 года у всех были обыски. Были обыски у Николая Мотрюка в селе Марковка, у Василия Шовкового и Дмитрия Демидова в Печенижине. Поехали в Ровно и сделали обыск у Гринькива Василия Ивановича. В этот же день был обыск у Романа Чупрея во Львове. Повсюду разъехались на машинах, на «Волгах» из Ивано-Франковского КГБ. Даже у одного нашего знакомого, который служил на подводной лодке, в этот же день взяли показания о связях. Сколько это надо было денег, чтобы провести такую операцию?
Конечно, они собрали какие-то данные. Кто-то что-то где-то сказал, кто-то записал, что-то при обыске обнаружили. Например, у Шовкового обнаружили самодельный пистолет, ещё с детских лет. Стрелял так, что мог гвоздём доску пробить. Запаянный, набивался серой от спичек. Ствол был прикручен к деревянной рукоятке. Сделал парень себе ещё где-то в 8–9 классе – и это уже было огнестрельное оружие. Они радовались, что нашли это оружие.
В.О.: Как он стрелял? Там был курок или надо было поджигать?
Д.Г.: Нет, он сделал так, что курок бил, и от удара сера вспыхивала. Я того пистолета не видел.
Но было ещё одно дело. Кажется, летом 1972 года мы провели операцию по похищению строительных пистолетов со склада. Хотели переоборудовать их, чтобы можно было стрелять с одной руки, потому что строительный пистолет стреляет с двух рук. Им забивают дюбеля. Я видел эти пистолеты у строителей, но не мог их хорошо изучить. Рассказал об этом Шовковому. Шовковый говорит: «Ты знаешь, возможно, их можно переделать, чтобы стрелять с одной руки. Это страшное оружие. У строителей можно достать заряды. Стволы, конечно, изготовлены на Тульском заводе, все они выдержаны в том же технологическом процессе».
Я знал, где эти пистолеты находятся, потому что мы работали на хоздворе ПМК-67. Поэтому мы с Николаем Мотрюком одной ночью их похитили. Как раз накануне мы эти пистолеты переносили. Завскладом не понимал, с кем имеет дело. Мы часть тех спецъящиков сложили так, как он приказал, а часть я незаметно спрятал у дверей. Поставил так, чтобы двери немного поддеть и забрать их. А двери там такие, что низ можно было хорошо поддеть, потому что это ворота здоровенные, те строительные склады большие. Там был охранник, но он знал, что мы работники. Мы там варили смолу. Иногда приходили варить смолу вечером или в четыре часа ночи. Кто нас может заподозрить? Мы же работники того двора. У нас был туда доступ, да ещё в тот вечер выпили с тем сторожем водки. Я пошёл, те пистолеты вытащил, забрал и отдал в Печенижин Шовковому на исследование и переоборудование.
Когда мы раскрыли Стадниченко, я отдал приказ уничтожить все материалы, за которые нас могут арестовать. Когда пропал Михайлюк, мы снова забили тревогу. Кроме того, мама Шовкового работала техничкой в сельском совете Печенижина. Там какой-то мужчина вывел её на двор и говорит: «Скажите ребятам, что беда. Пусть они всё спрячут». Больше он ничего не сказал и исчез. Мама сказала Шовковому, он вызвал меня из Коломыи и спрашивает: «Как это понимать?» А я говорю: «Это какая-то добрая душа хочет нас спасти. Значит, немедленно всё уничтожить – плёнки, любые записи». У нас были магнитофонные записи. Записали фрагменты одного моего программного доклада, с которым я готовился выступить на собрании. Мы эти записи стёрли. Я приказал каждому сделать у себя тщательный обыск, чтобы уничтожить следы нашей деятельности.
Я пришёл домой и сказал жене, что сейчас на всякий случай проведу у себя обыск. Она испуганная говорит: «Что это должно означать?» – «Ничего не спрашивай, я должен сделать у себя обыск. Ты мне поможешь». Она ходила за мной следом. Осмотрел портфель – я с портфелем ездил на работу. В портфеле была такая закладка, что ею прикрывался низ. Я вытащил оттуда тетрадь. Это был мой доклад. Я вырвал доклад из тетради и уничтожил. Ничего больше в портфеле я не нашёл.
Пошёл дальше. Нашёл несколько таких тоненьких книжечек. Мне жаль было их уничтожать. Сейчас не могу сказать, о чём они. Одна, такая тоненькая, о национализме Донцова. Ещё нашёл свой записник – какие кому давал задания. И фотографии я тоже не хотел уничтожать. Эти фотографии, две книжечки и записник я тщательно обернул газетой и лентой, пошёл в туалет и говорю жене: «Смотри». У нас в туалете была такая жестянка в сливном бачке. Я нажал на жестянку, всунул пакет в бачок и отпустил жестянку. Жестянка сильно прижала пакет. Осмотрел – ничего не видно. Кстати, этого пакета чекисты не нашли. Когда меня забрали, то жена с перепугу всё это выбросила и фотографии сожгла, но книжки сохранила. Говорю ей, что надо было и фотографии не сжигать, но она – знаете, как это бывает, – она сама прятала. А они несколько раз приходили и терроризировали её. Так что не можешь её винить. А она в то время была беременна, на восьмом месяце. Родила в апреле, а это был март.
Ворвались в дом, нас к стене... Не досказал, как я делал обыск. Печатку – о, голова и два уха! – мне выбило, я эту печатку не спрятал! Если бы спрятал печатку – ничего бы не нашли. А им эта печатка была важна – это признак организации. Я зашёл на кухню – вроде на кухне ничего нет. А на кухне же я оставил печатку! Я такой довольный обыском, хочу узнать, как ребята у себя сделали. Одного спрашиваю – тот всё сделал. Шовковый говорит, что строительные пистолеты отнёс в школьный туалет. Там в средней школе в туалете огромная яма. Он в ту яму выбросил те строительные пистолеты. А свой самодельный пистолет не выбросил, и они его нашли. Что ж бывает! И так у каждого они что-то понемногу нашли. У Мотрюка нашли несколько патронов, о которых он и не знал, от пистолета «ТТ», а ещё были от автомата «ППШ». У нас таких патронов по сёлам много, пуль по мастерским. А его отец кузнецом был. Они это тоже записали в протокол.
Нашли у меня 600 малокалиберных патронов. Я не знал, что с ними делать. Думал, что они мне ничего не вредят, оружия же у меня нет. Ага, у нас ещё было оружие. У меня была малокалиберка, которую я держал на работе в тайнике. Тайник я сделал в раздевалке. Во время одной операции мы достали карабин системы «маузер». Это довольно интересный карабин, очень редкий, немецкий. Дмитрий Демидов, общаясь со своим товарищем по учёбе, чехом по национальности, жили рядом, узнал, что у его отца есть несколько карабинов. Один карабин хранился при сиденье под туалетом. Там снизу, как садишься, был тайник. Он это всё показал, а Демидов запомнил и сказал мне. Я пошёл туда ночью с Шовковым. Шовковый отвлекал собаку, а я тем временем в туалет, нащупал в темноте. Там действительно карабин, 40 немецких патронов к нему. Карабин системы «Маузер», в нём казённая коробка откручивалась, так что он был небольшой, если раскрутить и на шею повесить, то ничего не видно, под пиджаком можно спрятать.
Так что был у нас такой карабин. Я его тоже в тайник на работе спрятал. Мотрюк, с которым я вместе работал, спрашивает, что будем делать с этим оружием в тайнике. Мы замерли, как заворожённые: что делать с этим оружием? Я сказал: «Сначала проанализируем, кто знает об этом оружии». Оказалось, что знали многие, даже Стадниченко знал. Дело в том, что Шовковый брал этот карабин в горы, когда шёл в декабре в поход со вторым Чупреем, Любомиром, тоже членом организации. Они где-то видели следы медведя на горе Сивуля в Надворнянском районе. С этим карабином он даже в милиции был – те заподозрили, почему они так поздно сидят в Надворной на автовокзале, забрали их в милицию. В рюкзаки не посмотрели, а в рюкзаке был этот карабин. Шовковый пережил с тем карабином, говорит: «Мы должны были с ним попасться ещё раньше». Если бы милиция обнаружила карабин, то уже тогда бы нас «раскрутила». Хотя мы доверяли этим ребятам, но я решил, что оружие в дальнейшем будет в этом тайнике.
Итак, что где-то на работе есть тайник, знали Кузенко, Шовковый, Стадниченко. Но они не знали, где конкретно. Мы подумали себе, что оружие из тайника надо куда-то забрать. Но не успели. А кагэбисты после «роспуска» организации уже следили за нами, что мы делаем.
Во время обыска следователь майор Рудой взял ту печатку и говорит: «Ну-у...», – так многозначительно протянул. Я по его голосу понял, что именно эта печатка их интересовала. – «О, это уже что-то есть!»
Они тщательно провели обыск и обнаружили у меня в портфеле, который я сам проверял, в том дне, которое было прикрыто, тоненький листик, на котором было записано задание одному из наших ребят! Просто его не было на собрании и не было как ему передать, так оно и осталось в портфеле. Я очень удивился, потому что я же сам проводил обыск.
В.О.: Вы не профессионал в обысках.
Д.Г.: Не профессионал. Дно прикрывалось такой планкой – я ту планку не поднял, а потом удивился, как они это нащупали. И это меня немножко задело за живое. Но то, что я спрятал, они не обнаружили. Ну, думал я, ещё не зная, что у всех проводятся обыски, хоть это хорошо – у них фотографий нет, так я буду брать на себя всё, чтобы отводить от других.
Они забрали те 600 патронов, мишени. Я объяснял, что в ДОСААФе проводил стрельбы, так чтобы часто не получать патроны, забрал их домой и выдавал лично. Никакого оружия дома они не обнаружили.
Тогда они повезли меня на работу на обыск. Очевидно, что знали. Я тогда сообразил: не показывал им место в раздевалке и место моей конкретной работы, а завёл их в общую раздевалку, рассчитывая на то, что они не будут спрашивать руководителей, где я раздеваюсь. Потому что руководители у нас неплохие. Когда увидел, что приехала «Волга» со мной и двумя работниками и один подошёл к главному механику Филипчуку и сказал, что надо провести обыск у Гринькива, то он понял, что тут что-то недоброе. Я ему только головой показал: ничего не говорить, я сам покажу. Тот кагэбист спрашивает Филипчука: «Он здесь переодевается?» – «Да я не контролирую, здесь все переодеваются». Я думаю: ну слава тебе, Господи. Он молодец. Знает, что я работаю в другом месте, но не уточняет, и они не уточняют. «Ну, идите». Отпустили его и начали обыск шкафа. Спрашивают: «Это ваши штаны?» – «Мои». И куртка, говорю, тоже моя. Он в карман – вытаскивает удостоверение моториста Мачернюка и говорит второму: «Ну как это так? Он переодевается здесь, а тут удостоверение Мачернюка?» Тут, говорю, ещё и мотористы переодеваются. Тот кивнул головой: «Ну, ладно». Ничего не обнаружили и махнули руками.
Сели в «Волгу» – и меня в КГБ. Привезли, а там чекисты раскрывают карты: «А где же ваш карабин и малокалиберка?» – «А, вы и об этом уже знаете? Ну, раз знаете...»
В.О.: Вы это подумали или сказали?
Д.Г.: Нет-нет, я так сказал: «Ага, так вы уже и об этом знаете?» Он прямым текстом сказал. Так что, если бы я сказал, что нету? Он говорит: «Нет, это ничего вам не даст, если будете медлить. Мы знаем, что они у вас где-то на работе спрятаны». Так я думаю, что приведут того Стадниченко или другого – какая разница? Я не хотел, чтобы из-за этого у ребят были проблемы, и говорю, что это моё оружие. Он говорит: «Пусть будет ваше, но покажите». Садимся в «Волгу», привозят меня на то место. Там надо было по лестнице подняться наверх, так один должен был выскочить вперёд, потому что боялись, что я, возможно, когда вылезу первым, то схвачу оружие и могу что-нибудь натворить. Они себя страшно страховали. А любопытных отогнали, потому что люди уже увидели и поняли, что тут что-то недоброе, и уже судачили об этом.
Я ещё соврал, что мне надо кое-что сказать жене, потому что сама она вам не скажет. А на самом деле я хотел, чтобы они меня повезли к жене, и сказать ей фамилию Мотрюка, чтобы он вытащил то оружие. Они сообразили, что я вру, и не повезли меня домой, а сразу на работу. Хотя жена, когда меня забирали из дома, спросила: «Вы надолго его берёте?» Он говорит: «Да, надолго». Она начала плакать, а я сказал, чтобы не плакала и к Мотрюку поехала. Она, бедная, это поняла и рванула ехать в Печенижин к Мотрюку. Но оказалось, что и там обыск. Она где-то в городе встретилась с кем-то там и поняла, что уже везде обыски. От Шовкового приехала мама и сказала, что и там тоже обыск. Это уже вторая половина дня. Всё стало ясно.
СЛЕДСТВИЕ И СУД
После того, как я сдал им оружие, меня под вечер повезли во Франковск. Пересидел я там в камере предварительного заключения при КГБ. Там какого-то «прилипалу» ко мне подкинули. Он выпытывает обо всём, я говорю, что простой парень, за браконьерство посадили, оружие обнаружили, карабин старый забрали. Он говорит, что это мелочи, потому что у одного и пулемёт обнаружили. Ну, ясно, что это был их человек, потому что начал вынюхивать, нет ли у меня ещё чего-нибудь. Сказал, что выйду, потому что это всё ерунда: у хороших людей всё есть про запас. Я уже понял, что это камерный тип, и говорил ему, что это браконьерство, а никакая не политика.
На второй день меня вызвали и начали предъявлять обвинение по статье 56. Правда, санкцию прокурора мне прочитали ещё дома. Я говорю: «Объясните мне эту статью». Он сказал: «Вы обвиняетесь по статье 56 „Измена Родине“, от 10 до 15 лет или расстрел». Я такой непосредственный человек, и через несколько дней следствия спросил: «Как понимать эту 56-ю статью? Если я руководитель организации – то руководителям дают „потолок“, а потолок тут видите какой?» А он так посмотрел на меня и говорит: «Вот вы думайте, думайте».
Одним словом, они нас пятерых обвиняли по этой статье. Правда, Роман Чупрей был арестован во Львове на два дня позже. То есть они ещё надеялись склонить Чупрея на свою сторону, ещё колебались, арестовывать его или нет. Он ночевал где-то там у них на диване как задержанный. Ещё позже был взят Дмитрий Демидов. Они у него ничего не допытались и отпустили. И хотели так его и оставить, но он начал наговаривать сам на себя, потому что стал нехорошо себя чувствовать, да и люди со стороны начали говорить: «Ну как же так, что те сидят, а ты нет?» Это его побудило к тому, что он чуть ли не сам пошёл в КГБ и начал говорить: «Вяжите, берите, я такой же, я за Украину». Наговорил на себя и облегчённо вздохнул. А следователь ему протокол: «Сиди!» Такой вот интересный нюанс с Демидовым. Много на себя наговорил, чего и не было – чтобы придать веса своей особе в этой группе. Но что было, то было, а чего не было – того не было. На следствии они не очень и пытались выяснять: наговорил, так и слава Богу, потому что им это было выгодно.
Следствие вели так, что в кабинете какого-то насилия не применяли. Эти методы применялись в камерах. Демидов был избит кем-то в камере. Тот, которого подсадили, бил его головой о стену. Демидов там кричал. Ко мне подсунули каких-то двух людей, один из них был гомосексуалист, а второй был художник и очень любил рисовать Ленина в разных позах. Он так дорисовался этих Лениных, что вывел меня из равновесия, и я ему сделал замечание: «Чему ты только этому научился, не можешь чего-нибудь другого?» Он всё рассказывал, как рисовал гербы союзных республик, какие они. Я думал: чего они этим добиваются? Они, очевидно, изучали моё отношение ко всему этому советскому. Я держался сколько мог, а потом он меня так докопал, что я начал осуждать Ленина и того художника чуть ли не послал прочь, сказал, чтобы он шёл из камеры, потому что я его... «Ты с этим Лениным – мозолишь глаза, рисуешь тут этого сатрапа!» Одним словом, высказал всё, как надо. Его сразу забрали из камеры, мол, мы не уживаемся. Но он, как я понял, выполнял какую-то функцию.
Функции второго сводились к чему-то другому. Этот гомосексуалист. Он там какое-то полотенце брал ночью, я проснулся и говорю: «Чем ты занимаешься? Ты что, ненормальный что ли?» Не мог я понять – то ли просто так, чтобы у меня с ним был какой-то конфликт. А потом, слышу, кричат из других камер, что такой-то – сука, он продажный. Я спрашиваю: «Это не про тебя?» Он туда-сюда, меня выводят на прогулку, а он сказал, что не идёт. А когда я вернулся с прогулки, его уже не было. У них там была своя методика.
Вот такие были стычки в камере. Они понимали, что я могу защищаться и поднять большой шум, поэтому меня на физический излом не брали. Физически они очень отомстили Демидову – он слабый такой, так нашли какого-то, и тот бил его.
Был там один, взятый из армии. Он прискочил ко мне, так я схватил чайник – там такие тяжёлые чайники были – и тем чайником его так ударил, что он от меня отскочил. Он здоровый был, пнул меня так, что я отлетел, но тот чайник меня спас, потому что я тем чайником устроил скандал, кинулись коридорные и выперли его. Возможно, там тоже какие-то намерения были, потому что чего меня с ним свели? Он какой-то вор, плёл, что его дело с оружием связано. Наверное, чтобы меня раскручивать.
Какие-то промахи я допустил ещё с одной «наседкой». Такой бритоголовый, пришёл из зоны. Вроде бы должен был уже выходить, а его «раскрутили» за какое-то закопанное оружие. Он из села Жовтень, теперь Езуполь под Франковском. Это такая у него была легенда, он это постоянно мне твердил, а потом говорит: «Если у тебя было оружие, то тебе надо за границу». Такие разговоры навязывал. Я присмотрелся к нему: оказывается, он по утрам молился, потому что видел, что я молюсь. Очевидно, у него было такое задание, чтобы молиться вместе со мной. Когда я утром начинал «Отче наш», то и он становился молиться. А однажды утром он не молится. Я спросил его: «А почему вы не хотите? Вы же молились». Когда я вернулся с прогулки (потому что они всё делали во время прогулки) – нет его. Очевидно, поняли, что я его раскрыл, и уже ему нецелесообразно было иметь со мной контакт.
Такие вот перипетии были во время следствия. А на следствии я всё беру на себя. Где пистолет? – Я забрал, а больше никто. Мотрюк молчит, значит, всё хорошо. На следствии я выяснил: что я делал с кем-то вдвоём и взял на себя, а тот второй ничего не говорил, то они не могли доказать. А уже если трое нас знало, то следствие это раскручивало.
Они провели операцию у того Лотова, забрали те два пистолета, сфотографировали и пришили к моему делу. «А при чём эти пистолеты, „браунинг“ и „вальтер“, к моему делу?» – «Ну вы же хотели такую операцию провести?» – «Так это же мы хотели, но не сделали. Я их только на фотографии увидел». – «Но ведь это связано с вашим делом, вы их открыли». – «Так делайте себе из этого другое дело, будто мы посодействовали вам обнаружить у Лотовых трофейное оружие».
Можно было сильно поспорить с ними, но я тогда ещё юридически был совсем слеп: они же нас так спокойно крутили на этой 56-й статье. Так нас держали аж до мая, а в мае сказали: «Ваша статья изменилась: вы обвиняетесь по статьям 62, часть первая – „антисоветская агитация и пропаганда“, 64 – „создание организации“, 223 – „похищение оружия“, часть вторая, 86 – „хищение социалистической собственности“ (это строительные пистолеты), и 141 – обвинили нас, что похитили магнитофон в Коломые, у Хмелевского. Так что у меня целый комплект, 5 статей. По совокупности, согласно статье 41, осудили по политическим мотивам, ст. 62, ч. 1 и 64, за антисоветскую деятельность, направленную на отрыв Украины от СССР.
Допытывались, почему мы хотели Украину, что это нам давало? Ребята объясняли, что сейчас у Украины нет ни своей армии, ни своих денег, ни своего языка, что такая сильная русификация. А Украина же имеет представительство в ООН. Но это такое представительство, что она должна подчиняться Союзу. Ещё интересовались: «Как вы считаете, есть ли ещё молодёжные или студенческие организации в Украине?» Я отвечал, что, наверное, в каждом учебном заведении в Украине есть такие студенты, которые думают так, как мы. Они тщательно это записывали. Очевидно, потом анализировали наши ответы. Спрашивали, не было ли у нас с ними связей. Очень допытывались о связях. Говорю, что я не выходил ни на какие связи, информацию получал только из радиопередач. Спрашивали: «Кто вас „околпачивал“, что Аллу Горскую* убили органы КГБ?» Да, говорю, передавали по радио. Говорю, что раз они меня теперь арестовали, то на второй день «Голос Америки» передал о нашей группе – значит, кто-то из ваших кабинетов передал туда. Он так на меня посмотрел – это же ясно, как божий день, что мало кто знал о нашей группе, и моментально передача была, по всей Коломые люди слушали об аресте «Союза украинской молодёжи Галичины». Название организации и фамилии, всё чётко. Значит, эта информация только оттуда вышла, от них – кто-то там был такой, что содействовал нам.
Ещё очень допытывались у меня: «Кто вас предупредил, что вы дали указание всё спрятать?» Они очень искали того человека, который нас предупредил. Это их очень беспокоило. Я ответил, что этого не могу объяснить, потому что я действительно не знаю.
В.О.: А вы и вправду этого не знаете, или кто-то из вашей среды мог всё-таки сообщить на радио «Свобода»? Не было никого такого?
Д.Г.: Да конечно не было. Я им говорил: «Это ваша сторона сделала». Они были очень удивлены и злы. Не раз такая полемика возникала. Мы же разговариваем, не будешь же всё время молчать, это долгая история.
Ага, в камере (это было специально сделано – я уже потом догадался) они меня держали в одиночной. Это была камера 95, где сидел и Мирослав Симчич*. (*Очередное дело против М. Симчича было возбуждено 28.01.1968 и велось 25 мес. и 13 суток. – Ред.) Там на доске было вырезано: «Симчич». Это он шёл перед нами. Но мало ли что это за человек, я же не знаю. Они все надписи сдирают, но эта была вырезана сбоку на нарах. Я уже потом узнал о Симчиче, а он сидел в той же камере на 4-м этаже, 95 камера.
А тем временем я становился на окно и смотрел через те «баяны»* (*«Баяны» – дополнительные деревянные решётки на окнах тюрьмы: дощечки, установленные наискось, чтобы не было видно вниз и прямо, а только вверх), видел некоторые прогулочные дворики. Однажды увидел в том дворике Чупрея. Я просунул руку сквозь «баяны» и крикнул, сколько мог: «Роман! Я тут!» Он по окнам смотрит, а я ему рукой показал. Смотрю – а он пальцем показывает, что он ниже. Ага. А тут уже двери открываются, потому что коридорные услышали, да и надзиратель с наблюдательной вышки позвонил этим коридорным. Коридорные вскакивают, меня прочь от окна: «Что ты себе позволяешь?! В карцер его!» И напали на меня так страшно. Я играю такого простачка и говорю: «А что – я тут коллегу увидел. Не видеть человека столько – да что вы!» – «Вы режим нарушаете! Вы подписывали, что режим не будете нарушать!» – «Где я это подписывал?» Я действительно подписывал, но это я ему так говорю.
Об этом узнаёт мой следователь. Вызывает меня и говорит: «Вы там себя ведёте нехорошо. Мы не отвечаем за то, что тюремная администрация будет делать». Он тоже играет дурака. Да отвечаете, люди добрые, куда вы денетесь! Это само собой было, но игра такая была. Роман сидит ниже. Переговоры провели мы через кружку, он говорит, что надо спустить «коня»* (*Нитка, которую через окно забрасывают в другую камеру, чтобы передать или получить записку, вещь, еду, курево).
В.О.: Он уже знал, что такое «конь»?
Д.Г.: Да знал тот, что с ним сидел. Он нас научил. Я отсюда пишу, что делать, как себя вести на следствии, а также на суде. Роман спрашивает, что делать. Наверное, сосед так советует Роману. Я потом анализировал это дело и говорил Роману, что это они хотели знать, как мы будем вести себя во время суда. Пишу Роману, что придётся сыграть дурака и внешне признать вину, а на самом деле в душе мы остаёмся такими, как были. И эта записка оказалась в моём деле как одно из основных обвинений на суде, потому что судья Василенко постоянно акцентировала на том, что всё это, что говорится, имеет лишь поверхностную сторону, то есть я веду себя неискренне, а также все подсудимые, поскольку в записке речь шла об «инсценировке покаяния и признания вины». Когда на суде зачитали эту записку, я запротестовал: «Ну и не надо тут всего этого». Ну, что, ребята каяться начали. Спрашивают: «Вы признаёте свою вину?» Демидов встаёт и говорит: «Ну, мы-то признаём...» То-сё… «Так вы же видите, а Гринькив писал – вон как он себя ведёт!» А я действительно вёл себя вызывающе, они меня несколько раз унимали: «Сядьте! Мы вас выведем!» А я уже махнул рукой, потому что это ничего не даёт. Эта записка как бы в обратную сторону подействовала на меня. Но ребята начали открещиваться. Демидов говорит: «Я не знал, что он человек с двойным дном». То ли он это искренне говорил, то ли нарочно, этого я не могу сказать. «Но вы признаёте вину?» – «Признаю». Ну, думаю, Бог с ним. Что тут такого? Нет ничего страшного. Мы же понимаем эти дела.
Мама Мотрюка кричала как свидетель: «Он (то есть я) пришёл в нашу семью, у него было оружие, мы боялись, а он заставил вступить в эту организацию…». Это она так хотела смягчить участь сына. Но когда прокурор спросил Николая: «Как вы это расцениваете? Действительно ли вы не хотели ничего иметь с Гринькивым?», то Мотрюк так слушал-слушал, а потом встал и сказал: «Нет, он был мой друг, и я решил, что дело, о котором он говорил, нужное. Так оно и было. А что он представлял своих друзей, то его друзья и мои друзья. Есть такое выражение, что вассал моего вассала – тоже мой вассал». Поэтому они признали его виновным. Возможно, в планы кагэбистов входило и такое, что кого-то из подсудимых могли освободить из зала суда. Но осудили всех.
По 4 года дали Мотрюку и Чупрею. У Чупрея только одна статья 62, за пистолеты его не обвиняли. А Шовковому и Демидову дали по 5, потому что первый был руководителем службы безопасности, а второй – руководителем идеологического отдела. Мне дали срок 7 лет заключения в лагерях строгого режима и 3 ссылки.
Суд длился три дня, 5 августа 1973 года зачитали приговор.
Случилось так, что о рождении своего ребёнка я узнал аж в мае, а дочка Светлана родилась 23 апреля 1973 года. Не хотели мне сказать… Я следователю ещё и «поблагодарил»: «Какая же это у вас подлая методика – держать в секрете дорогие сердцу события, которые произошли в семье». Потом с этим следователем у меня ещё была встреча, кажется, в восемьдесят... Не могу уже точно год сказать.
ЛАГЕРЬ ВС-389/36, КУЧИНО
Отправили нас этапом в зону. Везли нас через Львов, Харьков, Свердловск и Пермь – такой зигзаг сделали, назад вернули, через станцию Чусовскую. На разных этапах были разные перипетии, но это уже другая история. В лагерь мы попали в конце ноября 1973 года.
Чупрея, меня и Мотрюка привезли в зону ВС-389/36, что в Кучино Чусовского района Пермской области, где в то время находились Олесь Сергиенко*, Евгений Сверстюк*, Тарас Мельничук*, Олекса Ризныкив*, Анатолий Здоровый*, Левко Лукьяненко*, Иван Покровский*, группа евреев – похитителей самолёта Эдуард Дымшиц, Израиль Залмансон* (*«Дело самолётчиков», которые закупили все билеты на 12-местный самолёт из Ленинграда в Приозерск на 15.06.1970 г. и намеревались повернуть его в Швецию. Все были осуждены, но тем поступком они «пробили» дорогу другим евреям на выезд в Израиль. – Ред.); группа русских похитителей самолёта, Васильев, сестра которого сидела на женской зоне, потом какие-то там монархисты сидели, ВСХСОН* (*ВСХСОН – «Всероссийский социал-христианский союз освобождения народов». Монархистская организация, возникшая в Ленинграде в 1964 г.; в 1967 г. были осуждены её члены Евгений Вагин, Аверочкин, Садо, Игорь Огурцов, Владимир Осипов, Леонид Бородин и другие), Чеховской и Чамовских – такие интересные фамилии у них были. Был Давыдов из Ленинграда. Позже пришёл Анатолий Марченко*, мы коротко с ним встретились. Потом Игорь Калинец* и Иван Свитлычный* попали туда тоже ненадолго, мы с ними находились где-то до двух-трёх месяцев. Мы пообщались до забастовки, которая возникла в зоне (23.06. 1974. – Ред.).
Находясь в заключении, я познакомился с волынянином, участником боевых действий ОУН-УПА Андреем Туриком*. Его высокий рост, осанка, мужественное лицо с орлиным носом – завораживали. Он имел талант контрразведчика и, как потом выяснилось, был причастен в лагере к действительно необычным делам по пересылке на волю материалов, в которых речь шла о положении политзаключённых. Как-то он подошёл ко мне и завёл разговор, не мог бы я написать статью о том, что в заключении много украинцев и что они и здесь борются за независимость Украины, а империя СССР продолжает расправляться с ними – одних бросает в тюрьмы и зоны, а других упекает в психиатрические заведения, а ещё других уничтожает как морально, так и физически. Эта статья должна была бы быть как обращение ко всем людям доброй воли. Я спросил Турика, кто подпишет это обращение. Он сказал, что сообщит позже, но надо написать. Дальше спрашивать было неуместно, потому что считалось, что тот, кто допытывается, часто подозревается как сексот.
Статью-обращение с описанием, кто мы, за что боремся и почему большевики нас заключили, а политзаключёнными не признают, я написал. Это было где-то в декабре – январе 1973 – 1974 годов.
Турик внимательно изучил статью и, видимо, с кем-то советовался. Это мог быть его побратим, с которым он долгие годы общался, Николай Курчик* с Ровненщины, тоже участник подполья ОУН-УПА. Они оба тогда жили в 4-м бараке, но в разных секциях (барак был поделён на 2 секции, в каждой было от 25 до 35 человек).
Где-то через два-три дня Турик сказал мне, что статья моя хорошая и «пойдёт в дело». Как он её переправит, я не допытывался. Однако он мне объяснил, что подписана она группой политзаключённых, среди которых Левко Лукьяненко, Валентин Мороз, Вячеслав Чорновил, Иван Покровский, Иван Свитлычный, Андрей Турик, Дмитрий Гринькив и многие другие. Где-то около 20 фамилий. Я спросил Турика, что вот, мол, мы себе так свободно подписываем эту статью чужими именами, а будут ли согласны на это люди, за которых мы подписали? Он засмеялся и, похлопав меня по-дружески по плечу, ответил: «У нас на это есть договорённость между несколькими людьми. Что если кто-то из нас пишет такое, то имеет право подписать и других, которых хорошо знает». Я впервые с таким столкнулся, но обрадовался несказанно, когда Турик как-то весной 1974 года так хитро улыбнулся и сообщил мне, что статья уже вышла за границей.
Уже после освобождения Иван Шовковый рассказывал мне, что на 35-й зоне его вызвал гэбист и спрашивал об этой статье, мол, там была и его фамилия (мы с Туриком вписали его туда), говорил, что эта статья вышла в печать в итальянской газете и ещё в каких-то газетах. Чекист допытывался, почему там и Шовковый был подписан.
Я догадывался, что Турик владеет какими-то тайными каналами. И действительно, в лагере о нём ходили слухи, что у него подозрительные связи и он втёрся в доверие даже к отдельным прапорщикам-надзирателям. Это подтверждалось тем, что как-то на Пасхальные праздники 1974 года за стол, где мы праздновали (а там были Олесь Сергиенко, Евгений Сверстюк, Иван Покровский, Олекса Ризныченко, Анатолий Здоровый и другие), к нам присоединился Андрей Турик и вдруг выставил на стол четвертинку водки. Это было для присутствующих чудом, потому что о спиртном здесь нечего было и думать. Как он это раздобыл – не известно. А Сверстюк, допуская, что это передано соответствующими органами, даже отказался пригубить той водки. Когда её разделили на всех, оказалось по напёрстку.
Как потом оказалось, статью, которую я написал, вывез на волю Яков Сусленский*, который освободился в 1974 году. Вывез каким-то таким образом, что надзиратели не смогли найти. Очевидно, проглотил несколько пилюль, заклеенных в целлофан, в которых мелким шрифтом была переписана эта статья.
С Туриком у меня завязалась дружба, и я по его просьбе кое-что писал мелким шрифтом, а он передавал. Как-то, когда я писал информацию в комнатке барака (так называемая комната для написания писем и чтения), меня внезапно застали надзиратели во главе с прапорщиком по кличке «Конгений» (он был какой-то смуглый). Тот набросился на мои записи. Я часть бросил в рот и, пережевав, проглотил, а часть они вырвали из моих рук. Это стало поводом посадить меня на два месяца в ПКТ (помещение камерного типа). Это было в 1975 году, где-то в августе – сентябре.
В ПКТ я сидел вместе с Иваном Верником и Романом Гайдуком*. Последний сидел там за какие-то нарушения режима и неповиновение администрации, а Верник за то, что требовал колбасы и масла в качестве платы за сварочные работы. Он сваривал двери в ПКТ, а потом красил там пол и двери. Это разозлило начальника режима Фёдорова, и Вернику дали ПКТ, чтобы немного успокоил свои неумеренные аппетиты.
А ещё был со мной такой случай, который мог закончиться трагически. Было это в сентябре 1976 года. Я работал токарем. Обтачивал так называемые протяжки, заготовки для которых в лагерь привозили откуда-то из города Лысьва. С 35-й зоны к нам на 36-ю перебросили моего подельника Дмитрия Демидива. Мы работали рядом за станками. Я заложил заготовку размером где-то до 1 м 40 см и запустил в работу. Поправляя краник охлаждения над рабочим резцом, я не заметил, как с моего рукава захватило оборванную нитку и мигом затянуло правый рукав на протяжку. Обороты были большие, до 100 в минуту. Почувствовав смертельную опасность, я неимоверным усилием рванулся изо всех сил. К быстрым действиям меня побудил ещё и крик Демидива, который неистово закричал: «Спасайся!» У меня всё заработало на спасение. Меня развернуло, и я, упёршись ногами в станину станка, который уже был за спиной, разорвал на шее остатки рабочей куртки и майки, что были на мне. С Божьей помощью я, весь ободранный до крови, вырвался и сгоряча бросился бежать к проходной. За мной побежали товарищи. Первым добегал Демидив. На бегу я осмотрелся, целы ли руки, и понемногу начал терять сознание. В санчасть пришли оперуполномоченный и начальник режима с отрядным. Составили акт, как всё было. Видно, что и им тоже вынесли бы служебный выговор, если бы я стал калекой или погиб.
Меня продержали в санчасти дней десять и выписали. На руках остались рубцы, потому что с меня резко скручивало одежду на ту протяжку. Думали, что я уже никогда не стану к токарному делу, но я, испытывая свою судьбу, и дальше работал на токарном станке, что очень удивило, как помню, Евгения Сверстюка. А белорус Иван Брага сказал мне искренне: «Вырваться из такого, как тебе удалось, физически почти невозможно, какое бы здоровье у тебя ни было и лошадиная сила. Тут что-то другое: наверное, ты ещё нужен кому-то там, на воле, а потому Бог тебя спас».
Летом 1974 года в результате конфликта, произошедшего между дежурным помощником начальника лагеря капитаном Мелентяем и политзаключённым Степаном Сапеляком*, начался протест против разгула администрации. Капитан, обыскивая Степана Сапеляка, превысил свои служебные полномочия и нанёс Сапеляку несколько ударов по рёбрам, когда тот стал к стене лицом. В лагере Степан пожаловался своим ближайшим друзьям, с которыми жил в одном бараке — Павлу Строценю, Дмитрию Солодкому и другим. Украинская группа заключённых подала протест в Пермскую прокуратуру, в Генеральную прокуратуру СССР.
В забастовке, возникшей на почве этого конфликта, приняли участие в основном политзаключённые-шестидесятники: Левко Лукьяненко*, Евгений Сверстюк*, я, Владимир Сенькив* (подельник Сапеляка), сам Сапеляк и другие*. (*Инцидент произошёл 23.06.1974, в забастовке приняли участие 45 политзаключённых. См.: С. Сапеляк. «Хроніки дисидентські від головосіку. Невольнича мемуаристика». — К.: Смолоскип. — С. 35–41; «Юнаки з огненної печі» / Харьковская правозащитная группа. — Харьков: Фолио, 2003. — С. 122–123, 144. — Ред.). Роман Чупрей ввиду травмы пальца (он лечился) не принимал участия в забастовке, а Николай Мотрюк воздержался от забастовки, потому что был в несколько депрессивном состоянии в связи с разводом с женой.
Администрация, видя, что дело затронуло молодёжь, прибывшую в зону, начала принимать меры, чтобы забастовка не стала массовой. В частности, меня, как и Сенькива Владимира, вызвали оперуполномоченный и режимник Фёдоров: «Вы ещё молодые, на провокацию вас толкают подобные Курчику Николаю, который имеет на своей совести убийства». Даже такое плели, что во время одной из забастовок где-то в Мордовии Курчик кого-то там, кто не хотел бастовать вместе с ним, задушил полотенцем! Я того не послушал и дальше не выходил на работу. Меня и Сенькива посадили в карцер. Мне дали 8 суток, а Сенькиву, кажется, 5. Посадили в карцер и Сверстюка — мы с ним и с Сенькивом были вместе в одной камере. Иван Покровский*, родом с Черниговщины, который, как и Лукьяненко, поддержал забастовку, тоже был посажен на 6 месяцев в ПКТ, то есть до конца его 25-летнего срока. Перед выходом на волю у него выпали все зубы. Как-то через прапорщика Андрей Турик наладил подпольные передачи для Покровского — шоколад и масло, что поддерживало старческое здоровье политзаключённого. Но другие прапорщики это раскрыли, и того прапорщика, кажется, нерусской национальности (возможно, татарин или узбек), не стало. Левко Лукьяненко осудили до конца срока во Владимирскую тюрьму, еврея Черноглаза, который поддержал забастовку, тоже осудили во Владимирскую тюрьму.
Отрядный Долматов устроил против Евгения Сверстюка провокацию. Он вызвал Евгения на разговор через дневального Владимира Глыву*. Тот позвал Сверстюка таким унизительным жестом, кивая пальцем и крича: «Эй ты, иди, зовут тебя там!». Конечно, Сверстюка это возмутило, ведь мог же тот Глыва по-человечески подойти и сказать, что вызывает отрядный. А речь шла, собственно, о перипетиях с той забастовкой. Сверстюк не подошёл к дневальному, а тот написал докладную на имя начальника лагеря. Заместитель начальника по режиму Фёдоров вместе с начальником лагеря, тогда ещё майором Котовым, вызвали Сверстюка и Глыву для подтверждения того, как может выслуживаться «украинец-хохол». Котов практиковал такие унижения. Евгений только развёл руками, потому что не ожидал подобного свинства от якобы воина УПА. А Котов спекулировал особой честностью Глывы, мол, он очень добросовестно всё выполняет. А он работал «шнырём», то есть дневалил и обслуживал отрядного в отсутствие заключённых. Сверстюка тогда посадили на 10 суток, в связи с чем он объявил голодовку. Администрация поняла, что акция протеста может перекинуться и на соседний лагерь, потому что знала, что информация шла через тюремную больницу, которая была рядом с лагерем ВС-389/35. А потому страсти понемногу были приглушены, ибо, очевидно, органы КГБ не намеревались раскручивать только что заключённых молодых людей, ведь это могло стать достоянием гласности среди мировой общественности. Тогда у СССР была бы свежая забота для разного рода опровержений, а они так хотели скрыть факты существования политзаключённых, что даже перевезли политзаключённых из Мордовии на Урал, хотя там ещё оставили один лагерь строгого и один особо строгого режима, где сидели Валентин Мороз*, Даниил Шумук*, Василий Романюк* и другие.
На 35-й зоне, куда перевели нашего подельника Николая Мотрюка, где-то в 1976 году началась длительная акция за предоставление статуса политзаключённого. Почти весь лагерь, особенно шестидесятники, стали заявлениями, протестами добиваться признания их не уголовниками, а политзаключёнными. Николай Мотрюк, Иван-Василий Шовковый тоже присоединились к этой акции. Николай в письме с отказом от советского гражданства написал, что выбирает себе страну для проживания Францию. Когда его кагэбисты спросили, почему именно эту страну, он объяснил коротко: «Хочу искупаться в Сене и увидеть Эйфелеву башню, а может и спрыгнуть с неё — разве вам не всё равно?» Шовковый выбрал Голландию*. (*См. об этом в публикации Николая Горбаля «Хроника „Архипелага ГУЛАГ“. Зона 35 (за 1977 г.)» в журнале «Зона», ч. 4, 1993 г., с. 141–142. — Ред.). Конечно, кагэбисты были обеспокоены, что такой повальный отказ от гражданства станет известен на Западе и будет новая забота, что и произошло.
В начале 1977 года перед освобождением Николая Мотрюка и Романа Чупрея повезли в Ивано-Франковский изолятор для определённого разговора. Меня тоже повезли, намереваясь испытать мои нервы: чтобы я видел, что вот твои друзья уже выходят, а тебе ещё сидеть и сидеть. Я догадывался, что это какой-то хитрый трюк, но ожидал худшего: чтобы в дороге не случилось каких-нибудь провокаций. В них недостатка не было, но это тема для более широкого рассказа. Когда-нибудь, если смогу, то опишу. Во Франковске мне сказали прямо: «Вот вы видите, что Мотрюк и Шовковый написали отказ от гражданства СССР. Может, вы их поддерживаете, но об этом не заявляете?». Действительно, было над чем подумать, потому что почему-то в нашем лагере об этом речь не шла. Мы как-то не принимали во внимание все эти коллизии, и многие не намеревались выезжать из Украины. Да и Евгений Сверстюк этого вопроса не затрагивал: это была довольно болезненная тема. Я ответил, что не вникал в мотивы их отказов, но сам хочу жить на Украине, заграница для меня не является привлекательным раем, потому что я не материалист. «Напишите такое письмо, где вы осуждаете действия своих подельников и других политзаключённых». Я категорически отказался, и кагэбисты отправили меня обратно на Урал. Возможно, если бы я так сделал, то это было бы той «индульгенцией», подписав которую, я был бы на воле одновременно с Мотрюком и Чупреем.
Во второй раз «на промывку мозгов», как тогда говорили заключённые, меня взяли уже не во Франковск, а в Киев. Было это в феврале – марте 1978 года. Как я удивился, когда увидел там одного из кагэбистов, который разговаривал со мной в марте 1977 года во Франковске, когда освобождались Чупрей и Мотрюк, — Ковтуна. Он и ещё один майор, по фамилии Петренко, в Лукьяновской тюрьме завели разговор о том, что родители мои уже старенькие, мать нездорова, а дети нуждаются в отце. Мол, а не стоит ли мне написать не заявление, а просто размышления о том, что не следовало бы отдельным заключённым уповать на заморский рай, что нет ничего лучше родной земли, и что вот я считаю, что в капиталистических странах полной демократии для личности не добьёшься, потому что там погоня за наживой. «Да вы же и сами на предварительном следствии говорили, что хотели видеть Украину социалистической, лишь бы она была более независимой. Вот в Чехословакии социализм и в Швеции», — заметил Ковтун. Я ответил, что я это говорил пять лет назад, а теперь, после тюрем и лагерей, я утвердился во мнении, что Украине и социализм не даст независимости, пока существует империя СССР.
Были разные разговоры, пока Ковтун не говорит, что мама и жена подали в Верховный Совет СССР прошение о моём помиловании, а потому надо и от меня какой-то шаг. Что-то написать. Я ответил, что писать какие-либо заявления и обращения не буду. Тогда они остановились на том, что я должен был бы подписать некое соглашение, в котором указать, что заниматься антисоветской деятельностью не буду. И действительно принесли бумагу, где было написано, что я, такой-то, осуждённый за антисоветскую деятельность, заверяю органы КГБ, что не намерен заниматься после освобождения антисоветской деятельностью. Я себе подумал, что они по-своему понимают вопрос деятельности, а я по-своему, и решил, что время покажет. Я подписал то письмо об ответственности за антисоветскую деятельность, и меня отправили из Киева. Остановили в Москве в тюрьме Лефортово. Держали около недели, а потом меня вызвал какой-то представитель от КГБ и на чистом украинском языке сказал, что умерла моя мама. Я ответил, что знаю это, на что он удивился: «Как?» Я сказал, что приснился сон, из которого я сделал вывод, что мама умерла. Перевели меня в камеру, где было ещё двое человек, очевидно, чтобы я не был один, зная о смерти родного человека. Правда, кагэбист тогда извинился и сказал, что на похороны меня не смогли пустить: «Потому что вы сами понимаете, в каком вы статусе».
Мама умерла в конце марта 1978 года, а меня с конца марта держали в Лефортово. Вызывал меня всё тот же кагэбист — капитан Гуржос, который в мае намекнул мне, что моё дело на рассмотрении и, возможно, я выйду на свободу, потому что: «Прошение вашей матери и жены в силе».
Так в августе 1978 года я освободился из Лефортово, где провёл почти полгода.
УРЕЗАННАЯ СВОБОДА
Д.Г.: Через несколько дней после освобождения меня вызвал начальник Коломыйского КГБ и говорит: «Вы освободились и должны понимать, что та деятельность и то, что было с вами в лагере, должно там и остаться, а вы в Коломые должны вести себя так, как ведут себя советские люди». Я не понял этого и говорю: «А что это вы так — сразу угрожаете, я же только что к семье вернулся? Здесь мои дети...». — «Мы понимаем ваши семейные чувства, но чтобы вы снова не возобновляли свою деятельность». Разговор состоялся как бы на равных, но, с другой стороны, я понял, что это было чётко указано на моё место. Он сказал, что в течение двух недель я должен оформиться на работу. Я спросил, какая должна быть моя работа. Он говорит: «Вы же не глупый человек, вы должны понять, что должны оформиться на работу, потому что действует закон: если не устроишься на работу в течение месяца, то можешь снова быть осуждён».
Я вернулся домой и говорю жене, что так и так, надо оформиться на работу. И пошёл искать работу. Пошёл на ДОЗ (деревообрабатывающий завод) — на ДОЗе в отделе кадров сказали: «Ваша специальность такова, что для вас работы у нас нет. Вы слесарь-сборщик, а у нас нечего собирать. Вы токарь — у нас токарей хватает». Одним словом, говорит, что как будет место, то мне сообщат. Так легонько отказали. Разговаривая с начальником отдела кадров, я понял, что он достаточно осведомлён, кто я такой. Я ничего не сказал, повернулся и ушёл.
Подался на железную дорогу. Думал, может, в депо я устроюсь или где-то на вокзале. Там тоже, когда я показал справку об освобождении, меня встретили с каким-то отчуждением. Та справка была для них ужасной: посмотрели, что осуждён, так немножко причмокнули и сказали: «Подождите, скоро подойдёт наш заместитель». Заместитель пришёл и сказал, что он со мной не может говорить, тут нужен отдел кадров. Я посмотрел на это да и пошёл домой.
По дороге я встретился со своим знакомым, который освободился накануне, его фамилия Ковцуняк, зовут Евгений. В лагере Кучино он подружился со мной, потому что был родом из Ивано-Франковщины, да ещё и из Коломыйского района. Ковцуняк вместе с братом были участниками подполья. Евгений выполнял определённые задания: связь с боёвками, доставка листовок и их распространение. Скрывался у своей знакомой, на которой женился, и перед арестом проживал в с. Гвоздец Городенковского района. Более 10 лет жил в специально оборудованной крыивке под печью в хате. О нём была статья в «Прикарпатской правде» после того, как его обнаружили. После ареста и суда его отправили в Мордовию, а потом на Урал, где я и встретился с ним. Срок у него был 15 лет, а освободился он в 1977 году. Тогда статья у него была 54 ч. 1. Год рождения примерно 1923. В 1980 году Ковцуняк внезапно умер от сердечного приступа. Похоронен в селе Корнич Коломыйского района, где вместе с женой жил в выкупленной в военном городке хате, недалеко от Корничского аэродрома.
Теперь Евгений Ковцуняк уже работал на заводе «Сельмаш». Он говорит: «Дмитрий, запомни одно: все, кто освобождался из наших политических лагерей в Коломыю, — всех они загоняют на один завод, на „Сельмаш“. Так что ты и не ищи особо». — «А может я хочу найти что-то другое и на „Сельмаш“ не хочу идти?» Но не тут-то было!
Ко мне подошёл ещё один, который раньше освободился, Глыва Владимир*. Он родился в с. Носов (район близ Бережанского) в 1926 году. Осуждён за убийство участкового милиционера в родном селе, имел связи с подпольем. Срок заключения 28 лет: 25 по ст. 54, а ещё три года за попытку побега из лагеря. Освободился в 1977 году в Коломыю, где женился на той девушке, с которой долгое время переписывался. София, родом из Великой Каменки Коломыйского района. Из патриотической семьи, симпатизировала повстанцам. Мы с ним были на Урале в одном лагере и в одном бараке. Он тоже сказал, что уже работает на «Сельмаше» в одном цехе с Ковцуняком. Я очень удивился, что люди, которые были в одном лагере, здесь даже в одном цехе работают.
До месяца я не хотел идти на работу. А потом зашёл в дом участковый милиционер, представился и сказал мне такое: «Я бы хотел с вами поговорить. Можно?» — «Можно». Мы присели и разговариваем. Он говорит: «Мне бы не хотелось вас беспокоить, но есть такое указание, так что буду говорить откровенно. Вы освободились, но не устроены на работу. Почему вы не устроились на работу?» Искренний был человек. Я спросил: «А что мне делать? Я туда сунулся, сюда сунулся — везде относятся с предубеждением, не принимают. Так что делать?» — «Да почему не принимают? Что вы такое говорите?» — «А куда принимают?» — «А вы на „Сельмаш“ не обращались?» Я всё понял, поскольку говорил с теми двумя заключёнными, которые освободились. Это у них такая практика: всех освобождённых загонять на «Сельмаш», особенно с политическими статьями, как вот раньше 54-я, наша 62-я. Ну, что ж, я улыбнулся и говорю: «Хорошо. Так что делать?» — «Да вы только туда придите, и всё, там гарантировано... Что вы такое говорите? Вы же туда не обращались?» — «Не обращался».
Жена после посещения милиционера говорит: «Ты сам видишь, что они будут на тебя постоянно давить. Тебе это надо?» Хорошо, махнул я рукой и пошёл на этот «Сельмаш». Пошёл на «Сельмаш» — а там будто меня ждали! Я это рассказываю упрощённо. Я между своими разговаривал, так все понимали, что я всё-таки приду на «Сельмаш».
На «Сельмаше» в отделе кадров работал человек, как мне потом сказали, из органов КГБ. Из тех, которые когда-то гоняли наших хлопцев из УПА в лесах. Фамилия, кажется, Ребров. Он такого невысокого роста. Мне сказали: «Ну, этот знает ваших хлопцев с тех времён!» Ребров улыбнулся, как будто хотел вызвать доверие. Конечно, оформился я на работу во второй цех завода, потому что уже некуда было деваться.
Действительно, там оказалось много бывших заключённых всех категорий. Почему я это так говорю — потому что в один год там кто-то ограбил кассу училища, которое было на территории завода. Оно готовило токарей, фрезеровщиков для завода. Кто-то похитил деньги, предназначенные на зарплату преподавателям училища, где-то до 4–5 тысяч. Поэтому на следственные органы было возложено выявить вора. Заподозрили всех, кто сидел. В течение двух дней брали поголовно всех по 2–3 человека и в «бобике» везли в милицию на допросы. В каждом кабинете сидел майор или капитан. Я говорил с одним капитаном, а потом майор передо мной извинялся: «Мы понимаем, что вы не виноваты, у вас совсем другие статьи». Это потому, что я запротестовал: «У меня статьи 62, 64, почему меня привезли сюда?»
Возили всех — и того Глыву, и Ковцуняка, и остальных людей. Поэтому я так примерно подсчитал: выходило где-то до 80 с лишним человек, которых они возили на допросы с завода «Сельмаш» по поводу этой кражи. Тогда я понял, что у них здесь была развита сеть слежения, чтобы удерживать столько бывших заключённых в одном месте. Более того, меня один человек предупредил: «Я бы вас попросил: реже разговаривайте с некоторыми своими людьми». И отошёл от меня. Я удивился, почему он так мне сказал. А он, очевидно, знал тех людей, которые подходили ко мне с разговорами.
Второй случай был такой. Один с соседнего участка подошёл ко мне и говорит: «Я хочу вам кое-что сказать. Я партийный человек, коммунист. На собраниях и на бюро нашего цеха мне дали задание присматривать за вами. Но мне как-то стыдно, потому что я о вас слышал». И признался, что слышал по «Голосу Америки» всё наше дело тогда, когда нас арестовали. Это он мне признался. Он оказался порядочным человеком. Я спросил: «А что ж тебя понесло в партию? Ты должен из этой партии выйти». А он: «Ну так и о вас говорили, что вы были коммунистом?» — «Я такой коммунист: здесь приняли — здесь и выставили за дверь. Но ты же годами подавляешь себя». — «Ну, а что мне сделать?» — «Просто пойти и сказать, что ты не справляешься с работой и выйти из партии». И он это сделал через два года. Когда я с ним позже встречался, он был очень благодарен мне. Он вышел задолго до того, как массово начали выходить из партии. Конечно, это ему было тяжело сделать. Его фамилия была, кажется, Горобец, или какая-то такая «птичья».
Работа была в две смены, тяжёлая работа, токарная. Я в зоне с помощью немца Коста научился токарному делу и уже вынужден был работать токарем. Фамилия Кост; его многие знали, он не одного украинца научил токарному делу.
После освобождения со мной был такой разговор. Когда меня вызвали в органы КГБ города Коломыи, то был ещё какой-то человек в гражданском. Какой-то, видно, куратор из области, или кто. Он говорит мне: «Ну как так? Вы учились в Институте нефти и газа на третьем курсе — есть возможность продолжить учёбу. Мы бы вам посодействовали». Я говорю: «Нет. Если я захочу учиться, то буду учиться. А я пока не определился и учиться не хочу». Я понял, что это они мне «закинули»: если бы я захотел иметь с ними отношения, то это очень просто сделать. Как это так просто бывшему политзаключённому можно возобновить учёбу? Я это прекрасно понимал.
Но я всё-таки думаю: возьму документы и разведаю, что в Институте нефти и газа делается. Встретился с деканом заочного факультета. Он оказался литовцем по национальности. Говорил со мной на русском языке. Я сказал, что учился в Институте и хотел бы знать, как можно восстановиться. А он посмотрел на меня и говорит: «А когда вы оставили учёбу?» — «В 1973 году, я был арестован». А он так встал и говорит: «За что вас арестовали?» Так мы разговорились. Он, литовец, провёл со мной довольно приятную беседу. Я так понял, что он сторонник всего того, что я ему рассказывал. Это был 1979 год. Он, конечно, понимал, с кем разговаривает, я ему рассказал такие вещи и намекнул, что сидел в таких зонах, где много литовцев, латышей, и все за национальное возрождение своих стран. А он говорит: «Что же вы сделали? Разве ваша жена или кто-то там не мог подойти сюда на факультет и написать заявление на академотпуск? Я бы продлевал его ежегодно, и теперь вы бы спокойно пришли и учились. А сейчас что делать?» Конечно, я его понимал и он меня тоже, но мне приятно было, что он хорошо воспринимал меня, и я был рад, что сказал ему правду. Я сказал, что сейчас учиться не хочу, а если захочу, то какая это наука будет, если всё время будут преследовать?
О ТАРАСЕ МЕЛЬНИЧУКЕ
Д.Г.: Сложилось так, что в лагере я очень близко сошёлся с Тарасом Мельничуком* — поэтом-диссидентом, который освободился несколько раньше*. (*В январе 1975. — Ред.). Чекисты применяли такой приём: перед освобождением они отправляли человека якобы в больницу. А больница на Урале у нас была возле другой зоны, на станции Всехсвятской. Мельничука как забрали, так уже к нам не привозили. Но перед тем мы имели хороший контакт, разговаривали о разных вещах, о поэзии. Говорили и о том, как бы где-нибудь встретиться на воле. Хоть он освободился раньше меня, но об этом не забыл.
Когда я освободился — это был конец августа 1978 года — уже через месяц ко мне приехал Тарас Мельничук. Освободился я на тот же адрес, с которого меня арестовали, потому что там жена жила, в Коломыю. Конечно, мы встретились с радостью, но он был грустен. Я его начал расспрашивать, в чём дело, почему он такой грустный. Говорит: «Ну как не будешь грустить, когда КГБ со всех сторон тебя преследует? Я не могу без разрешения никуда поехать. Я уже получил несколько предостережений со стороны КГБ, со стороны милиции». Потому что КГБ всегда действовало через милицию. Я удивился, а оказалось, что удивляться было нечему, потому что я и сам получил такой удар.
В начале 1979 года Тараса Мельничука спровоцировали на какой-то уголовный поступок. Была там в селе какая-то стычка с односельчанами. Он не выдержал какого-то оскорбления по поводу его поэтического наследия. Его там хорошо оскорбили, он не выдержал и ударил того злоумышленника кружкой пива. За это ему потом дали четыре года. Тем временем он сбежал. Куда сбежал? Он понял, что его арестуют, так что приехал ко мне в Коломыю и рассказал всё это дело. Я говорю: «Тарас, ты видишь, что моя хата „под обстрелом“. Мы все, как говорится, под колпаком. Здесь надзор, приходит участковый, приходят люди. Здесь соседи...» (Эти соседи мне позже, в 90-х годах, признались, что перед арестом из их комнаты был приставлен к стене какой-то прибор. Меня очень удивило, что они мне признались). Так я ему говорил: «Давай я тебя как-нибудь переправлю в Печенежин к ребятам. Там есть какая-то хата, они тебя спрячут». Печенежин — это посёлок, в настоящее время около семи тысяч населения. Действительно большой и разветвлённый посёлок, там где-то можно спрятаться месяцев на два.
Расчёт был такой, что, возможно, мы спрячем Тараса Мельничука, а преступление это нетяжкое, так что следствие, как говорится, махнёт рукой: ну что там, ударил человека кружкой? Но, к сожалению, оказалось, что всё это было спровоцировано КГБ, они были очень заинтересованы его найти. Это мы уже потом узнали. Я перевёл его к Шовковому и рассказал все эти коллизии. Шовковый не хотел его переправлять куда-то к своей родне или ещё куда и сказал: «Пусть он остаётся у нас». Шовковый оставил его у себя. Может, он сам об этом расскажет…
Тарас где-то до недели скрывался у Шовкового. Рядом жил Роман Чупрей. Они говорили ему на село не появляться, но он где-то появлялся. Потому что у него такая, знаете, натура: это был человек нетерпеливый. Он появлялся и на селе. Очевидно, его кто-то видел. Да конечно, что видел. Он из-за этой нетерпеливости и пропал. Не выдержал всего этого и говорит: «Да что я буду вечно от них прятаться? Что они мне сделают? Да и, в конце концов, здесь я понял, что они от меня не отстанут. Пойду и сдамся».
Но не суть важно: перед этим он где-то появился в Коломые. В Коломые на автостанции его увидели люди из его села. Донесли, что он садился на автобус, который отправлялся в Печенежин. Понятно, что это за люди. Одним словом, он в Печенежине был раскрыт. Как именно — я не знаю.
Были проведены обыски в ходе его следствия — у меня и у Шовкового. Якобы искали нож, которым он будто бы от кого-то отбивался. На самом же деле один из нападавших поднял на Тараса руку с ножом, а Тарас выбил этот нож, схватил и куда-то выбросил. Вот они хотели изобразить так, что это нож Тараса Мельничука, который где-то потерялся. Такая мифологическая ситуация. Пришли с обысками. Ищут нож — и каждую книгу листают. Я им иронично заметил: «Ребята, вы пришли искать нож, так неужели он может быть в книге? Ну, может быть лезвие, а нож как может быть в книгах?» Эти люди были в гражданском. Они были недовольны моим поведением, ещё и моя жена подливала масла в огонь: «Что вы такое делаете?»
Потом они пошли искать к Шовковому в Печенежин. У них были откуда-то данные, где Тарас останавливался. Я позже расспрашивал Тараса, не он ли сказал, где находился. Он говорит: «Я же не очень и хотел скрывать, потому что меня видели на автостанции. Так что, я не должен быть у друзей или как?» Что-то такое он сказал.
Потом мы собрались и решили: ну, раз он уже попался, то теперь наша задача помочь ему как человеку, потому что он здесь единственный из нашего лагеря. На то время он был разведён, но жена пошла на свидание с ним. Он начал всякими способами передавать стихи. А писал он очень много. Эти стихи жена начала приносить ко мне, а я не знал, что с ними делать. Потом подумал, посоветовался и решил, что буду передавать их во Франковск Раисе Мороз* и Любе Возняк-Лемык*, которые имели с нами связь. Это у меня был один-единственный канал связи. То жена возила, то они приезжали, изредка я, потому что я был приметный. Через Раису Мороз всем осуждённым членам «Союза украинской молодёжи Галичины» поступала из Киева небольшая денежная помощь.
Ещё когда я отбывал наказание в Кучино, такая помощь, около 80 руб., вдруг поступила из фонда академика Андрея Сахарова. Отдельным политзаключённым. В том числе и на моё имя. Чекист нашего лагеря Кронберг, латыш, вызвал всех, кому поступила помощь, и уговаривал отказаться от «подачек». Мол, это значит, что вы не исправляетесь, потому что берёте из рук антисоветчиков подачки. Возможно, кто-то и отказался, я об этом ничего не могу сказать.
Нашим родным через Раису Мороз тоже поступала помощь. В Киеве этой помощью для нас руководил Николай Горбаль*. Кстати, он всех нас посетил в Печенежине после нашего освобождения в 1979 году.
Люба Лемык, жена легендарного Николая Лемыка*, который в 1933 году совершил покушение на большевистского консула А. Маилова во Львове. Как организатор походных групп ОУН повешен немцами в 1941 году. Люба жила в Ивано-Франковске. Кстати, она тётя жены Афанасия Заливахи*. После освобождения я подружился с этой семьёй, а Афанасий Заливаха в июле 1980 года посетил моё село Марковку, где вместе с Орысей Сокульской* держал к кресту моего сына Петра. Тогда ещё были у меня в кумовьях Владимир Глыва* и Мария, жена Василия Романюка* (позднее Патриарх Владимир).
Так что это были за стихи Тараса Мельничука? Я объединил эти стихи в несколько циклов. Были довольно критические на ту систему, на Коммунистическую партию, на Суслова, Брежнева. Они были очень актуальны на то время и производили сильное впечатление на людей. Я передал добрую тетрадь этих стихов Раисе Мороз и Любе Лемык. Об их дальнейшей судьбе я лишь догадывался. Знаю лишь, что приезжал во Франковск Николай Горбаль, брал их и каким-то образом передавал за границу. В издательстве «Смолоскип» вышел сборник этих стихов, а также где-то в Великобритании вышел. Британский сборник я не видел, а изданный «Смолоскипом» — это те стихи, что мы передавали, как раз из того периода, когда он сидел на следствии в Косове и в Ивано-Франковске. После этого его осудили на 4 года, он попал в Винницу.
В 1982 году в г. Торонто в издательстве «Смолоскип» им. В. Симоненко появился в печати без ведома и согласия Тараса Мельничука сборник «Із-за ґрат» — 28 стихотворений, написанных в заключении, в следственных изоляторах Косова, Ивано-Франковска, некоторые в Винницкой тюрьме. В 1990 году в Великобритании вышла книга стихов Т. Мельничука «Строфи з Ґолґофи».
Тарас Мельничук умер 29 марта 1995 года в Коломые. Коломыйская и косовская общины похоронили поэта по его завещанию в с. Уторопы на Косовщине, во дворе родного дома. Уторопы с одной стороны граничат с селом Стопчатов, где родился Дмитрий Павлычко, а с другой — с селом Пистынь.
Я уже больше рассказываю о Тарасе Мельничуке, чем о себе, потому что в то время наша работа была сконцентрирована на том, чтобы спасти этого человека, во второй раз несправедливо заключённого тоталитарным режимом. Это привело к тому, что диссидентские круги Ивано-Франковщины соединились с диссидентскими кругами Киева. Я немного опережаю события...
Тарас Мельничук начал писать мне письма из заключения. Письма были какого-то странного содержания. У меня они есть. Такие полуоткровенные письма: «Дмитрович, это так, не надо ничего делать». Я задумался: «Что это он пишет такие письма?» Но ведь не будешь полемизировать с ним, потому что знаю, что письма проверяются. Пишу так, общими фразами, что у нас всё хорошо, работаю на заводе, ребята тебе привет передают. Бытовые письма, без политики. А он, наоборот, пишет письма с политической окраской. Ну, такое странное письмо... «Это наше государство, Советский Союз, смотри, какое оно могущественное. Я здесь прихожу к выводам, что это сила, такая ядерная держава...»
Я читал и думал, что это какая-то ирония, которую нужно понять, ведь я знаю, что он не может таким быть. И не очень показываю эти письма кому-то, потому что они адресованы мне. Конечно, их читала цензура от КГБ. Я понял, что он преследует какую-то цель, но не могу сообразить, какую. Что он хочет, что он имеет в виду?
Уже позже он мне объяснил: «Я писал такое, чтобы сбить их с толку. Пусть думают, что мы сошли с ума». А потом он написал открытое письмо в «Прикарпатскую правду» — это областная коммунистическая газета. Она опубликовала отречение Тараса Мельничука. А потом написал открытое обращение к нам, к ребятам, которых он знает. Назвал там наши фамилии: Грынькив, Демидив, Чупрей, Шовковый, Мотрюк. «Что вы делаете, опомнитесь, это непробиваемо. Вы и дальше занимаетесь тем, вы освободились, но вы не прозрели». Но этого письма почему-то не опубликовали. Это загадка по сей день.
В.О.: А когда это было?
Д.Г.: Это был, кажется, 1980 год. Отречение появилось, кажется, осенью 1980 года.
Тарасу очень помогали поэты Нина Гнатюк и Дмитрий Павлычко. Они посетили зону в Виннице, где он сидел.
В.О.: Дмитрий Павлычко?
Д.Г.: Да, они его очень вытаскивали. Даже Тарас удивился. Дмитрий Павлычко, когда Тарас умер, прислал сюда телеграмму, мол, мы склоняем перед тобой голову. Красиво звучала эта телеграмма. Она есть у нас в «Просвите». А Тарас Мельничук не был расположен к Павлычко. Они были знакомы, но Тарас Мельничук как диссидент, как человек, бросивший вызов этой системе, он никогда не писал таких стихов, как писал Павлычко. Они земляки из ближайших сёл, Уторопы и Стопчатов. Они знали друг друга и учились в одной школе, Яблоновской. Ему было горько слышать, что Павлычко такие стихи пишет. Тарас Мельничук не опускался до такого уровня, чтобы писать хвалебные оды коммунистическому будущему, о Ленине. Единственное — это отречение. Тогда меня чекисты вызвали и помпезно вручили это отречение: «Читайте, что ваш коллега написал». Конечно, мы читаем и внутренне горько плачем, чтобы не выдать себя внешне. Ну, написал человек — это его личное дело. «Как вы на это смотрите? Может быть, вы бы поддержали?» — «Ну, как его поддержишь? Это его горечь, а не моя. Почему я буду поддерживать?» — «Да нет, вы подумайте». Такая вот беседа.
После отречения Тарас написал из неволи ещё одно письмо. Потом освобождается, приходит. Начинает открывать мне карты: «Понимаешь как? Я написал совсем не то. Это половина того, что я написал. Я написал в одном ракурсе, а они подали в другом». — «Ясно, ты написал, а они уже там подкрасили». — «Кстати, накануне я написал обращение к вам». И рассказал, как он писал это обращение: «Я преследовал цель показать таких людей, как вы. Что в Прикарпатье есть люди, которые борются за Украину. Чтобы обратить на вас внимание. Дело не во мне — я уже понял, что, как говорится, тону, но, думаю, хоть вас покажу». Не знаю, насколько он был искренен, но в том отречении есть фамилии: Левко Лукьяненко, Евгений Сверстюк...
Потом я спрашиваю: «А при чём тут письма о гуманизме того государства? У меня море тех писем». — «А что я мог написать? Я хотел показать, что уже стал лояльным». Возможно, здесь отчасти прав господин Сымчич*, что человек в разных условиях по-разному думает и ведёт себя. Ну, не выдержал, и это можно понять. Бог с ним.
На Днепропетровщине был проведён обыск у Григория Приходько*. Он был на зоне и каким-то образом имел мои адреса в селе и в городе. Когда они на него налетели и провели обыски, то он сослался на меня, потому что я немного переписывался с ним, так они сделали у меня обыск по поводу того, какие у меня отношения с Приходько.
В.О.: Это уже было его второе дело, 1979 года.
Д.Г.: Это его второе дело. А ещё у меня был обыск по делу Ивана Сокульского*
В.О.: Так у них одно дело с Приходько.
Д.Г.: В записной книжке Сокульского тоже обнаружили мой адрес и телефон. И какое-то моё письмо обнаружили в Днепропетровске. На этом основании провели обыск и забрали две книги. Одна книга — «Что такое московское православие». Я её взял почитать у Тараса*, сына Василия Романюка*, будущего Патриарха, ныне уже покойного. Отец тогда ещё был в ссылке. Я общался и с его женой Марией, ныне тоже покойной, она приезжала к нам. А Василий Романюк уже позже появился, так мы общались. Он вынужден был уехать на Восточную Украину, это облегчало ему восхождение до статуса Патриарха. Потому что если бы он и дальше боролся в Галичине за казацкую православную веру, а тут греко-католики... Тут едва до драки не доходило, его чуть не избили. А меня тоже обвиняли, что я контактирую с ним как с православным. Я говорил, что как с диссидентом.
В 1980 году у меня родился сын Пётр, я пригласил в кумовья жену Романюка. А кумом — Афанасия Заливаху*. Ну, Афанасий мне поставил условие: если будет или Орыся Лесив*, которая ещё, кажется, не вышла замуж за Ивана Сокульского, или Олена Антонив*. Я поехал во Львов искать Олену Антонив и не нашёл: мне сказали, что она находится то ли в Паневежисе, то ли ещё где-то в Литве — на отдыхе. Тогда я вернулся сюда, нашёл Орысю и пригласил её кумой. Так мы познакомились с Орысей, я начал переписываться с её братом Ярославом Лесивом*. Лесив тогда сидел, его обвинили за наркотики и ещё за какую-то беду, что ему тогда подсунули.
Когда Тарас Мельничук вернулся, то начал сильно выпивать. Его надо было спасать, как говорится, со всех сторон. Решили, что будем как-то спасать. Но как? Когда приезжаешь к нему или он сюда приезжает, и не дашь ему выпить — он сразу убегает и сам ищет «отдушину». Мы делали ему замечания, но он это сносил нетерпеливо. Уже в таком состоянии был.
И в то время мы пытались что-то полезное делать. Но мы были, как говорится, «засвечены». Какой-то шаг сделаешь — сразу становилось известно. Нас вызывали, предостерегали. Где-то у Шовкового на дне рождения мы подняли рюмки за боевика Глыву* — уже меня вызывают: «Вы снова там такие вещи сделали». Мы начали вычислять, кто мог донести. Скандалы были с теми людьми, это уже Шовковый разбирался.
А тем временем Тараса сразу после освобождения начали очень притеснять. Начали применять санкции принудительного характера, чтобы лечить от алкоголизма. Схватили и повезли в Джуров Косовского района. Там в советское время было открыто лечебное учреждение для зависимых от алкоголя. Кагэбисты, преследуя поэта Тараса Мельничука, рассчитывали на то, что если запроторят его на принудительное лечение, то не только подорвут его авторитет среди земляков, но и постепенно уничтожат его лекарствами. Когда я посещал Тараса в Джуровской больнице, то он был почти в отчаянии и говорил мне такие вещи, что я невольно сам испытывал страх за его жизнь. Из его рассказа я понял, что таким как он дают большие дозы каких-то лекарств, которые вызывают боль, человека судорожит, от боли он извивается, идёт пена изо рта, он бьётся о стены, а потому более буйных, которые протестуют против этих лекарств, крепкие санитары привязывают к голой больничной сетке без матраса и, как признал Тарас, на его глазах от передозировки или от того, что не выдерживало сердце, умерли двое человек. «А они ещё были ого-го! Молодые, а не какие-нибудь старички!» — сокрушённо качал головой Тарас. Я был удивлён ещё и тем, что увидел на лечении от постоянных запоев директора Печенежинской школы Иваницкого. Позже стало известно, что он так и умер от алкоголизма. Туда, в Джуров, присылали из Коломыйского района, из Косовского, даже из Верховинского и Снятынского. Таких алкоголиков, у которых психозы бывают, белая горячка. У Тараса тех белых горячек не было, но вёл он себя так, немножко неординарно. Но его посадили в ту палату, где лечат этих с белой горячкой. Как он на это насмотрелся... Где-то ему удалось нацарапать письмо, то письмо пришло ко мне. Там написано: «Брат, спасай! Я очутился здесь среди таких и таких. Я не могу понять...» Я приехал туда, переговорил с врачом. Говорю, что это поэт, известный человек, вы понимаете, чем рискуете? Врач на меня посмотрел да и говорит: «Ну хорошо, я вам дам встречу с ним». Мы встретились, переговорили. Тарас откровенно говорит: «Я здесь долго не буду. Я сбегу или что-то с собой сделаю». — «Тарас, возможно, ты прав». Потому что вижу, что он может что-то с собой сделать. Вернувшись в Коломыю, я посоветовался: «Ребята, мы его вывезем оттуда, спасём».
Мы разработали план его побега. Я приехал на встречу и сказал: «Мы тебя отсюда заберём. Тебя никто не сможет найти. Но если ты будешь слушаться, что я тебе скажу». Он уверенно говорит: «Я уже не могу здесь терпеть». Не знаю, чего он не мог больше терпеть. Ну, очевидно, уколы, то окружение. Мы решили его оттуда выкрасть. Рассказали ему, как будем его выкрадывать. Утром приедем на машине, станем у церкви... Но он опередил все события где-то на два часа. Мы ещё на подъезде к селу, а он уже на распутье стоит! То есть он сам себя выкрал. Он был так окрылён надеждой, что мы его выкрадем, что уже выкрался сам! Как-то там обманул охрану, вылез через какой-то туалетик из окна. Он там всё продумал. И всё: ехал какой-то утренний автобус или машина — он махом за село. Кто там спрашивает, этот же Джуров сетками не огородишь!
Мы взяли его в машину, и чтобы сделать ему хорошо, повезли в Снятын, к знакомым. Он там побыл, потом отвезли его в Коломыю, заперли в хате. Где-то три недели он не выходил из комнаты. Это квартира на улице Богдана Хмельницкого, в семье Пашковских. Пашковский со мной работал, мы ему верили. Но у Тараса была та натура, что он не удерживался от общения. Он хотел улицы, он хотел воли, он хотел воздуха! Он вырывается — и на этот раз вырвался на свою голову. Вырвался, а они его поймали и запроторили в Подмихайловцы, а это уже Ивано-Франковская централизованная психбольница. Это было уже, кажется, в 1985 году, как забирают его в Подмихайловцы. Оттуда и письмо трудно написать. Я так понял, что через третьи руки попало ко мне одно письмо от него. Страшное письмо. Мы перечитали и перепугались. Надо было как-то это письмо передавать во Франковск.
ЖУРНАЛ «КАРБЫ ГИР»
А тем временем я сказал Романюку Тарасу, что хочу выпускать альманах «Карбы гир» — это где-то в 1985 году. Он говорит, что это было бы хорошее дело. В этом альманахе мы решили показать диссидентское движение в Украине, творчество этих людей. В течение 1985–1987 годов вышло 8 номеров.
В.О.: Как выглядел этот альманах?
Д.Г.: Это журнал формата А4, машинописный. Объём от 60 до 100 страниц, а последний номер был больше. Где-то с четвёртого номера к нам присоединился Богдан Ребрик*, когда вернулся после освобождения*. (*Летом 1987 г. — Ред.). Там мы публиковали Евгения Сверстюка, Ярослава Лесива, Виктора Рафальского*, Ивана Гнатюка* — стихи всех таких известных людей, которые сидели. И чуть ли не в каждом номере были стихи Тараса Мельничука, которые ещё нигде не публиковались. Там даже было его письмо из Подмихайловцев и стихи, которые он оттуда передал. Тот номер надо поднять, там очень точно описано, как он туда попал.
Этим нашим альманахом заинтересовались в Косове, в Закарпатье. Тогда уже освободился из ссылки отец Василий Романюк. У него гостил Иосиф Тереля*. Я передал ему несколько экземпляров, а он распространил в Закарпатье. Он родом оттуда. Альманах печатался на пишущей машинке. Последние два-три номера мне помогал выпускать Николай Крайнык*, учитель из Долинского района. Он участник Украинского Национального Фронта*. Действовал в УНФ совместно с Зиновием Красивским*, Дмитрием Квецко* и другими. Николай Крайнык связался со мной и предложил, чтобы наши ребята из «Союза украинской молодёжи Галичины» (это было ещё в 1979 году) стали членами УНФ и продолжили борьбу. Я с ним согласился и сказал, что мы будем продолжать борьбу за независимость Украины разными методами. Таким образом мы с ним заключили некое устное соглашение о сотрудничестве, которое вылилось в то, что он активно сотрудничал со мной, размножал и распространял альманах «Карбы гир», редактором которого я был. Можно сказать, что мы были уже как участники УНФ, потому что выполняли определённую работу: распространяли антисоветские материалы, вели широкую просветительскую работу среди населения.
Крайнык выпустил журнал «Карбы гир» фотоспособом с печатного текста. У меня была такая простая машинка «Москва». Я её выписал по почте. Это уже был 1985 год, можно было такие товары выписывать по почте, но я выписал не на себя, потому что боялся, что шрифты снимут, так что выписал на свояка, брата жены, который работал на стройке. Он получил эту машинку и передал мне. Но там были очень мягкие пластины, которые удерживают буквы, так что эта машинка часто выходила из строя, а печатать надо было много экземпляров. Попробуй на машинке отпечатать 20 экземпляров по 100 страниц — это очень тяжело. Тогда Крайнык сказал: «Давай машинку, я тебе кое-что заменю и откорректирую её». Я ему передал машинку и сказал: «Вы тогда делайте тираж, а я буду давать вам только сигнальный экземпляр».
А как раз после Чернобыля, перед Пасхой, выпускают Тараса Мельничука из Подмихайловцев. Тарас мне говорит, что тогда приехал к нему один чекист из Ивано-Франковска и сказал так: «Счастье твоё, что у нас Чернобыль случился, а то мы готовили тебе новую решётку». Они всё-таки намеревались его загрести и нам тем самым сделать предостережение. Тарасу показывали опус одного из коломыян, студента нынешнего Прикарпатского университета, на 19 страницах. Где-то он есть в анналах КГБ — вот бы достать! Это, конечно, очень тяжело.
Тарас пришёл из Подмихайловцев перед Пасхой 1986 года страшно худой. Накануне я ещё получил было одно его письмо. Его письма и стихи я передал через ивано-франковский канал связи. Очевидно, это сработало. Я похвастался Тарасу, что уже есть выпуски альманаха «Карбы гир» и спросил, не хочет ли и он в нём работать. Он согласился. Я сказал ему: «Будешь литературным редактором, а мы будем продолжать подбирать материалы».
А когда освободился Василий Романюк, то я ездил к нему и предложил открыть церковную рубрику, чтобы и он имел возможность высказаться. Он согласился, а уже потом был разговор с Иосифом Терелей, что всё это надо расширить или, может, сделать выпуск на Закарпатье. Мы после этого с ним не встречались, так что не знаю, сделал ли он что-то. Но он распространял наш альманах. Через радио «Свобода» я даже слышал о содержании одного из этих наших номеров. Мы понимали, что становимся на ступень выше.
Уже к власти пришёл Горбачёв, и мы, по-нашему говоря, обнаглели. Надо было уже откровеннее действовать. Но некоторые перепуганные люди говорили: «Ой, да вас загребут! Вас заберут!» Ну, так пусть забирают — мы видели, что уже никаких «забирок» не будет, и это подтверждалось словами чекиста, который освобождал Мельничука. Тогда он показал Тарасу донос на меня, на Тараса, на Остапа Качура (он филолог, из Ковалёвки Коломыйского района). В том доносе было написано, что эти люди занимаются не тем, чем надо, они и дальше за Украину выступают, пишут такое и говорят эдакое. И немножко так унизительно сказано: «Да что они из себя там поэтов строят? Грынькив начал новеллы писать...» А написал это филолог Андрей Малащук. Когда Мельничук освободился, то имел с ним разговор в моём присутствии на моей квартире. Мельничук едва не схватил нож на Малащука: «Да тебя зарезать мало!» А тот: «Да как так? Да ты понимаешь, меня держали там двое суток! Разве какая-то идея стоит того, чтобы так издеваться над человеком? Я голодный, без ничего — так как это такое?» Мы с Тарасом переглянулись — нас трясло. Но чтобы чего-то не случилось, мы его отпустили. Такие вот есть люди — что поделаешь? Пусть он не обижается, что мы так откровенно о нём говорим. Он довольно много около нас покрутился, этот человек, и начал втираться в доверие к Ивану Дзюбе*, даже начал наезжать в Киев к Ивану Дзюбе. Хочет себя возвысить своими вычурными стихами и опусами. Что-то похожее на Олеся Бузину* (*Бузина Олесь — автор вульгарной книги «Вурдалак Тарас Шевченко», 2001).
Он сейчас входит в авангардистский клан поэтов. Ну, пусть ему Бог помогает, но мы знаем, что это за человек. Этот Малащук очень хотел воспользоваться в писательских кругах знакомством с Мельничуком. Очевидно, это ему частично удавалось перед Дзюбой, потому что Дзюба даже начал отвечать ему — он потом нам хвастался теми письмами. Тарас Мельничук с горечью говорил: «Смотри, всегда моей фамилией и мной какая-нибудь нечисть воспользуется», — так грубо говорил.
А тем временем где-то в 1987 или 1988 году у меня появились Сичко*, отец и сын. Они узнали о «Карбах гир», потому что к ним попал один из номеров. Однажды вечером они приехали ко мне прямо на квартиру и попросили меня на разговор. Я вышел, и они спросили, не мог бы я выпустить их альманах? Я говорю: «У меня здесь есть Тарас, есть ещё один филолог и один историк». Историк у нас Игорь Кичак*. Он сейчас в Коломыйской организации Всеукраинского общества политических заключённых и репрессированных. Такой интересный человек, у него феноменальная память. Я спросил Тараса Мельничука и Игоря Кичака, смогут ли они мне помочь. Они согласились, и я тоже дал согласие.
А с Сичко имел отношения художник Владимир Касиян, он сейчас священник в детской церкви Святого Иосафата в Коломые, в епархии УГКЦ. Это он сказал Сичко: «Грынькив, возможно, поможет вам выпустить подобный альманах в Долине». Они привезли нам все материалы, нам только надо было создать рубрики, смакетировать. Я сказал Василию Сичко: «Альманах-то ваш, но неужели вы не хотите, чтобы какие-то материалы и мы дали?» Мы согласились на том, что будем давать некоторую публицистику и, возможно, художественные произведения. А редактирование он взял на себя: «Я всё-таки хочу быть редактором». Назвали мы этот альманах «Досвитни вогни». В 1988 году вышло два выпуска «Досвитних вогнив». Василий приехал, ещё не сложенные альманахи забирает: «Давай мне!» Всё распространил. У него была большая возможность распространить. А приехал во второй раз — привёз материал, две компактные пишущие машинки, диктофон, фотоаппарат и много бумаги. Единственное, что я попросил, — что Тарас, бедняга, работает, а одеться ему не во что. Так Василий сказал: «Поехали сейчас за ним». Нашли мы Тараса в Уторопах, поехали в магазин, он просто там купил ему костюм. В то время Василий, видно, был обеспечен, имел хорошие деньги. Тарас был невероятно рад этому. Он даже взялся за переводы из журнала Литовского фронта «Саюдис». Потому что организация Сичко тоже называлась «Фронт» — «Украинский Христианско-демократический фронт».
В.О.: Тарас переводил с литовского?
Д.Г.: Нет-нет, с русского. Это был русский вариант «Саюдиса». Литовского Тарас не знал.
Третий номер «Досвитних вогнив» не вышел. Василий Сичко объяснил: «Черновол* меня опередил, он украл у меня название „Досвитни вогни“». В Народном Рухе выходила в 1989 году газета «Досвитни вогни». Какие-то там у них с Черноволом трения были, они во многих вещах не соглашались. Василий больше не приехал, и мы не брались за выпуск дальнейших номеров.
Если уж речь об альманахах, то я ездил во Львов на встречу. Это уже было, кажется, в 1988 году. Там присутствовали Михаил Осадчий* от журнала «Кафедра», Ирина Калинец* от «Евшан-зилля», были оба Горыня, которые представляли «Украинский вестник»*. Мельничук и я, а потом Ирина Калинец, ещё в 1987 году подавали свои вещи в «Украинский вестник».
Мы хотели, чтобы наш альманах тоже был известным. После того совещания издателей самиздатовской прессы мы встретились во Франковске с Вячеславом Черноволом. Тогда состоялся разговор, не сделать ли наш альманах органом УХС Ивано-Франковской области. Тогда Украинский Хельсинкский Союз курировал Черновол. Он приехал из Львова. Черновол знал о нашем альманахе всё. Меня вызвали из Коломыи через Афанасия Заливаху. Там были люди из Надворнянского района, из Рогатинского, из Буштына. Решили избрать главу областной организации Хельсинкского Союза. Избрали Петра Марусыка*, который издал несколько своих вещей в альманахе «Карбы гир». Черновол говорил, что, возможно, Грынькив бы стал, но я отказался, сказав, что веду журнал, мне достаточно «Карбов гир». А он тогда говорит: «Ну, если так, то пусть ваш журнал „Карбы гир“ будет чисто от Хельсинкского Союза». Я на это сказал: «Он обозначен как художественно-литературное издание, так что я не могу написать на нём, что это издание Хельсинкского Союза». Мы понимали, что чисто Хельсинкское издание будет преследоваться больше. Я говорю: «Давайте будем добавлять 20–40 страниц материалов УХС. Пусть будет такая рубрика». Он на тот момент согласился: «Пусть будет так».
Где-то в конце лета 1989 года я с Черноволом встретился, когда он ехал где-то через Коломыю к родне в село Прокуряву Косовского района. Есть там такое село. Там жили сваты Черновола — родители жены сына. Он оказался в Космаче, мы встретились во дворе Дидышина, у которого есть памятник Довбушу. Оригинальный человек этот Дидышин в Космаче. Я там спросил: «Пан Вячеслав, всё-таки, как посоветуете?» Он говорит: «Ну, так как? Делайте этот альманах региональным». А Афанасий Заливаха уже написал на нём «Коломыя — Косов — Киев». Афанасий Заливаха был дальновиднее и придавал альманаху всеукраинское значение. Возможно, он до всеукраинского уровня и не дотягивал, но хотелось ориентировать людей именно так. Заливаха изготовил два вида титульной страницы. Он был знаком с выпусками «Карбов гир» и всячески способствовал его распространению. Кстати, моя книжечка стихов «Панас Заливаха» вышла тоже с титулом одной из его работ к альманаху «Карбы гир». Журнал выходил до 1989 года, а в 1990-м, когда стало свободно издавать, он уже не вышел. Почему не вышел? — Было несколько причин.
В.О.: Вы упоминали о Богдане Ребрике. Какова была его роль в альманахе «Карбы гир»? Потому что сам он об этом мне не рассказывал.
Д.Г.: Сейчас скажу. Написал мне Левко Лукьяненко из ссылки письмо, что создаётся Украинский Хельсинкский Союз. Я написал Левку, что освободился Ребрик во Франковск, но почему-то он не вступает в Хельсинкский Союз. А Левко мне ответил: «Странно, что он не вступает!» Есть у меня эти письма, надо будет поднять. Через Любу Лемык я пошёл на встречу с Ребриком — она была куратором наших встреч, наших освобождений. Я похвастался Ребрику нашим альманахом, и он изъявил желание работать в нём. А в этот дом вхожи были Тарас Романюк и Тарас, сын политзаключённого Петра Розумного*. Тарас из Днепропетровщины. Они оба были вхожи к Ребрику. Они и сказали мне, что Ребрик мог бы нам помочь. Короче говоря, не я на него вышел, а он вышел на альманах и сказал, что хочет сотрудничать с нами. Но меня немного обеспокоило другое. Когда он ездил куда-то за границу, я через Николая Крайныка перефотографировал несколько номеров «Карбов гир» и передал ему плёнки. Он тогда ехал в Израиль и ещё куда-то, и выдал мне какую-то мифологему, что пришлось ему эти плёнки уничтожить в аэропорту в Москве, потому что не удалось провезти. Ну, что ж делать? Это такое, я ничего не могу сказать, пусть уж будет, как есть.
В.О.: А какие были тиражи альманаха «Карбы гир»?
Д.Г.: Первый тираж был 15 экземпляров.
В.О.: Это, наверное, две закладки, так?
Д.Г.: Нет-нет, это было до трёх закладок. А дальнейшие тиражи были почти неконтролируемы, потому что я передал альманах Романюку Тарасу в Косов, а он там где-то пытался размножить, Крайныку выдавал — он перефотографировал. А они не отчитывались, сколько сделали. Сколько-то Тереле передал. Я думаю, что всё равно те тиражи не могли быть большими, но где-то до 50 экземпляров они достигали. А Ребрик где-то за границей давал интервью и там сказал, что он чуть ли не редактор альманаха «Карбы гир». Это меня очень обеспокоило, потому что это несправедливо. А потом, когда мы с ним встречались на собраниях Хельсинкского Союза в Ивано-Франковске на квартире, где и Надежда Стасив* (*Вторая жена Л. Лукьяненко. — Ред.) была, куда Лукьяненко приезжал, то там я его спросил об этом. Он возразил: «Да нет, я так не говорил, это не так восприняли». Ну, это уже история. Хотя он дал два хороших материала о том, что происходило в Ивано-Франковске: о вечере памяти Крушельницких (это была знаменитая семья), а также об одной забытой поэтессе. Ещё дал он несколько статей о своём видении политической ситуации. Это было. В нескольких номерах он работал.
Пётр Марусык давал свои материалы, когда стал главой областной организации Украинского Хельсинкского Союза. Он уже умер. Готовил книгу об УХС, об УРП. Я не знаю судьбы этой книги — надо будет расспросить кого-нибудь.
НАСТУПИЛ 1990 ГОД...
Мы стали членами Хельсинкского Союза, который в Коломые насчитывал 42 человека. Одну ветвь Хельсинкского Союза организовал был Богдан Германюк* в Пядыках, а одну ветвь мы организовали, эту, от Черновола, которую Пётр Марусык возглавил. Тогда я приехал в Коломыю с Качуром, мы присутствовали на создании организации Хельсинкского Союза в 1988 году. Мы знали, что есть ещё какие-то люди. Мы их тогда пригласили к себе — это ветвь Германюка из Пядыков — и решили избрать одного главу. Подумали-подумали и избрали Германюка. А я был, как говорится, её идеологическим наполнителем со своим альманахом.
Вот такой мой короткий рассказ. Есть ещё много неосвещённых страниц. Здесь Украинский Хельсинкский Союз способствовал созданию Коломыйского «Мемориала». Это мы разыскали и выбрали человека, который возглавил Коломыйский «Мемориал». Выбор пал на юриста Богдана Юращука (ныне городской голова Коломыи). Кстати, первое празднование дня рождения Степана Бандеры — 1 января 1990 года — было организовано нами, Хельсинкским Союзом. Потому что теперь КУН первое празднование дня рождения Бандеры приписывает себе. Люди пожали плечами: «Ну, что это такое? Так же нельзя. Есть люди, которые это начинали». Мы дали толчок многим делам.
В.О.: А сейчас я хотел бы, чтобы вы коротко обозначили, что вы делали с 1990 года по сегодняшний день.
Д.Г.: Делегаты от Коломыйщины поехали в апреле 1990 года на съезд Хельсинкского Союза, где он превратился в Украинскую Республиканскую партию. Мы вернулись окрылённые: у нас демократическая власть, нам здесь для УРП даже офис предоставили на улице Первомайской, которую потом переименовали в Степана Бандеры. Практически, УРП тогда была первой во всех начинаниях. Это надо будет описать. После альманаха мне ребята в УРП сказали: «Давай выпускай газету». Мы выпустили газету «На переломе». Это была одна из первых демократических газет в области, которая не имела аналогов. Выпускала её Коломыйская организация УРП. Вышло 23 номера. После агитации за кандидата Павла Мовчана она прекратила существование: надо было платить, бумага стала дорогая, всё стало дорого. Тем более, что мы были не зарегистрированы, а пользовались тем промежуточным законом, что можно выпускать печатные издания до 1000 экземпляров без регистрации. Тогда был такой закон, и мы моментально им воспользовались. А в дальнейшем надо было пройти регистрацию, чтобы возобновить газету. Но и то хорошо, что мы сделали, потому что из той газеты люди черпали информацию о Дне воссоединения, Ноябрьском срыве, бое под Крутами... Люди ещё этого не знали или очень мало что об этом знали. Полстраницы мы посвящали повстанцам УПА. Несколько наших фотографий и текстов к ним вызвали в коломыйском обществе очень живое обсуждение и очень интересную полемику. Мы стали такими известными в городе, что и сейчас нас люди помнят и, кстати, сетуют, что мы прекратили свою деятельность, что нас не слышно, а мы должны быть на вершине.
Могу сказать, что 1990-91, а особенно 1992-93, — это были годы большого сдвига в Коломые. Не было партий подобного типа. Коммунистическая партия была преступной и сходила с арены. А наша УРП была партия новаторская, люди шли в неё. Тогда в ней было 182 человека, это была солидная мощь в Коломые. Потом уже появилась Демократическая, Партия зелёных. Наш радикализм части интеллигенции был немножко великоват. Интеллигенция, учительство не захотело идти в УРП. Вообще мало учителей пошло на Коломыйщине в партии, что меня удивляет. Даже в организации Демократической партии на время её создания в Коломые было лишь 25 человек. Это очень удивило людей, потому что отсюда родом Павлычко — один из лидеров ДемПУ.
Беда была с расколом в Республиканской партии, когда Степан Хмара* её расколол. Тогда очень много людей хотели вступить в Республиканскую партию. А когда Хмара отколол 2000 с лишним человек, то люди прекратили вступать в ту партию. Потом пошло недопонимание в Проводе УРП, и мы вообще оказались в ситуации, что партия как бы и не существовала. А сейчас у меня нет никаких директивных документов. Ещё когда главой был Михаил Горынь*, то ни одна низовая организация не была обделена «Обижниками», всей информацией. Я собирал собрания, я зачитывал всё, знакомил. У нас была витрина, всё работало, как часы. А как началась борьба за лидерство, то не стало информации. А информация — это главное. Я и сейчас говорю, что РХП и УРП — это одинаковые две структуры, нечего их различать. А Левко что-то там заявил, что он выходит из УРП, а теперь даёт опровержение. А поезд, как говорится, ушёл?
Надо было больше полагаться на то, чтобы бывшие политзаключённые находили между собой взаимопонимание, а не те элементы, которые нас растаскивали по разным партиям. Мы, наверное, могли объединиться на основе борьбы против тоталитарного режима. Возможно, это должно было быть уже какое-то непартийное объединение.
В.О.: А какой была ваша политическая карьера? Какие вы сейчас занимаете должности?
Д.Г.: Меня избрали депутатом Коломыйского городского совета первого демократического созыва, 1990-94 год. Очевидно, что люди избрали меня депутатом как человека, который боролся с тоталитарным режимом. Тогда у нас было избрано 100 депутатов. Это был наш первый демократический Совет. По моему предложению мы инициировали снятие Ленина в зале. Потом уже вышли на людное место, на улицы, поснимали памятники идолу на улицах. Там к нам уже присоединились и другие люди. Тогда от УРП прошло 6 депутатов — все держались с достоинством. Это были прекрасные люди: Дерен Тарас, Ткаченко Оксана, Игорь Салий, пан Мирослав Гнатюк из Пядыков. Все хорошие люди, все члены УХС — те, что прошли, как и республиканцы.
В 1999 году я завершил обучение в Экономико-промышленном институте города Черновцы, юрист, поступил туда по рекомендации Левко Лукьяненко. В августе 1999 года вступил в Национальный союз писателей Украины. С 1992 года член Национального союза журналистов Украины.
Потом меня избрали депутатом второго демократического созыва, 1994-98 годы. И я, возможно, был бы депутатом и третьего созыва, если бы не замахнулся на большее, считая, что уже имею какой-то опыт, — на депутата областного совета, потому что были определённые городские интересы в области. Но я не прошёл. Это не так страшно: там есть наши люди, они работают. Когда были выборы главы города, мы вызвали Игоря Довганюка на переговоры и сказали, что делаем ставку на него, поскольку у нас не было своей кандидатуры от Республиканской партии. Я работал в городском Совете в отделе внутренней политики. Я главный специалист при горисполкоме, ныне работаю консультантом в этом отделе. Вот такая моя политическая карьера.
За это время я издал семь книг: четыре поэзии и три прозы. Поэзия: «Подорож червоного у синьо-жовте» (1992), «Панас Заливаха» (1992), «Скиби волі» (1995), «Вусатий місяченько» (2000). Проза: «Мста» — историческая повесть о борьбе местного населения с печенегами, времён XIV в. (1994); «Тернистими шляхами» — повесть о связной ОУН-УПА Марии Иванюк, 2000 г.; «Кроваві перехрестя» — первое издание 2002 г., второе — 2003. Это исторический очерк о связной ОУН-УПА Юстине Качурак. Сейчас подготовлена к печати биографическая книга «Тарас Мельничук». Готовлю большую повесть со времён ОУН-УПА. Статьи и отдельные произведения были опубликованы в газетах и журналах. Отдельный цикл стихов-верлибров «Фреска року» был в журнале «Визвольний шлях». Часть цикла стихов «Молитви Довбуша» по рекомендации Ирины Калинец была опубликована в самиздатовском журнале под редакцией В. Черновола «Украинский вестник», из которого перепечатал альманах для молодёжи США «Авангард». Были публикации в журналах женских организаций Австралии.
В 1998 году за произведения «Панас Заливаха» и «Скиби волі» мне присуждена литературная премия имени Тараса Мельничука, в 2002 году за сборник стихов «Молитви Довбуша» — премия имени Олексы Довбуша. Её учредила Коломыйская организация Союза политзаключённых и репрессированных. В 2003 году за общественную, политическую и литературную деятельность присуждена литературная премия имени Леся Грынюка — писателя и публициста.
ОТВЕТЫ ДМИТРИЯ ГРЫНЬКИВА на дополнительные вопросы, которые задал Евгений Сверстюк.
25 сентября 2005 года
1. Что Вам дал тот новый мир и те новые люди, с которыми Вы встретились в лагерях?
Это действительно для меня и, бесспорно, для моих подельников, был новый мир, который мы в лагере называли «малой зоной», потому что пришли туда из «большой зоны». Там люди были как на ладони, и этот микромир ещё раз мобилизовал меня на то, чтобы я не потерял чести, чтобы я перед теми людьми, которые в разное время были репрессированы зверской системой, не выглядел хуже. Я понял, что в этом мире большинство людей было заключено не за уголовные деяния (убийства, зверства, насилие), а только за свои УБЕЖДЕНИЯ и ПРИЧАСТНОСТЬ к определённым событиям, а убийства и другие уголовные преступления — это касается только отдельных осуждённых.
Мне больше импонировали люди, сидевшие за повстанческое движение ОУН-УПА, и те, что из обоймы шестидесятников. Я радовался тому, что здесь, в лагере, встретил людей, которые с оружием в руках пошли в леса, пошли в сотни и откровенно защищали свой народ, свой край. Они умели об этом рассказать, что это была не какая-то личная обида или борьба за свои интересы — это была борьба за идею, которая начиналась правилом-клятвой «Добудешь Украину или сгинешь в борьбе за неё».
Увидев в лагере этих стойких, героических людей, я ещё раз убедился, что выбрал правильный путь. Я на все времена буду благодарен Богу, что определил мне то время, когда я встретился с ними. Это дало мне возможность глубже понять мой поступок, и если были где-то сомнения (а у кого их не было?), то я с радостью заметил, что они исчезают.
Второй важный фактор для более широкого познания своих деяний — я увидел там людей, близких мне тем, что они, как и я, даже имея лучшие должности, высший интеллект — писатели, поэты, критики и учёные — шестидесятники, которые шли на шаг впереди нас, взялись за продолжение того благородного дела — борьбы за самостоятельную Украину с помощью слова. Я несказанно обрадовался, потому что убедился, что слово является ещё большим оружием, чем стрельба.
Встреча с такими людьми утвердила моё убеждение в правильности моего выбора, я радовался, что Бог открыл мне глаза.
2. О ком из тех людей и что Вы хотели бы рассказать?
Конечно, обо всех здесь не расскажешь, потому что их было много. Я расскажу о встречах с теми, которых я больше всего уважал и стремился с ними общаться.
Это целая плеяда, ряд знаменитых в прошлом и теперь националистов-патриотов — Левко Лукьяненко, Иван Покровский, Николай Курчик, Андрей Турик, Евгений Сверстюк, Олекса Ризныкив, Тарас Мельничук, Василий Лисовый, Игорь Калинец. Иван Свитлычный, Валерий Марченко, Кулак, Григорий Приходько, Роман Гайдук, Степан Сапеляк, Анатолий Здоровый, Николай Слободян, А. Бернийчук и другие.
Я общался и с теми, кто не был причастен к движению за обретение независимости Украины. Это были люди других национальностей. Из литовцев больше всего запомнились молодые ребята, боровшиеся за независимость Литвы — Пятрас Плумпа, Жукаускас и Баранаускас, Юркштас, Маркунас.
Из латышей — Плейшс, Ритиньш, Гунар Астра.
Из евреев — Семён Глузман, Марк Дымшиц, И. Менделевич, Израиль Залмансон, Д. Черноглаз, Макаренко.
Из армян — Ашот Навасардян, Меликян.
Из русских — Строганов, Витольд Абанькин, Давыдов, Чеховских, Виктор Пестов.
Коротко остановимся на отдельных ярких, по моему мнению, личностях.
Левко Лукьяненко меня поразил своей последовательностью и несокрушимостью духа. Собственно, в лагере он был нашим отцом и аккумулятором движения за свои права. Как юрист он умел в условиях заключения взвешенно и смело повести за собой людей (пример забастовки в 1974 году, когда я и другие заключённые выразили протест против избиения Степана Сапеляка), мог дать совет в ситуации, где надо было использовать право. И вообще его дело о создании подпольной организации было родственным нашему, потому что и мы создавали организацию, я считал себя последователем того дела, которое начал он.
Евгений Сверстюк — человек высокой чести и морали. Его могучий интеллект произвёл на меня большое впечатление, потому что я тяготел к литературе, к писательству. Я благодарю Бога, что свёл меня с ним. Я ещё больше погрузился в литературу. Общаясь с ним, я убедился, что слово — это то оружие, которым надо отстаивать себя и права других. Я начал жить в новом мире и сильнее полюбил слово.
От Сверстюка я черпал знания не только об известных писателях-украинцах, но и о мирового уровня писателях, которые были объединены любовью к творчеству. Е. Сверстюк открыл мне глаза на философию. Я впервые познакомился с выдающимися философами мира, изучал их труды, начиная от Платона, Аристотеля, Ф. Бэкона, Спинозы, Фомы Аквинского и других, и заканчивая славным Григорием Сковородой.
Игорь Калинец поразил меня своим знанием искусства. Он, как никто другой, умел так рассказать о мировой живописи, что я не заметил, как втянулся в это богатейшее море. Хорошо, что в лагере была «История мирового искусства». Я изучал её с большим вдохновением, вникая в мир творцов итальянского Возрождения вплоть до Кватроченто, в мир французского импрессионизма...
Игорь Калинец, видя, что мы тянемся к искусству (я и мои друзья были моложе на десять лет его), читал нам своеобразные лекции не только о живописи, но и о поэзии. Это были незабываемые времена!
Никогда не ожидал, что буду общаться с философом, а такое случилось. Василий Лисовый был укоренён в украинскую духовную сферу. Он объяснял так замысловато, что мне казалось, что я долго буду учить эти новые для меня философские термины и понятия, которыми он пользовался. Я снова и снова перечитывал его отдельные труды, и должен признать, что не всё я тогда понимал, но пришёл к выводу, что это был высокообразованный человек, заслуживавший уважения.
Андрей Турик, один из повстанцев УПА, искренний и откровенный со мной, привлекал своей осанкой и решительностью. В его высказываниях и действиях я чувствовал какую-то непостижимую силу. Он поразил меня своим авантюризмом и смелостью. Рассказывал мне длиннющие истории о наших повстанцах, которые убегали всевозможными способами из лагерей и тюрем. Я слушал о подкопах под колючими проволоками «запреток», о побегах через вывоз стружки и пиломатериалов из рабочей зоны, через стоки воды из лагеря и другие способы, и меня брала зависть к тем, кто так смело брался за те дела, которые в большинстве были обречены на провал.
Собственно, Андрей Турик подбил меня вот на какую авантюру. Через почтальона, жену отрядного Беляева, я передал на волю несколько писем от него и несколько групповых писем (это были письма к тем людям, которые уже были на воле и с которыми Андрей Турик стремился наладить контакт, сообщалось в них о нашем существовании и условиях содержания). Это был нешуточный риск, но по своей молодости я шаг за шагом вёл с почтальоном такие разговоры, чтобы её доверие (а она была украинкой из Харькова) укреплялось. Не знаю, удалось ли мне убедить её в том, что нам нужна её помощь и что она делает доброе дело, но знаю, что к А. Турику приходили вести от тех, к кому мы через неё обращались.
Мы с Туриком написали пространное письмо — обращение к людям доброй воли о том, что мы, украинцы, боремся за Самостоятельную Украину, опираясь на конституционное право на самоопределение, что нас уже больше, потому что есть новая волна борцов — так называемых диссидентов. Андрей Турик сказал мне, чтобы я подписал это письмо-обращение такими уважаемыми именами, как Левко Лукьяненко, Валентин Мороз, Василий Романюк, Евгений Сверстюк, Вячеслав Черновол, своими фамилиями и многими другими. Это было интересно и, в то же время, для меня неожиданно, потому что я сомневался, хорошо ли мы делаем. Он умел меня убедить, что хорошо, и для того, чтобы я не переживал, сказал сакраментальную фразу: «Дмитрий, я с ними всеми общался и у нас есть особая договорённость: все письма к правительствам демократических государств подписывать доверенными и убеждёнными националистами, если сами они и не присутствуют».
Тарас Мельничук за чашкой крепкого чая раскрывался в своих стихах — он умел находить всё новые и новые слова, вязанку которых вплетал в свои стихи. Те слова были для меня тогда неожиданными, но в то же время и такими, которыми я восхищался. Из его стихов дышала на меня вся Украина — от Карпат аж за Днепр. Тарас со своим максимализмом, стремлением свою творчество вынести за тот лагерный мир, был не воспринят отдельными политзаключёнными. Я жалел его и хотел всё это понять, а Олесь Сергиенко, который тоже был крутого нрава, сказал мне, что Тарас думает, что его произведения должны в первую очередь передаваться из малой зоны в большую, поэтому он такой неуступчивый.
Я вникал в тот лагерный мир через взаимопонимание с разными людьми и чувствовал, что от общения с ними я обогащаюсь духовно, и это меня радовало. О многих людях можно писать отдельные книги — это была бы неоценимая услуга для грядущих поколений. Я так проникался этим общением, что это заметил как-то Евгений Сверстюк, который занимал нижнее место двухъярусной кровати, а я второе. Как-то утром говорит мне: «Вы во сне разговариваете. Знаете, что вы говорили? Размышляли вслух о философии, об исчезновении настоящего времени и говорили о существовании прошлого и будущего...»
Поэт Олекса Ризныкив был одним из тех, кто в лагере стремился, как и мы все, научиться от людей чему-то нужному и новому. Каждую минуту свободного времени он отдавал изучению литовского языка и вместе с литовцами перевёл произведения Марцинкявичюса, других поэтов. Он любил общаться с теми, кто ценил слово и находил новые словосочетания, а этим хорошо владел Тарас Мельничук. Они долгими часами ходили за бараками и соревновались в словотворчестве. Если бы можно было те беседы законспектировать — было бы что изучать исследователям!
Гриць Герчак, родом с Тернопольщины, вызывал у меня чувство радости и грусти. Его энкаведисты заключили ещё молодым парнем во время акций по истреблению, как они говорили, «банд националистов». Я радовался тому, что он не сломался и не пал духом. В лагере он производил впечатление довольно уравновешенного и умного человека. И грустил я потому, что ему, как и другим воинам УПА, пришлось всю свою молодость, потратить в советских тюрьмах. Видно было, что много своих знаний он приобрёл уже в лагерях — научился играть на гитаре, выучил нотную грамоту и владел ею безупречно. Овладел искусством живописи, особенно графикой. Он мог карандашами выполнить портрет, а особенно ему удавались малые виды рисунков — экслибрисы. Тем заключённым, которых он уважал и с которыми общался, изготавливал экслибрисы из кусков резины или линолеума (что попадалось в производственной зоне). При мне он изготовил экслибрисы Евгению Сверстюку — это был сеятель, идущий по пашне и сеющий зерно. С надписью — «Я на вбогім своїм перелозі буду сіять барвисті квітки» (Леся Украинка). Сделал экслибрисы Степану Сапеляку, Богдану Черномазу (из Умани), Олексе Ризниченко — казак Мамай, сидящий у коня; Юрию Дзюбе (г. Харьков) — причудливого кота; мне — усатого опришка в киптаре и в шляпе с орлиным пером и с горами, поросшими елями. Безупречно владел польским языком. Во время одной из акций освобождения поляков после переселения украинцев из Польши и возвращения поляков на свои этнические земли Гриць имел возможность освободиться как поляк, но не сделал этого, потому что считал себя истинным украинцем. Я с ним общался довольно тесно. Он в определённый период овладел многими элементами физической и духовной йоги, умел хорошо маскировать от обысков статьи по национальному вопросу, конспектируя их латинскими буквами. Такие тексты прапорщики при обысках не могли прочитать и, бывало, не забирали, хотя бывали обыски, касавшиеся чего-то очень крамольного, тогда это не проходило.
В лагере я познакомился с участником подполья Дмитрием Палийчуком, у которого был срок 25 лет. Родом из Космача, что на Ивано-Франковщине. Он не очень много о себе рассказывал, но и из тех скупых рассказов я узнал, что он был ординарцем-адъютантом у проводника Хмары, слава о котором гремела на все Карпаты. Уже немолодой Дмитрий Палийчук придерживался идеального порядка в быту: всегда был опрятно одет и в начищенных сапогах или ботинках, выглядел так, будто каждый день у него был праздник. Глядя на него, я представлял себе целые сотни в лесах, в тех тяжёлых условиях, когда и в дожди, и в снега ребята были не только морально стойкими, но и подтянутыми, следили за собой — даже одежда играла большую роль (а сейчас даже посреди Киева увидишь небрежно одетых молодых людей). Дмитрий Палийчук работал на кухне, часто стоял на раздаче обедов или завтраков. Так умел половником наливать суп или другие блюда, особенно если в них плавали куски каких-то сухожилий или мясной плёнки со скота, то это оказывалось в миске, если видел знакомые лица. Когда я спросил его, зачем он подбрасывает в мою миску эти куски, он сказал мне: «Ты ещё молодой, надо чтобы физически себя закалял». После освобождения где-то в 1980-81 годах он умер в Космаче.
Передо мной и сейчас стоят добрые и сильные личности, причастные к благородному подпольному движению ОУН-УПА. Николай Курчик с Ровенщины (с ним я переписывался после освобождения), Николай Генык — стрелок из сотни Мороза из Березовов, Дмитрий Солодкий и Павел Строцень (оба с Тернопольщины). Кстати, в лагере было заведено так, что старшие заключённые, которые длительное время находились в неволе, брали под опеку своих земляков. Это было правилом, и я пользовался расположением участников подполья, родом из Карпат, с Ивано-Франковщины. Хотя я общался и с участниками подполья из других областей. Помню, что вёл разговоры с высоким ростом участником боёвки со Львовщины Владимиром Олийныком по псевдо «Голодомор». Когда мы забастовали и больше недели не выходили на работу, он подошёл ко мне и тихо сказал: «Дмитрий, это мало что даст — они не одних сломали. Тут уже трудно что-то доказать, но мне просто жаль вас, таких молодых, потому что они намерены всех нас истребить». Не помню, кто мне сказал, что он в лагерях уже сдался и не очень поддерживал подобные акции.
Богдан Чуйко, руководитель боёвки СБ с Калущины на Ивано-Франковщине, во время встречи со мной сразу спросил меня, откуда я. Как я был удивлён, когда он вдруг заметил: «В вашем селе есть большое приметное кладбище — там похоронен подпольщик Орлик. Данные о его гибели я перечитывал в донесениях связных с ваших территорий». Богдан Чуйко был уже в почтенном возрасте. У него была привычка писать в разные инстанции о судебной расправе над ним. Помню, что Левко Лукьяненко имел долгие беседы с ним и даже перечитывал его обращения и делал юридические правки.
Но едва ли не больше всего меня поразил Василий Федюк, родом из села Кийданцы на Коломыйщине. Общаясь с ним, я узнал, что он заключён уже во второй раз. Первое заключение отбыл как рядовой стрелок под румынской фамилией и как румынский подданный за участие в подполье, а второе заключение уже отбывал как территориальный руководитель Косовщины и Коломыйщины. У него был псевдоним «Курява», и во времена подпольного сопротивления он был причастен к формированию сотен в Карпатах и принадлежал к высшему руководящему составу ОУН-УПА. Рассказывал мне о том, как на допросах его пытали следователи, били нагайками и шомполами так, что кровь стекала со спины, а поскольку он был в военном галифе, то она собиралась в кровавые тёмные засохшие сгустки под коленями. О себе не рассказывал, придерживаясь правил подполья. Точно знал расположение сёл, их названия и помнил названия отдельных потоков, горных массивов, уголков в разных сёлах, чем не раз удивлял меня. Я не мог сообразить, как он мог всё это выучить. Сам Василий Федюк, улыбаясь, говорил, что все эти места, о которых с такой любовью рассказывал, он обошёл собственными ногами и мог описать расположение тех домов, где ему приходилось останавливаться как территориальному руководителю на постой по поручению провода.
В лагере я иногда общался, хоть и совсем мало, с М. Кулаком, который после войны ушёл в подполье и действовал в одиночку, отстреливая красных захватчиков, где только мог. Он не рассказывал о себе, но был очень упрям. Научился играть на баяне и долгими часами играл мелодию «Розамунды». Надо было видеть его мечтательное лицо во время исполнения этой мелодии — казалось, что его в лагере нет, что он улетел куда-то далеко. О нём говорили, что когда разговаривал с представителями КГБ, то на вопрос высших чинов, будет ли он брать в руки винтовку и стрелять в представителей власти, отвечал утвердительно, и будто это давало основания удерживать его в лагерях бесконечно. У него было ещё два брата — один из них оказался после подполья в Австралии, а второй в Сибири. Тот второй брат, что в Сибири, после заключения женился на какой-то бурятке. Это так разозлило Кулака, что он отказался от общения с братом, потому что считал, что брат нарушил священный принцип: дети будут уже не украинцами, а плодить мамлюков негоже. Приходили ему какие-то посылки от брата из Сибири, но он их не брал, а от брата из Австралии получал письма. Ещё говорили о его твёрдом характере такое: чтобы его не мучила мужская сила, он гвоздём пробил себе мочевой пузырь, повредил себя, чтобы у него не пробуждалось желание к женщинам.
Из соседнего лагеря прибыли Иван Свитлычный, Игорь Калинец, Валерий Марченко, Семён Глузман, а ещё немного раньше Дмитрий Басараб. Этот довольно коренастый дядька, с весёлым взглядом, сразу понравился мне, и мы с удовольствием общались. По его рассказам я даже написал несколько новелл. А Олесь Сергиенко устроил такой конкурс-соревнование: кто лучше опишет рассказ Дмитрия Басараба о птичке крапивнике. Я взялся писать новеллу, а он — стихи. Вышло так, что мы оба довольно хорошо это изобразили, и каждый был ведущим в своём жанре. Дмитрий Басараб увлечённо рассказывал о боевых операциях, как он, будучи пулемётчиком сотни Гриня, на территории Закерзонья был именно в том бою, где убили польского генерала брони Кароля Сверчевского. Он так рисовал фрагменты боёв и столкновений с объединёнными войсками НКВД и польскими, что казалось, будто ты сам видишь этот бой и становишься его участником. Позже, после освобождения, мы переписывались.
О Валерии Марченко я знал ещё до встречи с ним и очень удивился, когда встретился лицом к лицу. Я представлял его себе интеллигентным молодым журналистом с тонкими чертами лица, а тут появился высокий молодой человек с несколько массивным подбородком, большими голубыми глазами и искренней улыбкой. Рассказ о своём деле он умел так закрутить, что всё в его действиях казалось сделанным как-то в шутку и случайно. Его знание языка удивляло. Не все могли понять, почему этому журналисту пришёлся по душе азербайджанский язык.
Иван Светличный, услышав, что я занимаюсь французским языком, дал мне сборник французских поэтов, чтобы я перевёл что-нибудь на свой выбор. Я взялся переводить Теофиля Готье и Поля Верлена. Что-то удалось перевести о весне из Теофиля Готье, что было хорошо воспринято Иваном Светличным. Правда, он советовал мне писать прозу. К этому же склонял меня и Игорь Калинец. Оба они пришли к выводу, что я очень хорошо пишу новеллы, что в прозе я гораздо сильнее, чем в поэзии.
Степан Сапеляк был из группы ребят с Тернопольщины, которые, как и мы, были осуждены в 1973 году. Он учился во Львове, где и был арестован, тоже писал стихи. Он увлёкся верлибром и довольно хорошо овладел этим стилем. Он иногда читал эти стихи и защищал своё понимание тех или иных образов.
Из диссидентов-армян больше всего мне запомнился Ашот Навасардян, молодой парень, который связал свою судьбу с армянскими националистами и состоял в группе, подпольно боровшейся за независимую Армению. Общаясь с украинцами, особенно с нами, младшими, Ашот откровенно восхищался нашими усилиями в борьбе за независимость Украины, но в то же время говорил, что «если бы не украинцы, то многие республики вышли бы из Союза». Я спрашивал его, почему он так думает, а он признался, что обижен на украинцев, потому что такая большая нация, а не борется за своё освобождение, а только отдельные люди и группы, как мы. Говорил, что с помощью украинцев органы большевистской системы подавляли нацменьшинства в СССР и что украинцы помогали строить в СССР коммунизм, что они подняли всю Сибирь. Меня лично такие выводы очень поразили, но этот факт в определённой мере был очевиден.
Ашот пел вместе с нами украинские песни, а мы с ним — армянские. Оказалось, что мелодии наших гуцульских песен, а особенно танцев «аркан» и «гуцулка», очень похожи на мелодии армянских танцев. Ашот сделал вывод: это потому, что мы горные народы. Гуцулы живут в горах — и армяне из гор, а такая мелодика свойственна горным народам.
Литовец Пятрас Плумпа удивлял нас своей твёрдой верой в Бога. Его ежедневные разговоры о небесной и вечной жизни давали нам утешение и вселяли надежду, что неволя не может поколебать веру человека, что вера, если она сильна, делает человека свободным и счастливым в своём внутреннем мире. Именно Плумпа собирал нас нескольких человек: меня, Романа Чупрея, Николая Мотрюка, Дмитрия Демидова, Степана Сапеляка, Владимира Сенькива для общей молитвы. Это была своего рода небольшая воскресная служба Божья, где Плумпа брал на себя обязанности священника и проводил молитву. Помню, что «Отче наш» мы вместе читали даже на латыни, а Дмитрий Демидов выучил «Отче наш» на латыни наизусть и декламировал его всем нам.
Я и позже общался с Плумпой, после освобождения — переписывался с ним на французском языке, потому что Плумпа, не зная украинского языка, на русском сознательно не хотел этого делать, а поскольку я изучал французский, который он хорошо знал, то мне приходилось отвечать на его письма на французском языке.
Конечно, можно было бы написать о многих политических заключённых лагеря № 36, где я отбывал наказание, но эта тема требует более широкого освещения и отдельного издания, что я, с Божьей помощью, надеюсь осилить.
3. Кто и какие зёрна уронил в Ваши души и чем они проросли?
Вопрос, на который невозможно ответить кратко, но я вынужден хотя бы тезисно его охватить.
Разнообразие заключённых по национальной принадлежности убедило меня, что не только украинцы борются за своё освобождение от коммунистической системы, но и почти все представители союзных республик. И именно защита национального, своего самобытного лица убедила меня, что национализм — это нечто святое и крайне необходимое тому народу, который стремится выжить и существовать.
Подвиг патриотов, воевавших в УПА, которых я видел в лагере и с которыми я общался, внутренне окрылил меня. Я осознал, что их путь — это мой путь, и нужно бороться за Украину всеми средствами. Если в них, борцах, которые вели вооружённую борьбу, я видел гигантов духа, то уже в людях, арестованных за убеждения в семидесятые годы (Е. Сверстюк, И. Светличный, И. Калинец, О. Сергиенко, О. Ризниченко, Т. Мельничук, В. Марченко), которых я воспринимал как родных, я видел тех, кто вдохновлял меня на повседневную работу над словом. Именно эта вторая плеяда заключённых учила меня ценить Слово и применять его как оружие.
Все эти наставления и даже рассказы об их борьбе вселили в меня убеждение, что я принял правильное решение, и я молил Бога, чтобы Он дал мне силы для борьбы с сатанинским безбожным режимом.
4. Какой дух вы вынесли из неволи в послелагерную атмосферу травли? Что грело ваши сердца?
Из лагеря я вынес дух твёрдости в своих намерениях — бороться словом и не уступать врагам, а своим поведением в обществе доказать всем, что украинцам нужны единство и понимание своего национального достоинства, как у нас на Гуцульщине говорили — «иметь свой гонор». Для этого я общался с молодёжью и вёл разговоры об Украине, а потом начал думать о печатном слове (выпускал альманахи «Горные зарубки» — вышло семь альманахов, восьмой в очень малом объёме) и «Предрассветные огни» — вместе с Василием Сичко удалось издать только два номера).
Моё сердце согревала вера в то, что мечта о независимой Украине всё-таки осуществится, что Украина будет. Иногда, когда я работал на заводе «Сельмаш» в Коломые, закрадывалась мысль, что люди ещё не готовы к общему выступлению, к большому сдвигу в борьбе за своё освобождение, но сердцем и душой я укреплялся в вере в независимую Украину. Анализируя события мирового значения, я убедился, что национально-освободительное движение в мире распространяется и мы, украинцы, тоже придём к нему. Это случилось в 1990 году, а уже в 1991-м мы избавились от проклятого засилья коммунистического режима. Этого я не мог предвидеть, потому что всё-таки думалось, что всё это произойдёт позже.
5. Какой негативный опыт вынесли вы из неволи? Не жалеете ли о потерянном?
Очень горько мне было видеть в лагере, как отдельные люди вели себя недопустимо и становились прислужниками (это касается обслуги и помощников отрядных). Я сознательно не называю те фамилии, потому что некоторые из них ещё живы — Бог им судья.
Негативный опыт я вынес ещё и такой: в лагере были отдельные украинцы, которые общались со свидетелями Иеговы. Это религиозное течение через границы проникло со своими журналами «Башня стражи» и листовками из США и даже пробралось за колючую проволоку. Позже я понял, что верования свидетелей Иеговы для украинцев губительны, так как в этой секте не поддерживается национальный дух, теряются украинские традиции. И действительно, они, свидетели Ежова, не хотят, чтобы им колядовали, не принимают участия в государственных процессах (противники выборов, собраний, вече и т. п.).
Я знал в лагере нескольких украинцев — свидетелей Ежова. Жаль, что они и на свободе не избавились от этого.
О потерянных годах я совсем не жалею, потому что именно в лагере я глубже познал основные идеологические принципы национальной идеи и окончательно определился в правильности жизненного выбора. А сейчас я ещё раз подвожу к тому тезису, что если бы не неволя в те годы, то не даю полной гарантии, познал ли бы я себя настолько, насколько я теперь знаю самого себя.
6. Какие надежды вы возлагаете на будущее в связи со сменой власти в Украине?
События, произошедшие во время Оранжевой революции, ещё раз доказали, что украинцы умеют и могут бороться за свои права, но не всегда умеют довести доброе дело до конца.
Слабость украинцев — в выборе власти. Мы всё ещё слепо верим в добрые и правильные идеи руководителей, а это нас губит. В наше доверие может втереться чужак и враг, что нехорошо, и как раз на этом поле нам ещё долго работать, чтобы выполоть с нашего национального поля чужаков, у которых есть свои государства. Им не нужно давать ни власти, ни руководящих должностей в Украине.
Власть должна быть националистической, в первую очередь для самих себя, и такую власть примет народ.
Справки о лицах и реалиях, упоминающихся в интервью Дмитрия Гринькива.
Антонив Елена, 17.11.1937 – 2.02.1986. Участница движения шестидесятников, правозащитница. Жена В. Черновола, затем З. Красивского.
Аресты 12 января 1972 года — акция КГБ, направленная против украинского самиздата, в результате которой основные его авторы и организаторы были арестованы.
БУР — «барак усиленного режима», то же, что и ПКТ — «помещение камерного типа». На строгом режиме наказывали им до 6 месяцев, на особо строгом — до года.
Возняк (Лемык) Люба, род. 30.09.1915 г. Крыница Новосончевского повята. 4 августа 1941 г. вышла замуж за Николая Лемыка. Свидетелем был Степан Бандера. По заданию ОУН работала в Кременчуге, Полтаве, Харькове. Арестована НКВД 22.12.1946 г. во Львове. Следствие велось в Киеве на ул. Короленко, 33. Осенью 1948 г. приговорена к смертной казни с заменой на 25 лет заключения. Отбывала наказание в Мордовии, в Норильске, освобождена в 1956 г. Проживала в Таганроге, Анжеро-Судженске, с 1968 г. — в Ивано-Франковске. Участвовала в правозащитном движении 60–90-х гг.
Всеукраинское общество политических заключённых и репрессированных создано 3.06.1989 г. в Киеве на Львовской площади. Бессменный председатель — Евгений Пронюк.
Гайдук Роман, род. 1937 г. Арестован в марте 1974 г. на Ивано-Франковщине. 5 лет заключения, 3 года ссылки. Отбывал заключение в Пермских лагерях.
Германюк Богдан, род. 20.08.1931, лидер «Объединённой партии освобождения Украины», Ивано-Франковщина. Осуждён 4.12.1958 на 10 лет. Ныне живёт в Коломые.
Глыва Владимир, род. 1926 г., повстанец, политзаключённый в 1949–1977 гг.
Гнатюк Иван, род. 27.07.1929. Арестован 27.12.1948, осуждён на 25 лет, освобождён 6.02.1956. Писатель, лауреат премии им. Т. Шевченко 199... г.
Горбаль Николай, род. 10.09.1940, осуждён 13.04.1971 по ст. 62 ч. 1 на 5 лет и 2 года ссылки, второй раз — 23.10.1979 на 5 лет, третий раз — 10.10.1984 на 8 лет и 5 лет ссылки, освобождён 23.08.1988. Член УХГ, писатель, музыкант, народный депутат Украины II созыва.
Демидов Дмитрий Ильич, род. 03.12.1948 в с. Печенежин Коломыйского р-на Ивано-Франковской обл. Член «Союза украинской молодёжи Галичины» (1972). Арест. 4.04.1973. По ст. 62 ч. 1 («антисоветская агитация и пропаганда»), 64 («участие в антисоветской организации»), 223 ч. 2 УК УССР («похищение оружия») приговорён к 5 годам лагерей строгого режима. Отбывал наказание в Пермском лагере ВС-389/36.
Дзюба Иван — род. 26.07.1931, один из лидеров шестидесятничества. Автор книги «Интернационализм или русификация?» (1965). Арестован 18.04.1972, осуждён по ст. 62 УК УССР к 5 годам лагерей и 5 годам ссылки. В октябре 1973 года обратился в Президиум Верховного Совета УССР с прошением о помиловании. Освобождён 06.11.1973. Литературный критик, академик НАНУ, министр культуры Украины в 1992–1994 гг., лауреат премии им. Т. Шевченко 1991 г., Герой Украины.
Добош Ярослав. Член Союза Украинской Молодёжи Бельгии. Как турист под новый 1972 г. приехал в Украину. Его арест 4.01.1972 как «эмиссара зарубежных националистических центров» положил начало очередной волне репрессий против украинской интеллигенции. Освобождён 2.06.1972 и выдворен.
ДОСААФ — «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту». Организация, созданная властями для подготовки молодёжи к службе в Советской Армии.
Заливаха Афанасий, род. 26.11.1925, осуждён в сентябре 1965 г. по ст. 62 ч. 1 на 5 лет. Отбывал наказание в Мордовских лагерях. Художник, лауреат Шевченковской премии 1995 г.
Здоровый Анатолий, род. 1.01.1938, научный сотрудник. Осуждён в Харькове 22.06.1972 г. по ст. 62 ч. 1 на 7 лет. Отбывал наказание в Пермских лагерях.
Калинец Игорь, род. 9.07.1939, осуждён 11.08.1972 г. по ч. 1 ст. 62 на 6 лет и 3 года ссылки. Поэт, лауреат Шевченковской премии 1991 г.
Калинец Ирина, род. 6.12.1940, осуждена 12.01.1972 по ст. 62 ч. 1 на 6 лет и 3 года ссылки. Поэтесса, народный депутат Украины I созыва.
Квецко Дмитрий, род. 1935 г., лидер Украинского национального фронта, осуждён в 1967 г. на 15 лет и 5 лет ссылки. Отбывал наказание в Мордовии, в Пермской обл., в Сибири.
Кичак Игорь, род. 12.12.1930, осуждён 28.01.1951 на 25 лет, отбыл 8. Второй раз — 9.04.1960 на 10 лет.
Косив Михаил, род. 28.12.1934. Арестован по ст. 62, ч. 1 27.08.1965 г., освобождён 6.03.1966. Участвовал в издании журнала «Украинский вестник» (1970–1972). Искусствовед, народный депутат Украины I–IV созывов.
Крайник Николай, род. 20.04.1935 г., учитель из с. Солуков Долинского района. Участник Украинского Национального Фронта, осуждён 8.10.1979 по ст. 62 ч. 1 и 64 на 7 лет и на 3 года ссылки. Отбывал наказание в Пермских лагерях.
Красивский Зиновий, 12.11.1929 – 20.09.1991, политзаключённый в 1948–1953, 1967–1978, 1980–1985. Член-основатель Украинского Национального Фронта (1964–1967), член Украинской Хельсинкской Группы.
Курчик Николай, род. 1927, повстанец, аресты 1946, 1954.
Лемык Николай, 1914–1941, боевик ОУН. Участвовал в покушении на Майлова — руководителя большевистского консульства во Львове в 1933 г. в знак протеста против организованного большевиками голода на Украине. В 1941 г. как организатор походных групп ОУН на Восточную Украину повешен немцами.
Лесив (Сокульская) Орыся, сестра политзаключённого Ярослава Лесива, она же жена п/з Ивана Сокульского.
Лесив Ярослав, 3.01.1943 – 19.10.1991. Осуждён как член Украинского Национального Фронта 29.03.1967 по ст. 62 ч. 1 и 64 на 7 лет, второй раз — 15.11.1979 на 2 года, третий раз — в мае 1981 на 5 лет. Член Украинской Хельсинкской Группы, священник, поэт.
Лукьяненко Левко, род. 24.08.1928, осуждён 20.01.1961 на 15 лет по ст. 56 и 62 ч. 1 за создание Украинского Рабоче-Крестьянского Союза, второй раз — 12.12.1977 по ст. 62 ч. 2 на 10 лет и 5 лет ссылки как член-основатель Украинской Хельсинкской Группы. Освобождён в декабре 1988 г. Председатель УХС, УРП, посол Украины в Канаде, народный депутат I–IV созывов.
Марусик Пётр, род. 22.12.1936 в с. Белелуя на Ивано-Франковщине. Поэт, публицист, общественный деятель. Умер в 2000 г. (?).
Мельничук Тарас (20.08.1938 – 29.03.1995. Осуждён 24.01.1972 по ст. 62 ч. 1 на 3 года, второй раз — в январе 1979 по ст. 207 («хулиганство») на 4 года, лауреат Шевченковской премии 1992 г.).
Мороз Валентин Яковлевич, род. 15.04.1936, историк. Арестован в сентябре 1965 г., 4 года по ст. 62 ч. 1; второй раз — 1.06.1970, по ч. 2 ст. 62 на 9 лет лагерей особо строгого режима и 5 лет ссылки. 29.04.1979 г. освобождён и выдворен в США. Ныне преподаватель Львовского института физкультуры.
Мороз Раиса, род. 1.04.1937 г. в Донецкой области, гречанка. В 1955–1960 училась на ф-те иностранных языков Львовского ун-та. В 1958 г. вышла замуж за Валентина Мороза. Учительствовала на Волыни, в Ивано-Франковске, неоднократно уволена с работы за защиту мужа. Р. Мороз с сыном Валентином прибыла в Нью-Йорк 24.07.1979. Готовила к печати украинский самиздат.
Мотрюк Николай Николаевич, род. 20.02.1949 в с. Казанов Коломыйского р-на Ивано-Франковской обл. Член «Союза украинской молодёжи Галичины». Арест. 15.03.1973, осуждён по ст. 62 ч. 1 («антисоветская агитация и пропаганда») и 64 («создание антисоветской организации») к 4 годам заключения. Отбывал наказание в лагерях Пермской обл.
Осадчий Михаил Григорьевич, род. 22.03.1936 в с. Курманы, Недригайловского р-на, Сумской обл. В 1958 г. окончил факультет журналистики Львовского университета. Защитил диссертацию о творчестве Остапа Вишни. Осуждён 28.08.1965 по ст. 62 ч. 1 на 2 года. Отбывал наказание в Мордовии. За роман «Бельмо» второй раз арестован в январе 1972, по ст. 62 ч. 2 приговорён к 7 годам лагерей особо строгого режима и 3 годам ссылки, особо опасный рецидивист. Отбывал наказание в Мордовии. В 1991 защитил докторскую диссертацию в Украинском Свободном университете, с 1993 — доцент кафедры журналистики Львовского университета. Умер 05.07.1994.
ПКТ — «Помещение камерного типа». То же что и БУР.
Покровский Иван, род. 7.09.1921 г., с. Штунь на Волыни. Повстанец. Попал под облаву, был остарбайтером. 7.12.1949 арестован в Барановичах, осуждён «тройкой ОСО» к смертной казни, с заменой на 25 лет. Отбывал наказание в Казахстане (Карлаг, Караганда, Тайшет, Омск). Освободился из Пермских лагерей в 1974 г.
Приходько Григорий, род. 20.12.1937, осуждён 27.12.1973 г. по ст. 70 ч. 1 УК РСФСР на 5 лет, второй раз — в январе 1981 г. к 5 годам тюремного заключения, 5 годам особо строгого режима и 5 годам ссылки. Освобождён 8.07.1988.
Рафальский Виктор, род. 1918 г., заключённый в 1938–1941, 1954–1959, 1962–1964, 1967–1987 гг.
Ребрик Богдан, род. 30.07.1938, осуждён 6.02.1967 на 3 года по ст. 62 ч. 1, второй раз — 23.05.1974 по ч. 2 ст. 62 на 7 лет и 3 года ссылки. Вернулся из Казахстана летом 1987 г. Народный депутат Украины I созыва.
Ризников Олекса, род. 24.02.1937, осуждён 1.10.1959 г. по ст. 7 Закона об уголовной ответственности за государственные преступления к 1,5 годам, второй раз — 11.10.1971 по ст. 62 ч. 1 на 5,5 лет. Писатель.
Розумный Пётр, род. 07.03.1926 г., учитель. Член УХГ с октября 1979 г. Осуждён 08.10.1979 на 3 года по обвинению в незаконном ношении холодного оружия.
Романюк Василий (Патриарх Владимир), 9.12.1925 – 14.07.1995, осуждён в 1944 г. на 20 лет, отбыл 10, второй раз — в январе 1972 по ст. 62 ч. 2 на 7 лет и 3 года ссылки. Отбывал наказание в Мордовии и Якутии.
Романюк Тарас, род. 1959 г., сын Василия Романюка, священник.
Сапеляк Степан, род. 26.03.1952. Член Росохацкой группы, арестован 19.02.1973, 5 лет заключения и 3 года ссылки. Отбывал наказание в Пермских лагерях и в Хабаровском крае. Поэт, лауреат Национальной премии им. Т. Шевченко 1993 г.
Сверстюк Евгений, род. 13.12.1928. Литературный критик, публицист, один из лидеров шестидесятничества. Осуждён 14.01.1972 по ст. 62 ч. 1 на 7 лет и 5 лет ссылки. Отбывал наказание в Пермских лагерях и в Бурятии. Доктор философии, Лауреат Шевченковской премии 1993 г.
Светличный Иван, 20.09.1929 – 25.10.1992. Признанный лидер шестидесятничества. Заключён 30.08.1965 на 8 мес. без суда; второй раз — 12.01.1972 по ст. 62 ч. 1 на 7 лет и 5 лет ссылки. Лауреат Шевченковской премии 1994 г., посмертно.
Сергиенко Олесь, род. 25.06.1932. Осуждён 12.01.1972 по ст. 62 ч. 1 на 7 лет и 3 года ссылки. Отбывал наказание в Пермской обл., в Хабаровском крае.
Симчич Мирослав, род. 5.01.1923 г., командир Берёзовской сотни УПА. Осуждён 4.12.1948 на 25 лет, за участие в забастовке повторно на 25. Освобождён 7.12.1963 г. Без суда 28.01.1968 заключён ещё на 15 лет, к концу срока — на 2,5 года. Всего 32 года 6 мес. и 3 дня неволи. Живёт в Коломые.
Сичко Василий, 22.12.1956 – 17.11.1997. Осуждён в г. Долина 5.07.1979 по ст. 187-1 на 3 года, второй раз — 3.12.1981 по ст. 187-1 ещё на 3 года. Освобождён 7.07.1985. Член УХГ, основатель УХДФ/УХДП.
Сичко Пётр, род. 18.08.1926, осуждён как повстанец 12.02.1947 г. на 25 лет, освобождён 20.03.1957. Второй раз как член УХГ — 5.07.1979 по ст. 187-1 на 3 года, третий раз — 26.05.1982 по ст. 187-1 на 3 года. Живёт в г. Долина.
Сокульская (Лесив) Орыся, сестра политзаключённого Ярослава Лесива, жена Ивана Сокульского.
Сокульский Иван, 13.07.1940 – 22.06.1992. Поэт. Осуждён 14.06.1969 по ст. 62 ч. 1 на 4,5 года, второй раз как член УХГ — 11.04.1980 по ст. 62 ч. 2 на 5 лет тюрьмы, 5 лет особо строгого режима и 5 лет ссылки, третий раз — 3.04.1985 на 3 года, освобождён 2.08.1988.
«Союз украинской молодёжи Галичины» (СУМГ) — подпольная молодёжная организация. Возникла в январе-феврале 1972 в с. Печенежин Коломыйского р-на Ивано-Франковской обл. Инициатором создания Союза был слесарь Дмитрий Гринькив. СУМГ считал себя преемником ОУН в новых условиях, его целью было создание независимого украинского социалистического государства (наподобие Польши или Чехословакии). Гринькив и инженер Дмитрий Демидов разрабатывали устав и программу СУМГ, но принять их не успели. Группа насчитывала 12 человек, её члены (рабочие и студенты) проводили встречи (своеобразные семинары), раздобыли несколько винтовок, учились стрелять, собирали литературу ОУН, воспоминания, повстанческие песни. СУМГ был раскрыт КГБ, в марте-апреле 1973 года члены группы были арестованы, пятеро из них осуждены (Дмитрий Гринькив, Дмитрий Демидов, Николай Мотрюк, Роман Чупрей, Василий-Иван Шовковый).
Стус Василий, род. 7.01.1938 – 4.09.1985. Арестован 12.01.1972 по ст. 62 ч. 1, 5 лет заключения и 3 года ссылки (Мордовия, Магаданская обл.). Второй раз — 14.05.1980, погиб в карцере лагеря особо строгого режима ВС-389/36 в Кучино Пермской обл. в ночь на 4.09.1985. Член УХГ, поэт, премия им. Т. Шевченко 1993 г., посмертно. 19.11.1989 г. перезахоронен на Байковом кладбище вместе с Ю. Литвином и О. Тихим.
Сусленский Яков, род. 10.05.1929 г. в Молдове. Учитель английского языка. Заключённый в 1970–1977, отбывал наказание в Пермских лагерях и Владимирской тюрьме. Ныне в Израиле, создал «Украинско-израильское общество». Заслуженный работник культуры Украины (1993).
Тереля Иосиф. Род. 27.10.1943, п/з 1962–1966, 1966–1976, 1977–1982, 1982–1983, 1985–1987. Ныне живёт за границей.
Товарищество политзаключённых — см. Всеукраинское общество политических заключённых и репрессированных
Общество украинского языка им. Т. Шевченко (позже «Просвита») создано 11–12 февраля 1989 г.
Турик Андрей, род. 14.10.1927, повстанец, арестован в 1958 г., 25 лет заключения. Умер в 1975 г. (?)
Украинская Хельсинкская Группа — Украинская Общественная группа содействия выполнению Хельсинкских соглашений, создана 9.11.1976 г. с целью распространения в Украине идей Всеобщей Декларации прав человека ООН от 10.12.1948 г., свободного обмена информацией и идеями, содействия выполнению гуманитарных статей Заключительного акта СБСЕ, добивалась непосредственного участия УССР в Хельсинкском процессе. Члены-основатели: Николай Руденко, Пётр Григоренко, Оксана Мешко, Олесь Бердник, Левко Лукьяненко, Николай Матусевич, Мирослав Маринович, Нина Строкатая, Олекса Тихий, Иван Кандыба. 39 из 41 члена УХГ были осуждены. 7.07.1988 г. трансформирована в Украинский Хельсинкский Союз, 29.04.1990 на его Учредительном съезде основная масса членов создала на его основе Украинскую Республиканскую партию.
Украинский Хельсинкский Союз создан на основе Украинской Хельсинкской группы 8.07.1988 г. На Учредительном съезде УХС 29.04.1990 г. создана Украинская Республиканская партия, куда вошло 2/3 членства УХС.
Украинская Республиканская партия создана 29.04.1990 г. на основе Украинского Хельсинкского Союза. Зарегистрирована 1.11.1990 под № 1. В 2001 г. объединилась с партией «Собор» под названием УРП «Собор».
«Украинский вестник» — первый внецензурный литературно-публицистический и правозащитный журнал в Украине. Издавался на машинке в Киеве. В 1970–1972 гг. вып. 1–5, главный редактор — В. Черновол; вып. 6 был издан во Львове — М. Косив, А. Пашко, Я. Кендзёр. Свой вариант фактически шестого, но названного 9-м, выпустили киевляне Е. Пронюк и В. Лисовой. В 1973–1975 гг. вып. 7–9 издали С. Хмара, О. Шевченко и В. Шевченко. Возобновлён с № 7 В. Черноволом в 1987, выходил до 1990.
«Украинский Национальный фронт» — подпольная организация, основанная в 1964 г. в Галиции (основные деятели Д. Квецко, З. Красивский). Издала 16 номеров журнала «Воля и Батькивщина». Аресты в марте 1967 г.
УНФ-2 раскрыт в 1979 г. Николай Крайник, Николай Зварыч, Иван Мандрык и ещё около 40 человек действовали с 1974 г., в частности, издали № 10 и 11 журнала «Украинский вестник».
Хмара Степан, род. 12.10.1937, осуждён 31.03.1980 по ст. 62 ч. 1 на 7 лет и 5 лет ссылки, освобождён 12.02.1987. Народный депутат Украины I, II и IV созывов.
Черновол Вячеслав, 24.12.1937 – 25.03.1999. Один из лидеров шестидесятничества. Осуждён 3.08.1967 по ст. 187-1 на 1,5 года, второй раз — 12.01.1972 по ст. 62 ч. 1 на 6 лет и 5 лет ссылки, третий раз — в апреле 1980 на 5 лет, в 1983 освобождён. В Украину вернулся в мае 1985. Редактор журнала «Украинский вестник» (1970–1972, 1987–1990), член УХГ, народный депутат Украины I–IV созывов, лидер НРУ, лауреат премии им. Т. Шевченко (1996), Герой Украины (посмертно).
Чупрей Роман Васильевич, род. 1.07.1948, с. Печенежин, ныне Коломыйского р-на Ивано-Франковской обл., член «Союза украинской молодёжи Галичины». Арест. 15.03.1973, осуждён по ст. 62 ч. 1 (антисоветская агитация и пропаганда) и 64 (создание антисоветской организации) к 4 годам заключения. Отбывал наказание в лагерях Пермской обл.
Шовковый Василий-Иван Васильевич, род. 7.07.1950, с. Печенежин, ныне Коломыйского р-на Ивано-Франковской обл. Член «Союза Украинской Молодёжи Галичины». Инкриминируемые ст. 62 ч. 1 («антисоветская агитация и пропаганда»), 64 («создание антисоветской организации»), 140 ч. 2 («кража»), 222 ч. 1 («изготовление и хранение оружия»), 223 ч. 2 («похищение оружия»). Приговорён к 5 годам лагерей строгого режима. Отбывал наказание в Пермской обл.
Шумук Даниил Лаврентьевич, род. 1914. 5 лет в польских тюрьмах, полгода в немецком концлагере. 1944 — 25 лет, освоб. 1969, 1972–1988. Всего 42 года 6 мес. 7 дней неволи, из них 5 лет ссылки. Член УХГ. Жил в Канаде, с 2002 г. в Донецкой области у дочери. Умер 21.05.2004 в Красноармейске.
Фото В. Овсиенко:
Hrynkiv Плёнка 9059, кадр 14А. 8.02.2000 г., г. Коломыя. Дмитрий ГРИНЬКИВ.
Фото:
Hrynkiv-Motriuk Дмитрий ГРИНЬКИВ и Николай МОТРЮК. 1971 г.