И н т е р в ь ю
с Мирославом Алексеевичем М е л е н е м
С исправлениями М. Меленя от 9 ноября 2005 года.
Первые два раздела и частично третий М. Мелень в октябре 2005 года переписал заново, однако здесь оставлено несколько фраз из надиктованного текста. Подзаголовки интервьюера.
Некоторые отрывки переставлены местами ради хронологической последовательности.
Специфические ударения говорящего выделены жирным курсивом.
В.В. Овсиенко: 3 февраля 2000 года в городе Моршине, по улице Зиновия Красивского, 11, записываем беседу с паном Мирославом Меленем. Ведет запись Василий Овсиенко.
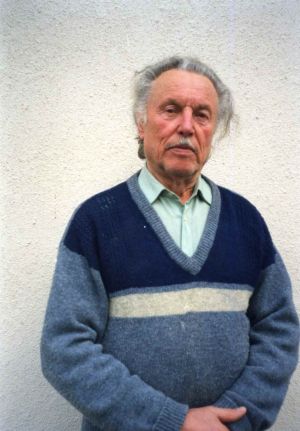
СЕМЬЯ
М.А. Мелень: Я — Мирослав Мелень, сын Алексея, родился в селе Фалиш Стрыйского района 13 июня 1929 года в многодетной крестьянской семье. Корни отца — с Буковины. Из того же древа происходит и Теофиль Мелень, один из организаторов пресс-квартиры в легионе Сечевых стрельцов в 1914&ndash1916 годах. Погиб в бою с москалями в 1916 году в селе Викторове.
Отец мой вслед за семью братьями в 1910 году уехал в Америку. Вернулся в 1920 году, после войны. Был самым младшим. Из старших его братьев не вернулся ни один. Но все отдали заработанные к тому времени деньги отцу. Он вернулся на Украину и женился на вдове Екатерине Печеняк, у которой был сын Василий от Павла Печеняка. Он был сечевым стрельцом в курене Букшованого. В бою с москалями на Болеховской горе, что возле села Лисовичи, в рукопашном бою он был тяжело ранен и через день или два после боя друзья доставили его в родное село Фалиш (примерно в 8 километрах от места боя), где его и похоронила 22-летняя вдова Екатерина с маленьким сыном Василием, 1910 года рождения. Впоследствии — это моя мама, а Василий — мой родной брат, но только по маме. Помню, что в нашем доме свято хранили память Павла, а отец мой всю жизнь к пасынку Василию относился как к родному. Василий учился в Стрыйской гимназии. Это требовало больших средств, и отец их давал. Никогда ни единым словом маму не упрекнул. Василий учился вместе со Степаном Бандерой, с Тычием-Лопатинским, Юлианом Гошовским (впоследствии краевые проводники ОУН). Стрый тогда был очагом украинского возрождения и зарождения первой сети подпольной ОУН. Окончив гимназию, ввиду политической обстановки, он должен был покинуть родную землю и эмигрировать в Чехословакию, в Подебрады, где после войны осела вся националистическая элита Украины.
Вернулся брат в 1941 году с легионами «Нахтигаль» и «Роланд». Помню (мне было 11 лет), как односельчане сбегались посмотреть на «Американового Василия» (брата и сестер моих до сих пор в селе зовут «Американовы»). Он — в гранатовом мундире, с регалиями хорунжего, свободно владел немецким, чешским, польским языками, здоровался с родными и близкими со слезами на глазах. Мне дал поиграть «маузером» (конечно, без патронов), так я считал себя самым сильным, геройским человеком. Сверстники, обступив меня, просили дать хоть раз «нажать на цингель», хоть подержать минутку. Тот момент до сих пор у меня перед глазами со всеми реалиями, хотя давно уже все отошли в мир духов предков, растерялись по чужим мирам или пропали бесследно.
Василий по заданию Организации украинских националистов позже стал начальником «Веркшутц-полиции» в посёлке Рыпне на Станиславщине. Взял с собой и брата Владимира (он 1925 года рождения). Во время немецкой оккупации полицейский пост «веркшутцев» плодотворно сотрудничал с оуновским подпольем, обеспечивая его, в первую очередь, информацией, оружием и продовольствием.
Перед приходом большевиков в 1944 году весь пост в составе 22 человек с оружием ушёл в ряды Украинской Повстанческой Армии, но кто и в какую группу и часть, мне не известно. Знаю только доподлинно, что Василий попал в курень Ризуна-Андрусяка и занимал должность куренного идеолога. Брат Владимир был мобилизован в сотню рядовым стрельцом, которая из Станиславщины сразу пошла в рейд на Закерзонье. У Василия был псевдоним «Боровик», а у Владимира «Белый» (он был светлый блондин). Василий в 1946 году погиб перед Пасхальными праздниками на Рожнятовщине и похоронен в братской могиле в селе Ценява. Вместе их покоится 32 воина легендарной УПА.
А ещё в 1945 году на самый Сочельник утром в наш дом в селе Фалиш пришли облавщики делать обыск. Делали обыск почти целый день: развалили печи, сорвали пол, на чердаке всё поскидывали — искали, как в песне того времени пели: «Поламали скрині, шукали бандьорів». А под вечер забрали отца и хотели арестовать. Отец, выйдя из сеней, сразу бросился в сторону, хотел убежать, но автоматная очередь скосила его. Уже по лежачему пьяный чекист с матерными выкриками бросил гранату. После взрыва я с соседом Дмитрием Моричем забрал тело (руку я подобрал со снега в пяти метрах) и до утра похоронил без гроба, потому что в противном случае его забрали бы москали и до сегодня никто не узнал бы, куда оно делось. Как теперь известно всем, это был такой метод заметания следов варварского усмирения народа. Такой метод уничтожения наций или народностей был начат в Московии ещё «государем Иваном Грозным», когда он «присоединял» народы Поволжья.
В ПОДПОЛЬЕ
Я, несовершеннолетний юноша, тогда учился в Стрыйской средней школе №5. В этой школе преподавательский коллектив был весь из Стрыйской гимназии. Ученический тоже. Я, чтобы избежать репрессий, переехал к родственникам в село Дашаву (15 км от Стрыя) и учился там в средней школе. Я там полуофициально-полунеофициально окончил в 1947 году десятый класс.
Ещё учась в Стрыйской гимназии, я был вовлечён в Союз Украинской Молодёжи (СУМ). Я вступил в юношескую ОУН в 1943 году торжественно на пластунском костре на горе Ключ (место боя УСС с москалями в 1916 году) под руководством профессора Кокольского и священника Гаврилишина, которые были руководителями в сеньорате ОУН (они в 1944 году эмигрировали на Запад). Нас тогда было больше двух десятков в юношеском отряде, присягнувшем текстом «Декалога украинского националиста» Ленкавского: «Добудешь Украинскую Державу или погибнешь в борьбе за неё». Чего все придерживались свято. Только один из тогдашних юношей стал предателем — Степан Одинак, а остальные не нарушили присяги. Большинство погибло в водовороте Освободительной борьбы, или отбыло московскую каторгу без покаяний и предательства. Например, Бабий Демко, самый молодой из нашего отряда, в 1946 году погиб геройской смертью в одном бою вместе со своим отцом и братом Николаем в соседнем селе Станков. Остап Барабаш из села Конюхов подорвал гранатой себя и двух кагэбэшников, когда попал в безвыходное положение.
В Стрые большевики произвели арест в 1947 году как раз в день выдачи аттестатов, когда все пришли. Арестовали в той 5-й школе всех, кто был в молодёжной организации. Я со своим другом не попал под арест, потому что мы в то время были в Дашаве. Получали мы аттестаты уже почти подпольно — добрые люди сделали.
С приходом большевиков в 1944 году юношеская ОУН в средней школе № 5 выполняла разные задания: одни распространяли агитационную подпольную литературу, другие были связными, третьи (в основном, городские юноши, такие как Остап Маркус, Ромко Масляник, Владимир Злубко и другие) где могли добывали разное оружие, а я и мой побратим Владимир Морич доставляли его в условное место кустовому проводнику Орленко. Или Сомко — надрайонному. Соколенко — это мой двоюродный брат (погиб в 1948 году в родном селе Фалиш), настоящая фамилия — Павлий Иван. А Сомко — Клепуц Степан из села Каменка, что на Сколевщине. Сомко трагически погиб здесь же у нас, в Дашавском Корчунке (так называется присёлок) — не сдался врагам. Их целая боёвка погибла. А Сомко, раненый, ещё подпустил к себе — думали большевики, что он уже убит, подошли к нему, а он держал в руке гранату, и напоследок отпустил «Ф-1». Его разорвало, но ещё и двух большевиков с собой уничтожил.
И вот случился такой случай. Мы с покойным моим ближайшим другом, который умер четыре года назад, взяли лошадей, на которых молочник из сёл возил молоко в Стрый, в заготовительную контору. Так мы взяли у дяди Петра лошадей и вроде бы везём молоко. А в сиденье из гороховой соломы — десять автоматов и ещё оружие. Едем через стрыйский мост, который очень строго охранялся. Дядя Пётр слез и сбежал. Как сбежал? Ушёл, сказав: «Вы езжайте сами, хлопцы». И мы поехали, доставили оружие.
Как-то под утро пришли гонцы из села Фалиш, где я родился, что мне нечего возвращаться в село, потому что хата разрушена, пол сорван... Искали, приходили ещё за мной, потому что отец уже убит, сестры нет. И я тогда — куда деваться? Когда нашу организацию раскрыли, мы ушли в куст самообороны к Орленко. Полностью ушли в подполье, уже с оружием в руках. Ещё несовершеннолетние, но, держа оружие в руках, мы чувствовали подвижнический порыв, чувствовали полную ответственность за свою нацию.
И вот что случилось в 1947 году. Тогда Украина была голодной. Ходило тут, по Галичине, много людей из Бессарабии, со всех концов. Собрались мы на Спаса, 19 августа, на праздничный ужин в селе Фалиш, на окраине, за рекой. Подходит женщина и говорит: «Будьте, хлопцы, осторожны!» Стрельцов-повстанцев было шесть и нас двое малолетних. Стрельцы были с оружием. Итак, женщина предупреждает, что ходят какие-то, просят милостыню, но молодые, здоровые. И только она это сказала, ещё не успели мы сориентироваться, как постучали в дверь те два незваных гостя. Где-то лет 25-28, с мешками за спиной. Орленко, кустовой, пригласил их в хату, накормили их и: «Кто вы такие?» Хлопцы уже имели в этом опыт, понимали, что это подосланные агенты КГБ. Один из них был белорус по национальности, второй украинец: фамилии Гальчинский и Раевский. Украинец очень выступал, с апломбом: «Вам конец будет! Вы — бандиты! Вы не выиграете дела!» Они пришли с тем, чтобы убедить, что надо сдаваться...
Их обоих вывели во двор... Как я позже узнал, первая мысль была убедить их, что украинские повстанцы борются за идею. Мы не уничтожаем, как пропагандируют тут большевики, инородцев — мы воюем против системы. «И вы идите, будьте людьми, и скажите, кто мы такие». Но Гальчевский заявил: «Вы бандиты, и мы где только сможем...» — в таком бескомпромиссном духе говорил.
Очевидно, их решили просто физически уничтожить. Потому что если бы их так отпустили, то всё то хозяйство было бы вывезено и уничтожено. Другого выхода не было. А тогда борьба была: или жизнь, или смерть. В подполье у нас не было ни тюрьмы, ни следственных органов. Это решалось молниеносно. Нам сказали: «Хлопцы, завяжите им руки». И мы, как могли, дрожащими руками, но связали их. «Идите за нами!» Они пошли впереди. Уже была тёмная ночь, накрапывал дождь. Вдруг я услышал выстрел, потом второй, третий. Тому Гальчинскому удалось убежать, а второго пуля догнала...
АРЕСТ
Когда в 1947 году в столкновении с кагэбэшной агентурой мы через несколько дней попали в руки облавщиков, то агент Гальчинский, которому удалось убежать из рук повстанцев, уже опознавал нас связанных на дежурке КГБ вместе с другими предателями, которые пришли с повинной на обращение МВД УССР и хорошо знали нас обоих в лицо. Тот эпизод из моей жизни, пожалуй, был самым жестоким!
...По приказу кустового мы отошли в соседнее село Братковцы. Куст самообороны ушёл, потому что имел свои стоянки, бункеры в лесу, а мы, как подростки, пошли в село, к родственникам, чтобы переночевать, а завтра будет видно, что и как. На рассвете родственник говорит: «Мирославец! Собирайся! Иди корову пасти, потому что облава, облава! Забирают всех, кому больше пятнадцати, всех мужчин забирают, сводят в клуб, а там что будет — будем видеть». Я, взяв его корову на верёвку, воловик, как его называли у нас, гоню за село пасти. А мой побратим, Владимир Морич, — у другого соседа, так же босиком. Ну, сколько нам тогда было? Не полных семнадцать. Всё равно нас увидели и забрали. Держали в клубе почти два дня. Некоторые люди знали, кто мы есть. Пошла молва по всему району, что был бой, что ищут, кто принимал участие в том бою. Никто не сказал, что мы из соседнего села. Люди молчали. Пока не пришёл этот, что продал нас ещё в школе, Одинак Степан. Только посмотрел в зал, увидел нас — и через минут десять-пятнадцать капитан краснопогонников заходит и называет по фамилиям: «Мелень и Морич! Выходите! Мы знаем вас — ты и ты». Нас обоих связали руками вместе, в «студебеккер» положили лицами на дно кузова, придавили ногами. Повезли в районный центр Стрый, в КГБ.
В КГБ нас встретили те янычары, что сдались на призыв Берии, бывшие оуновцы-повстанцы. Их было немного, но были. Был тут у нас очень знаменитый когда-то боевик Лимонко. А это оказалось — провокатор. Очень издевался над всем украинством. Бомбик, Гринь — это я называю их по подпольным псевдонимам. Они нас знали, и я их знал. Итак, Лимонко один из первых, пересыпая уже свою речь русскими матами, начал с драки. Не мешкая, вывел меня во двор (Владимира взяли в другую комнату). Во дворе была большая куча навоза, потому что там было много лошадей, машин было меньше, кагэбэшники везде разъезжали на лошадях. На навозе я увидел в брезенте замотанное что-то. Лимонко, ударив меня, заставил разворачивать. Только я стянул сверху брезент — увидел лицо Василия Рижко, с которым мы только позавчера вместе ужинали в одной хате. Он был старше, 1926 года. Он не был в подполье, пришёл тяжело раненый с фронта. Но его отец был в подполье. И вот я увидел его убитого. Он в праздничной одежде, вышитая сорочка. Кудри, запёкшиеся кровью, кровь из одного и из другого виска, без глаза. Одним словом, автоматная очередь, очевидно, прошлась по голове. Лимонко произнёс: «Если не будешь говорить правду, то же самое будет и с тобой».
Следствие началось очень активно и длилось без перерыва как днём, так и ночью, пока я мог стоять на ногах. Когда следователь шёл обедать или на минуту где-то отлучался, то возле меня стоял часовой-надзиратель и не давал присесть и глаз сомкнуть, чтобы ещё и бессонницей измотать меня до беспамятства. И сказал: «Всё равно, что с тобой будет! Мы тебя расстреляем». Когда я повалился на пол, то те, что пришли с повинной — Лимонко из села Добряны, Бомик из села Завадов, Гром из Братковец (все эти сёла на Стрыйщине) за ноги со второго этажа тащили по лестнице аж в подвал, так что я черепом стучал по каждой ступеньке. В подвале пришёл в себя где-то на третий день. Помню, что чистосердечно молился, благодаря Бога за силу терпения: и вытерпел, и не предал, потому что я в подвале. В противном случае водили бы меня по сёлам и я должен был бы показывать, где ночевал, кто давал есть и т. д. Потому что от меня добивались только чтобы я сказал, где, в какой хате мы ели или ночевали. Тогда было бы, пожалуй, полсела вывезено по большевистскому методу. Однако Бог дал мне силы, так же и моему побратиму Владимиру, — мы всё выдержали и ничего не сказали. Что мы сами по себе прятались, как могли, так и добывали еду. Тогда был такой метод: «Ничего не знаю. А на нет — и суда нет».
Я ещё несовершеннолетний, никогда не был в такой ситуации, разве что из рассказов слышал что-то подобное. Очень это меня поразило. Завели меня снова в комнату, и тогда из другой комнаты выходит тот самый Гальчинский, с которым два дня назад произошёл случай, о котором я выше рассказал. Как набросился на меня он с дракой, и все они, то я не помню, что было дальше. Били меня разными способами, отливали водой и снова били. Прошло много лет с того времени, а я и сейчас те пинки чувствую всем телом, каждым нервом. Ещё подставляли под капающую воду и держали в воде босиком по колени. Каждая капля, казалось, кувалдой бьёт по голове. До сих пор не могу постичь, что это мог делать человек — homo sapiens. Не могу смириться с христианской догматикой: «Бьют в правую щеку — подставляй левую... Молись за того, кто тебя преследует... Прощай злейшему врагу... Будешь спасён...» Мой отец не раз в разговоре со свояками зимними вечерами утверждал, вспоминая мировую войну: «Пришёл к тебе с добром — встреть его хлебом-солью, а ворвался к тебе с мечом — мечом и прогоняй его! Не предавай, но никогда и предательства не прощай, потому что сам станешь предателем!»
Очнулся я в подвальном помещении, в камере холодной и сырой, и один-одинёшенек. Маленькая комнатка где-то метр на два — очевидно, там должно было быть помещение для чего-то другого.
Я тогда впервые почувствовал в себе большую силу духа, который «тело рвёт к бою», как говорил поэт. Я тогда впервые почувствовал удовлетворение от моральной победы над врагом, и эта уверенность, что выдержу, впоследствии не покидала меня никогда. И действительно похвастаюсь, что всегда я был одним из первых во всяких конфликтах: будь то в рубках с «блатными» и рецидивистами по этапам, или потом в сопротивлении советской власти в ГУЛАГах, или на свободе.
Примерно через две недели нас обоих перевезли во Львов на Судовую, 7, где мы провалялись по следствиям больше года. Условия были очень тяжёлые: без каких-либо передач и свиданий, без вестей о маме и родных. Мытарства помог прекратить односельчанин Дмитрий очной ставкой. В конце концов, осудили нас. Уже смертная казнь была отменена — а нам обещали, что осудят на смертную казнь. По статье 54-1а, пункт 11 — «террор» дали нам по 25 лет и 5 лет поражения в правах. Как пели мы в камере: «а на більший ще страх дали п’ять по рогах, щоби більше, мовляв, не грішили». И вечная ссылка «в отдалённых районах Советского Союза».
В.В. Овсиенко: Вы помните дату ареста и суда?
М.А. Мелень: Меня арестовали в 1947 году, 23 сентября, на облаве в Братковцах — это село Стрыйского района. А судили меня в 1948 году в июне. А какая дата? Тоже 23-е число, кажется.
ЭТАП
19 августа 1948 года, опять-таки на праздник Спаса, нас этапом из Замарстыновской тюрьмы, из Львова, всех повезли на Север. Преимущественно молодёжь. В вагонах-пульманах, трёхэтажные нары.
Ехали мы очень долго. Дорога тяжёлая. Нас везли в вагонах таким образом. Давали раз в три дня немного кильки и сухарей. Воды давали только раз в день. Сто двадцать человек в вагоне, а давали какую-то одну бадью на вагон. Поезд останавливался где-то в безлюдном месте, в степи. Бесконвойные набирали воды из озера или из какой-то лужи, заносили нам в вагон. Пили, потому что была страшная жажда. А после этого люди начали болеть — дизентерия началась.
Вот мой односельчанин, Василий Пастущин, — мы с ним встретились уже на этапе. Он с 1922 года рождения, повстанец. Взяли его в бою контуженного, без сознания. Подлечили и дали 25 лет. Не доехал до Норильска. Где-то под Красноярском умер, страдая тяжёлой дизентерией.
Каждый вечер и утро проверяли. Василий не встал, так бесконвойники стащили его со вторых нар за ноги (потому что нары были трёхэтажные), бросили на пол. До сих пор не могу забыть этой страшной картины: как голова ударилась о пол вагона. А потом стащили из вагона на камни. Что-то между собой говорили, смеялись: «Одним бандёрой меньше». Никто не знает, закопали ли его, или там оставили в степи.
Два паровоза ФД (так называемый «Феликс Дзержинский») тянули где-то больше семидесяти вагонов-пульманов с заключёнными. Были разные люди, на каждом вагоне написана мелом большая буква «Б» и обведена кругом. Имели ли они в виду «бандиты», или «бандёры», как они называли нас, не знаю, но это были, в основном, политзаключённые. Было между нами очень много «власовцев» из РОА (Русской Освободительной Армии). Были непосредственные участники УПА, но больше всего тех, кто помогал в той революционной освободительной борьбе. Много из Надднепрянской Украины. В Харькове, на Холодной Горе, присоединили к нам много украинцев из Восточной Украины. Это были люди, которые встали на сторону национальной борьбы. Никто не вникал в политическую ситуацию — только бы освободиться от московского оккупанта. Было много сознательной интеллигенции.
Только в Челябинске или Омске нас повели на «прожарку», потому что очень развелись вши. Сделали дезинфекцию. Аж на саму Покрову 1948 года нас разгрузили в Красноярске, на станции Знаменская. Повели колонну до пересыльного пункта, где-то километров двадцать. Повели пешком через поле (дороги не было), болота страшные. Конвой конный, только собаководы пешие. А нас вели колонной по пять. Не смели мы обойти никакую воду, ни лужу, шли напрямик, как командовал конвой. Потому что: «Шаг вправо, шаг влево — считаю побегом, стреляю без предупреждения!»
Очень тяжёлая дорога. Одеты кто как, а там уже холод, это же Красноярский край, 14 октября 1948 года. Когда утром нас высадили, то те 20 километров шли мы, наверное, 5 часов, а может и дольше. Дождь, ветер — очень плохая погода. Я был в летних туфельках (так у нас туфли называют), легко одет, без никакого плаща, без куртки, а так — пиджак, штаны, рубашка. Ноги промокли, мои туфли разлезлись. Таких, как я, было много. До пересылки, где нас принимали и регистрировали, я дошёл совсем босой. Земля холодная, шёл дождь со снегом. Но, слава Богу, пережил.
На пересылке в Знаменском принимают нас по формулярам. Каждого по фамилии: имя, отчество, номер статьи, срок и так далее. Выходит к нам нарядчик с бородой. Как позже оказалось — это польский офицер, который чудом спасся от расстрела то ли в Катыни, то ли под Харьковом. Я с ним ближе не говорил, потому что тогда был совсем молодым. Как только он услышал, что это львовский этап, то искренне принял нас и без боязни сказал: «К вам будут подходить, вас будут грабить, вас будут бить. Но вы отбивайтесь, как можете, и никто вам ничего за это не скажет. Потому что здесь закон тайги: кто кого».
Пересылка большая, поделена на секторы: женская зона — бытовики, политические, каторжане. И так же мужская: бытовые, каторжане и политические с особым режимом.
Пересылка — это пара домиков на столбах и крыша, а стен не было. И пара домиков, у которых были стены, но без окон. Итак, каждый старался попасть в них, потому что начался очень пронизывающий дождь и ветер. Мы, группа молодых парней, нашли пару досок. Это Ярослав Скавинский, Виктор Митарчук (он с Киевщины, не знаю, где делся), Иван Матвийчук из Бродов, Иван Огородник со Стрыйщины, Владимир Морич и много других, что держались вместе ещё с тюрьмы. Молодые, почти ровесники. Сделали чердак на бараке, где ещё не было стен. Залезли туда. Ночью слышим крик, потому что ворвались к нам бытовики. Их надзиратели специально впускали. И кричит кто-то: «Бей! Бей! Бей!». Мы вскочили, потому что уже и к нам кто-то вылез. Хлопцы подхватили того, что подлез, и выбросили. Только грохнулось о землю — и он больше не поднимался.
Утром на проверку пришли надзиратели, пересчитали нас и только спросили: «Что это такое?» — «Мы не знаем». И больше никто, действительно, не спрашивал: кто это был, кто это сделал. Приехали бесконвойные, взяли их на подводу и вывезли.
ГОРЛАГ
В конце октября 1948 года мы прибыли в Норильск Красноярского края, в «Государственный особорежимный лагерь №4».
Очень тяжёлая история: голод, холод, а мы истощены до предела. Погрузили нас в баржи и через две недели привезли в Дудинку. Это был последний этап того года, потому что с материка на Таймырский полуостров, в систему Норильлага, можно было добраться только по Енисею или Ледовитым океаном через Карские ворота — и в устье Енисея. Или по воздуху. То ГОРЛАГ — «государственный особорежимный».
В Дудинке смертей было столько, что их не сосчитать. Сколько нас доехало, сколько приехало — никто не сосчитает и по сей день. «Государственный особорежимный №4» в Норильске имел задачей строить крупнейший медеплавильный комбинат цветных металлов — подарок ко дню рождения Сталина. Вот откуда я и помню день рождения Сталина — 21 декабря, его семидесятилетие было в 1949 году.
В лагерь свезли из разных концов Советского Союза где-то больше десяти тысяч заключённых. Интересный контингент. Я застал там членов правительства Латвии, Литвы, Эстонии, которые Москва оккупировала в 1940 году. Была там украинская интеллигенция, были инженеры с Донбасса. Помню, Крячко Михаил — крупный инженер горных работ. Были русские по так называемому «делу Горького». Были заключённые 1937 года, с Соловецких островов. Они чудом попали сюда. Говорили они между собой об украинской интеллигенции, даже упоминали фамилию Леся Курбаса. Но я тогда не знал, кто это. Это только теперь осознаю.
Одна из величайших личностей, которая повлияла на меня — профессор, доктор Михаил Дмитриевич Антонович. Сын того Антоновича, что был министром иностранных дел Центральной Рады. Он был профессором Берлинского университета. Большевистская агентура похитила его из Парижа в 1947 году. Он рассказывал, что очнулся в тюрьме на Лубянке в Москве. Тоже осудили на 25 лет. В нашем бараке был дневальным. Антонович — энциклопедически образованный человек. Был со мной Михаил Пилипчук, член Союза писателей. Сейчас живёт в Николаеве на Львовщине. Он об Антоновиче много написал.
Там было много интеллигенции, как генерал Белов — власовец. Был бывший посол Советского Союза в Канаде Ойхман, еврей, которого судили в 1937 году. Кстати, в январе 1953 года в Кремле разгорелось «дело врачей». Мы пришли с работы и громкоговоритель заговорил, что разоблачена еврейская врачебная группа, которая имела целью отравить Сталина. Так Ойхман на весь барак сказал: «Посмотрите, что будет. Они забыли, кто их привёл к власти!»
И действительно, через два месяца мы на рассвете — там ещё полярная ночь продолжалась — идём на работу. Колонна, где-то около четырёх тысяч, выстроена по пять. Только крик нарядчиков и надзирателей: «Подтянись! Побыстрее!» — как вдруг с вахты из громкоговорителя раздаётся: «Сегодня из-за кровоизлияния в мозг Иосиф Виссарионович...» — и так далее. В ту же минуту из груди тех рабов несчастных, замученных, замордованных вырывается в целое заполярное поднебесье: «Ура! Ура!» — бросают шапки вверх, радуются, ликуют смерти «вождя». Капитан Нефедьев, дежурный на вахте, синеет. Я только вижу, как его жилистая пропитая рожа краснеет от напряжения, когда он кричит: «Успокойтесь! Тише! Тише!» В конце концов даёт команду — и с вышек над нами выстрелы из автоматов, очереди. Так мы успокоились. Всё стихло, дальше всё пошло своим чередом. Мы пошли на работу, но уже бодрые, весёлые, потому что почувствовали, что будут большие изменения в обществе.
Так вот Ойхман сказал: «Увидите, что будет». Не прошло и двух месяцев, как 3 марта случилось «кровоизлияние» Виссарионовичу. Я до сих пор убеждён, что масоно-еврейская мафия руководит всем и вся, в том числе и нами сейчас.
Парни всех национальностей там жили дружно. Мы особенно дружили с прибалтами, особенно с литовцами, с грузинами, потому что в советских лагерях-гулагах были, пожалуй, все нации, населяющие Европу.
НОРИЛЬСКОЕ ВОССТАНИЕ
И вот разворачиваются такие события. В мае там начинается полярное лето. Переход зимы в лето происходит сразу, весны почти нет. Первые цветы в тундре очень ярких цветов, как полярное сияние. Но они без запаха, без аромата. Два-три дня — и пропадают бесследно. И начинается лето. Лето, как лето — такое бывает, что и десять градусов тепла, бывали дни, что и пятнадцать.
Мы пришли с работы. А уже солнце не заходит — полярный день начался. Молодость берёт своё: как мы любили, сошлись перед бараком и начинаем петь. Поём. И я в том кругу стою. Идёт смена конвоя и кричит: «Разойдись!» Хотя он никогда до сих пор этого не делал. А тут вдруг кричит: «Разойдись!» Мы не обращаем внимания. Он снимает автомат с плеча и — очередь по нам. Две жертвы: Гайсюк из Бережан и второй — фамилию я забыл. Это Евгений Грицяк описал.* *(Евгений Грицяк. Норильское восстание (Воспоминания и документы). Издание второе, исправленное и дополненное. — К.: Издательство имени Елены Телиги. — 79 с.). Две жертвы моментально. Это стало толчком — взбунтовался целый лагерь. Сразу передалось в пятую, в шестую зону женскую. За какие-то сутки об этом уже знал весь Норильск. А в управление Норильлага входило более ста сорока отделений, ОЛПов (отдельный лагерный пункт). У меня эти данные записаны. Только в самом Норильске было более двадцати лагерей. В Норильске было около 150-160 тысяч заключённых. Все работали на Россию. Мы всё там делали. Теперь остарбайтерам выплачивают компенсацию — а когда нам будут выплачивать? Там 70% заключённых были с Украины.
В.В. Овсиенко: И мы России до сих пор ещё так много должны!
М.А. Мелень: Да, мы ещё и должны — мы вечные должники! Если вспомнить те первые шаги — в том лагере даже нары не из досок, а из неотёсанных кругляков. Никто не имел понятия, что есть какой-то матрас, что есть какое-то покрывало, или подушка, или ложка, или котелок. Ели, кто как мог. Самой ценной у нас тогда была консервная банка. Ударил гонг — обед. Не поел — никто не интересовался, ел ты или не ел. Все бежали в буквальном смысле этого слова. Не было из чего, так я снимал шапку: «Наливай баланду в шапку!» — и так хлебали. А у кого был котелок или какая-то консервная банка, то быстренько выпивал и давал другу, один другого спасал. Так было до 1949 года.
Нас в 4-м лагере Горлага было где-то около 10 тысяч. Навигация начинается в конце мая и заканчивается в октябре. Так с октября 1947 до конца мая 1948 года из тех десяти тысяч осталось где-то неполных две с половиной. А остальные все... У бесконвойных было две пары лошадей... Бытовала песня «Пара гнедых». Умерших каждое утро складывали в штабель, а когда их забирали, то на вахте конвой ещё прокалывал каждого в висок и в грудь — такой был порядок — и вывозили под Шмидтиху... Гора Шмидтиха. У меня тут есть в книжке...
В.В. Овсиенко: Об этом и у Евгения Грицяка написано.
М.А. Мелень: Да, да. Так можно представить себе, какая у нас жизнь была. Рабочий день 12 часов, с 8-ми до 8-ми, без выходных, без никаких больничных. Так называемые больничные были тогда, когда уже не мог вставать: день-два из зоны не выводили. А кто отказался идти на работу, то устраивали такую демонстрацию: брали у бесконвойного лошадей, раздевали заключённых догола — троих или сколько там их было, привязывали за ноги к вальку и ногами вперёд лошади тащили их через всю зону на вахту. А начальство сгоняло всех: «Смотрите! Такое и с вами будет, если не будете на работу идти!» Их протащили по зоне, вытащили за зону — и никто никогда их уже не видел.
Шло к восстанию. Я бы не сказал, что это было организованное восстание, как его обычно понимают. Имею свою трактовку. Я был в забастовочном комитете, о чём есть документ. Мы сошлись сами по себе. У Грицяка об этом тоже написано. Они приехали новым этапом из Караганды. А мы, те, что приехали ещё в 1948 году, держались вместе, делали всё сообща. Была разветвлённая система сексотства. И в большой зоне, то есть в государстве, и в малой зоне сексотство поощрялось: тот, кто сотрудничает, имеет более лёгкую работу.
Договорились, что будем протестовать против произвола, потому что уже Сталина-диктатора нет, а мы — невинные жертвы. Там было много людей без гражданства, в том числе и я, ведь нас оккупировали в 1944 году. Мы молодые, жертвы войны, требуем пересмотреть дела.
Некоторые описывают восстание так, что мне неприятно читать. И чужие люди порой смотрят на нас с удивлением. Мы прибегли к средствам протеста, допустимым советским правом. Потому что за другой способ они бы нас просто постреляли. Некоторые говорят и пишут, что против нас бросили танки, самолёты... Это — абсурд. Никто танки не пускал. Мы были безоружны, беззащитны, голодны, истощены. Они искали повода, устраивали провокации, и если бы нашли нож, то это была бы причина выстрелять нас до единого. Мы сами себя оберегали, никакого вооружённого силового протеста быть не может. Одно только средство — не идём на работу, забастовка и голодовка. И дать информацию за зону. Делали бумажные змеи с листовками: «Помогите нам, спасите нас». Это записано. Один еврей написал (фамилию сейчас не помню), Климович из Белоруссии, прибалты, француз Жак Росси, Евгений Грицяк, и я писал. Мы же не говорим, что были с оружием. Я не хочу никого унижать, но считаю, что мы совершили великий подвиг, выступив тогда против террора. Не надо большего геройства, потому что никто не осмелился в той системе выступить так, как мы. Мы в Норильске держались 70 дней. Всегда сравнивали: Парижская Коммуна — 71.
В.В. Овсиенко: А что это у вас за документ? Может быть, вы бы его зачитали? Полностью.
М.А. Мелень: Я не делаю из себя героя, но хочу зачитать справку, которую мне дали из управления КГБ Красноярского края, где доныне хранятся наши дела. Читаю на языке оригинала, с пояснениями:
«Совершенно секретно. Номер 51 (что-то неразборчиво). Справка. 6 июня 1953 года бригадой работников МВД СССР была проведена беседа с представителями, выделенными заключенными 4-го лаготделения Горного лагеря. В качестве представителей от заключенных выступали: Гальчинский, Недоростков (это были от русских, я сейчас объясню), Грицак (от украинцев), Генк (от немцев), Климович (от белорусов), Мелень (от украинцев), Дзерис (от литовцев).
Беседа длилась в течение 3-х часов. В начале беседы заключенные заявили о том, чтобы местное лагерное руководство не присутствовало, а затем спросили, с кем они будут говорить, на что получили ответ, что говорить они будут с комиссией, назначенной Л.П. Берия.
Зам. нач. 5 отдела УМВД Красноярского края капитан г/б Сигов».*
*(Опубликовано: Евгений Грицяк. Норильское восстание (Воспоминания и документы). Издание второе, исправленное и дополненное. — К.: Издательство имени Елены Телиги. — С. 27.).
Комиссию от Берии возглавил полковник Михаил Кузнецов. Перед его приездом к нам обратились по мегафону или громкоговорителю: «Он со всеми говорить не может, вас много — выберите каждая нация от себя делегатов, и мы будем говорить с вами. Вы претензии изложите, а мы постараемся их рассмотреть».
Итак, настал такой момент, что надо кого-то посылать. Перед тем я всё время общался с Михаилом Дмитриевичем Антоновичем. Кстати, он мне впервые рассказал о Евгении Маланюке, он лично знал деятелей ОУН, хорошо помнил Мельника и многих других. Об Иване Багряном много рассказывал. Он меня воспитывал. Говорит: «Иди! Иди!» Ну, что говорить — мы уже договорились. Скажу, что пошёл я не потому, что очень что-то знал, а потому, что, видимо, дух взял верх. Потому что когда мы шли, то знали, что инициаторов большевики всегда уничтожали.
Стол для встречи сделали за зоной, за вахтой. Провожали нас многие. Были ребята со Стрыйщины, со Львовщины. Мы попрощались и разошлись, потому что я не думал, что мы вернёмся. Но, слава Богу, нас вернули. Очевидно, настало другое время. Каждый из нас высказывал своё мнение, они записывали. Что интересно, Кузнецов сказал: «Странно. Такая строгая изоляция между лагерями — и как вы договорились, что...» Что везде одни и те же вопросы, те же требования. Это говорит, наверное, о чём-то другом. Но этот вопрос ещё не исследован и не знаю, будет ли когда-нибудь исследован — как это все так мобилизовались, потому что через несколько дней забастовали все лагеря. Остановился весь Норильск. А это событие немалого значения — о нас заговорил мир! Это теперь мы знаем, а тогда мы не знали этого. Семьдесят дней мы не выходили на работу, хотя нас принуждали. Они согласились пересмотреть дела. И наши люди уже не выдерживали, и они. Некоторые решили идти на работу. Другие хотели ещё держаться. Но перед рассветом в зону ворвались краснопогонники. Окружили каждый барак отдельно. Били безбожно, до смерти, до полусмерти и выгоняли за зону. Кто взял какие-то свои вещи, кто не взял. Нас выгнали в тундру, а там «суки», стукачи, показывали — и нас сортировали, кого куда. Таких нейтральных старичков возвращали в зону, а нас — кого сразу в следственную тюрьму, кого в штрафной, кого на этап.
И вот я попадаю в штрафную зону, называлась она Купец, или Каларгон. Привезли туда где-то около восьмидесяти парней. В этой штрафной зоне мы были недолго. Условия там были ужасные. Оттуда забирают нас в тюрьму Норильска. Это была страшная тюрьма. В подземелье больше, чем наверху. Там истязали, мучили и расстреливали. Вот как принимали в эту тюрьму: заводят во двор, все стоят по одному. В коридоре перед канцелярией раздевают всех догола. Пускают в камеру — и сзади бьют по голове. Не знаю чем — я потерял сознание. Опомнился в камере.
Оказался в камере — голый, а возле меня вещи. А били так, чтобы не было каких-то синяков. Поднимали за руки, за ноги — и на цемент плашмя бросали. Холодно, не отапливается. Там уже лежит Иван Огородник из Конюхова Стрыйского района, Славко Скавинский из Сокаля. Что с нами? Оправиться хочу, иду на парашу. Ничего не проходит, кровь запеклась кусками. Страшные боли. А утром, как в насмешку, идёт чекистка: «Больные есть?» — спрашивает в кормушку. — «Есть». — «А вас надо добивать». — И закрыла. Это чтобы поглумиться над нами. Многие из нас поумирали. Мне помог Бог выжить, благодарю Его. Меня вера спасла и надежда.
Начинается следствие. Длилось почти год. Мы думали, что нас расстреляют. Но тогда уже смертной казни не было. Ну, что: добавят срок. Но срока мы не боялись, потому что все мы имели по 25. Нам присудили «крытку». Мне на три года. Нас пятеро: Митарчук Виктор, Николай Попчук с Тернопольщины (был уездный проводник ОУН), Матвийчук Иван из села Гаи Дидковецкие Бродовского района, Скавинский Ярослав из Сокаля и я.
ПО ТЮРЬМАМ
Нас, группу, снова повезли в Дудинку, потом в баржу — и снова начинаются мытарства по этапу. Чтобы мы не засиживались в одной тюрьме и не наводили контакты, нас в одной тюрьме дольше, чем три или четыре месяца не держали. Нашей группе (не знаю, как другим группам) довелось, благодаря тем большевистским порядкам, объехать почти все крупные тюрьмы СССР: Красноярск, Омск, Томск, Челябинск, Петропавловск-на-Урале. Оттуда, с Урала — в Горький, из Горького — во Владимир, из Владимира — в Харьков, из Харькова — в Ростов, из Ростова — в Грозный, а потом по Волге снова баржей — и в Горький. Так мы возвращались в Норильск аж до 1956 года.
Вот так меня застала «хрущёвская оттепель». Уже три года по тюрьмам мы отбыли, надо возвращаться в Норильск. Привезли в Красноярск, но поскольку навигация уже закончилась, то нас отправили на «Ворошиловские заводы». Это были какие-то золото-очистительные заводы, я в это не вникал. Пришлось ждать весны — и снова отправят в Норильск.
Но тут нас разделяют. Меня забирают «с вещами» и везут. Куда? Не имею понятия. Переписки с домом у меня не было три года. Абсолютно никакой, ни с кем. Что ещё интересного? В Оренбурге мы были (тогда город Чапаев) в той тюрьме, где когда-то Шевченко: Оренбургская крепость.
Привозят нас в очередную тюрьму. У нас были лагерные номера. Выкрикивают твою фамилию, а ты должен ответить те формулярные данные: имя, отчество, статья, срок и так далее. Было заведено так: отвечаешь имя и отчество, но статью и срок не говоришь, была одна фраза: «До конца советской власти». Снова бьют, но мы принципиально только так отвечали. Каждый. Вызывают, например: «Мелень Мирослав Алексеевич! Статья?» — молчу. «Срок? Говори!» — «До конца советской власти». И сразу: «Ах, ты...»
Нас тогда называли «бериевцами». До сих пор не выяснен этот момент: в 1956 или 1957 году по приказу Берии была открыта граница в Польшу. (Берия был арестован уже 23 июня 1953 года. — Ред.). Недолго, что-то месяц или сколько. И был брошен клич: «Национальные кадры!» Так нас сделали «бериевцами», потому что Берия уже был расстрелян, а мы, мол, хотели развалить Советский Союз. Эту тему почему-то по сей день никто не освещает, что это было такое. То ли провокация, то ли действительно Берия хотел поставить национальные кадры, я не знаю, но такой факт был. Потому что много приезжих москаликов всполошились, что везде должны быть только местные кадры.
В Красноярске застаёт нас весна и та «оттепель». Уже было намного легче. В тех красноярских лагерях, на «Ворошиловских заводах», были преимущественно власовцы из Русской Освободительной Армии. Много белорусов, которые служили в немецкой гражданской полиции. Это люди немного другого мышления. Чекисты сказали, что к ним едут головорезы. А нас немного, нас всего пять парней. Встречала нас под вечер целая зона — «головорезов из Норильска». Уже в лагерях разрешили носить волосы, уже не стригли, разрешены часы. Я попадаю в бригаду грузина Дакишвили (по одному нас раскидали). Не помню имени, но что Дакишвили — хорошо помню. Он был уже накручен чекистами: «Слюшай, если будешь подымать хвост, так я тебя сам прикончу!» Вот такой был разговор с ним. Но мы сумели повести себя с ними так, что позже они все были на нашей стороне.
НА СВОБОДУ
Наступают Пасхальные праздники. Ещё навигация не началась. Я говорю грузину: «Слушай, мы же христиане! Пасха! Сделаем что-нибудь». Там уже был доступ к гражданским вольнонаёмным людям — шофёры и другие. Просим купить немного водки. Я до того водки во рту не держал, не пробовал её. Так уж сложилось. Меня несовершеннолетним арестовали, а у нас это не было заведено. Такое воспитание было. И мы сумели пронести пару бутылок. Меня поймали, когда я с работы шёл и нёс в рукаве четвертинку. Приказывают: «Иди сейчас на вахту, поужинай и придёшь в штаб». То есть чтобы я сам демократично явился. Но я не явился — три дня, все праздники прячусь в зоне. Делают пересчёт, а я где-то под нары залезу...
Прошли праздники, и начальник надзирательской службы (он был украинец, капитан Черняк), встречает меня в зоне (уже всех знали в лицо). Я прятался, пока не поймают, а всё равно буду в БУРе сидеть. Куда денусь? Такая немного комичная ситуация. А он меня встретил: «Ах ты, пацан! Что ж ты прячешься, ты хочешь подполье сделать в лагере? А ты знаешь, что тебе надо идти на свободу? Ты малолетка. Вот, пришли пересматривать дела». А я же не знал об этом. Говорили, что будет пересмотр дел. «За что ты боролся — пересмотреть дело?» — Они это всё знали. — «Ну что, — говорю, — делать, гражданин начальник?» — «Иди в барак, собирайся, тебя завтра на этап отправляют!» — «Куда?» — «Я не знаю, куда, но будет пересмотр дела».
И действительно забрали. За ту водку ничего мне не было. Были бы посадили, но случилось другое. Везут на Украину. Везли по пересылкам «столыпином». Набито, как кильки. Из Литвы, с Украины, из Белоруссии, из Латвии. У каждого было своё дело, но это уже никого не интересовало.
Такой случай. Заводят нас в Харькове, на Холодной Горе, в пересыльную камеру. Большая, где-то около шестидесяти человек, если не больше. Набито так, что негде лечь. Сидят кто с узлами, а кого везут на пересмотр дел, а кто только арестован. Много блатных бытовиков. Я сам, но скомпановался с двумя литовцами, нас трое. Я понимал, что еду на пересмотр дела. И вот такие здоровые дядьки с полными узлами. Очевидно, передачи. Только что осуждённые. Подходят к одному бытовики и: «Мужик!». Отбирают у него узел, забирают продукты. Мы, из лагеря, не имели смелости сказать: «Дайте мне что-нибудь поесть». А эти отбирают. А это такие здоровые мужчины, дядьки, наверное, в армии в своё время служили. Кто-то был каким-то председателем... И не смеют заступиться за себя хотя бы словом. Тогда литовец, Иванкус: «Что вы молчите? Да бейте их!» И вышло, что мы их подбодрили. Дядьки как вскочили, как начали молотить блатных! Сцепилась живая масса вместе, и не знать, кто кого бьёт! Открывается кормушка, чтобы нас успокоить, поливают водой...
Я еду на пересмотр дела, и те литовцы тоже. Нам могут пришить новое преступление. Мы моментально оторвались — и в угол. Разбирают дело. Надзиратели увидели, что мы сидим в углу, потому что уже знают, кто откуда пришёл. — «Скажите, кто начинал?» Мы же видели, что творилось. Блатные уже пораздевали дядек, позабирали кто сапоги, кто свитер, кто рубашку. Надзиратели вывели блатных в коридор (были добрые, видно, ребята) и ещё им добавили. А мы дали такую установку: «Дядьки, едете в тюрьму. Если будете такими смирными, как вы были здесь, то пропадёте, как поповы утята. Стоять надо за себя!»
У меня во Львове пересмотр дела: малолетний.
В.В. Овсиенко: Когда это вы прибыли во Львов?
М.А. Мелень: В начале июня 1956 года. Следствие велось ежедневно, проверяли. Здесь, в Фалише, осталось двое из того куста, с которым я был. Один в прошлом году умер, второй ещё живёт, ему уже за восемьдесят. Они только после смерти Сталина сдались органам, в 1954 году. От них зависело наше будущее — моё и побратима Владимира Морича. Они хорошо свидетельствовали: это, мол, были дети. И нас, помню, на самого Петра, 12 июля, выпускают.
Выпустили нас обоих из львовских «Бригидок» под вечер. Я одет по-зимнему, не имел даже фуражки. Ватные штаны... Львова я не знал. Мы вышли, как перепуганные цыплята. Куда идти? А я всегда с собой носил в полотенце завёрнутую зубную пасту, мыло и пару книг. Шевченко, мой любимый поэт, и венгерский поэт-революционер Шандор Петёфи. Очень его люблю по сей день. Религиозных книг не разрешали, да у нас их и не было, хотя сидело много сектантов. Их судили за антисоветчину. Итак, у меня были эти две книги — и всё. Вышли на улицу Городецкого. Нам выдали билеты до станции Стрый. Куда идти? Одни смеются, а другие, наши люди, подходят, плачут, показали, куда нам ехать, что и как.
Ночью приезжаем в Стрый. Из Стрыя до Фалиша семь километров. Идём. Тут люди с ночной смены пристают к нам, а потом: «О, целое событие!». Узнали. Прихожу я под свой дом... На минуточку прервите... Прихожу я под свой дом. Постучал в окно... Те люди, что шли с работы, стоят на дороге... И мама старенькая... Ей 82 года, встаёт: «Кто?» — «Это я, я — Мирослав». — И мама упала (М.А. Мелень плачет). Я выбиваю дверь — люди помогли... Три года она не имела вестей. Уже службы Божьи за меня служили, парастасы, панихиды по мне, всё, что можно было. И — является сын... Я сейчас немного успокоюсь — прошу, выключите. (Выключение диктофона).
Простите, что я сейчас плачу, но сейчас уже и нервы, и возраст не тот. А когда мне надо было как можно быстрее отца похоронить, потому что большевики забирали бы тело... А потом куда они убитых девали? У нас тысячи неизвестно где похоронены, что находим ныне по свалкам... Напоминаю, что отец был убит под домом на самый Сочельник. Так я, несовершеннолетний, хороня отца, слезы не проронил. Я только зарубил себе на носу, что я должен отомстить за смерть брата, за смерть отца. Я должен отомстить. И, как мог, я боролся с той властью. А сегодня уже расслабился, плачу, вы простите мне.
Когда нас выпускали, прокурор давал наставление, чтобы не разглашали тайны, потому что есть такие-то и такие-то законы. Я спрашиваю, имею ли право поступать учиться. Я тогда не понимал, что такое реабилитация. Он сказал: «Вы полноценный гражданин, можете учиться». Это меня очень обрадовало. Начинаются вступительные экзамены. До конца июля, ещё не имея паспорта, я поехал поступать в Дрогобычское музыкальное училище.
В.В. Овсиенко: А как было квалифицировано то освобождение?
М.А. Мелень: У меня где-то есть справка, квалифицировано так: «Нет состава преступления». И как несовершеннолетний. Мотивировалось там по закону о пересмотре дел тех, кто был арестован несовершеннолетним.
В.В. Овсиенко: Это была всё-таки реабилитация?
М.А. Мелень: Да, это была реабилитация. Нас всех тогда реабилитировали — и моего друга Владимира Морича, и тех, у кого были небольшие сроки, по 5 лет. За ОУН, но только за листовки. А у нас с Моричем была другая статья.
Я тогда сразу поступил в Дрогобычское государственное музыкальное училище на дирижёрское отделение. На второй год параллельно поступил во Львовский университет. Когда совпадали сессии, то я просился сдать первым, брал такси и из Львова в Дрогобыч ехал на экзамен. Было и такое.
В.В. Овсиенко: А какой факультет во Львовском университете?
М.А. Мелень: Во Львовском — филологический. Я хотел на журналистский, но такого тогда ещё не было. С третьего курса было журналистское отделение, но в дипломе написано «украинский, филологический». Я работал и в школе, и писал, так до сих пор. За три года я окончил четырёхлетний курс училища. Я музыку немного знал и любил, так с первого курса экстерном сдал на третий и окончил училище в 1958 году. А университет окончил в 1961 году.
УКРАИНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФРОНТ
Тут и начинается новая моя эпопея. Когда мы сдавали вступительные экзамены, в коридорах университета нас было много. Набирают только одну группу, 50 человек, а нас набралось семь групп абитуриентов по 50 человек. Вижу по лицам, кто есть кто, потому что таких, как я, было много. И вот там я познакомился с Зиновием Красивским. Он приехал из Караганды и тоже поступает в университет. Разговорились мы — интуиция подсказала. Он уже в Караганду после экзаменов не поехал. Я беру его домой в Фалиш и мы тогда сошлись как духовные побратимы, по идее, по борьбе, по всему. Потому что у него тоже вся семья — два брата погибли, родители высланы, умерли.
Живя у меня в Фалише, мы часто разговаривали на больные темы. У нас ещё были парни-побратимы. Мы не могли примириться со страшным наступлением на всё украинское. А особенно тогда заставляли бывших участников освободительной борьбы, членов ОУН, УПА выступать с раскаянием. Почти каждый праздник, то в субботу, то в воскресенье в каком-то селе делали общие собрания на тему осуждения ОУН и УПА. Это было страшное дело. Я незаметно побывал в одном селе, в другом. Нас это очень оскорбляло. Что делать? Примиримся ли мы и будем молча слушать, как топчутся по нашим национальным украинским идеям, по государственности?
Мы обсуждали разные варианты. И вот наступает 1963 год. Приезжает к нам из Вытвицы — это родина Зиновия Красивского — его знакомый, старше его, Богдан Равлюк. Он работал учителем истории там же, в селе Вытвица. Ему болит то же самое, что и нам. Он никак не может примириться. Они как родственники между собой разговаривали. А потом мне Зиновий рассказал, что есть люди, которые тоже не могут с этим примириться. Богдан Равлюк через некоторое время приехал к нам снова и рассказывает, что у него тоже есть единомышленник, учитель истории, работает, кажется, в селе Кропивники на Калущине. Это — Квецко Дмитрий. Тоже носится с той идеей, что-то уже пробует писать — как быть дальше.
Я знаю законы конспирации, что где двое — то уже не секрет, а где трое — то огласка на всё село. Но поговорил с Зиновием — и присоединяюсь. Где-то через месяца два приехали к нам Богдан Равлюк и Дмитрий Квецко. Мы с Зиновием тогда уже перебрались в Моршин. Зиновий жил на своей стороне, а я на своей. Мы вместе строили дом, вместе всё делали, у нас всё общее. Никто никогда никого не спрашивал, сколько что где стоит: что могли — доставали, кто как мог работал. И вот приезжают они в Моршин. Решаем создать организацию, которая бы продолжила традиции освободительной борьбы Организации Украинских Националистов.
В.В. Овсиенко: Важно отметить, когда состоялось это собрание.
М.А. Мелень: Это собрание состоялось ранней весной, где-то в марте 1964 года. Обсудили вопрос, что мы составляем костяк. Я тогда познакомился с Квецко, но сразу предостерёг: если, не дай Бог, что-то, я не знаю вас, а вы не знаете меня. Потому что я знал, как по советскому закону судят групповое дело, а как одиночку. Так мы и договорились. Потом, когда следствие доказало, что он икс раз был в Моршине, то я сказал, что не знаю его, а приезжал он на холостяцкую вечеринку к сестре. Потому что у моей жены пять сестёр, одна, Стефа, — жена Красивского. Так я, мол, тем не интересовался, я его не знаю. Так я на следствии вёл до конца в отношении Квецко.
Итак, решили. Но чтобы что-то организовать, надо иметь какое-то средство, чтобы была какая-то трибуна, какое-то печатное слово. Потому что так поговорил — поддержка есть, сочувствие есть — и на том кончалось. Не хочу сказать, что наши шестидесятники сделали мало или что-то не так, но с точки зрения члена ОУН я откровенно скажу, что у нас, на Галичине (я имею в виду Михаила Горыня и многих других) — это было чистое культуртрегерство: собрались, поговорили, прочитали стих, спели. Это очень хорошо, был большой прогресс! Но не было никакого устава, обязательств. А у нас? Мы работали по уставу, так сказать, по канонам Организации Украинских Националистов. У нас, кто присоединялся, должен был знать Декалог и правило «О делах говори с кем надо, а не с кем можно», и что «добудешь или погибнешь», и всё то, что было в Организации Украинских Националистов. Сейчас не время для вооружённой борьбы, но, если надо будет, то мы должны взять и оружие. Всё это принципы ОУН, абсолютно.
Решили мы издавать журнал. Думали, как его назвать. Но прежде всего: как назвать организацию? Потому что назвать её Организацией Украинских Националистов — это будет какой-то плагиат. Нельзя, потому что ОУН, как известно из истории, была уже нейтрализована после убийства Романа Шухевича. Были попытки как-то продолжить её. После смерти Шухевича Василий Кук (псевдоним Лемиш, он сейчас в Киеве проживает) заступил на место Шухевича, возглавил вооружённую и теоретическую борьбу всего национального подполья. Он держал в руках её руководство до ареста в августе 1954 года.
Кстати, хочу сказать, что когда его арестовали, то мы были в Норильске. Приходили новые люди и сказали, что арестовали Кука. Мы знали — и я, например, и те, что были со мной, — что подполье после Шухевича возглавляет Василий Кук. Очень загадочные обстоятельства его ареста породили разные слухи и версии. Больше было негативных. Вот даже Иван Губка, который был с нами тогда в Норильске, да и другие ребята говорили, что нельзя простить всё это. Кто вернётся, тот должен выяснить этот вопрос до конца. Ну, теперь время уже всё выяснило, что Кук — человек честный, что у него на совести нет ничего нечестного в отношении нашей идеи, никого он не запродал. Его коварно поймали. А большевики умели это делать.
Вот я знаю из Ходоровской группы Фёдора Дроня. Один из них, Сорока, получил смертную казнь, и расстреляли его. А Дронь Фёдор остался. Так они делали так. Их в группе судили 40 человек. И тем, у кого были меньшие сроки, большевики вдруг дают помилование. И бросают тень, потому что помилование — значит, он, наверное, должен быть стукач. Человек Богу душу не виноват, но недоверие посеяно. Раз тебя помиловали, значит ты что-то там должен был сделать, за красивые глаза не милуют. И вот уже у вас раскол, уже нет единства в организации. И уже до смерти не будет. А сколько сошло с арены в бесславии незаслуженно! Враги знали, как топтаться по нашей чести, тем более использовать ментальность того многосотлетнего хохла. Вот такое случилось и здесь.
Я хочу вернуться к этой теме. В Норильске, в первом заключении, нам запрещали собираться. Так мы тайно сговаривались: слушай, вот юбилей Шевченко. Так после работы придём в такую-то секцию, в такой-то барак. Там тот скажет несколько слов, а ты помнишь стих, так прочитаешь, или споём потихоньку. Когда надзиратели узнавали, то сажали нас за это. Я принимал активное участие в таких вечерах. В Норильске мы готовили фрагменты из «Назара Стодоли» Шевченко. Кто-то там знал роли наизусть, но больше всего профессор Михаил Дмитриевич Антонович. Понаписал нам: «Хлопцы, так и так». Он там писал историю Украины и мы те рукописи изучали. 25-летники — кто знал, что мы вернёмся? Но мы об этом не говорили. Какой был дух! Это 25 лет! Где я пересижу в тех условиях? Но работали и о том не думали: вернусь или не вернусь. Идея была превыше всего. Вот этот момент я хочу подчеркнуть.
А когда я попал во второе заключение — я забегу немного вперёд, — то заключённые в Мордовии осуждали любое участие в самодеятельности. Я попал в Мордовию со Львовской телестудии. Моршинская самодеятельность была показательной на весь Советский Союз. Мы выступали на профсоюзных съездах медицинских работников во Дворце съездов. Так я там должен был петь «Партию славлю», потому что другого не было. А в Мордовию мне жена привезла аккордеон, я собрал людей и вот пел «Вівці, мої вівці...», ещё что-то на «бис». Так меня за это некоторые осуждали, что «помогаю партии», сотрудничаю с теми... Я говорю: «Почему? Я же не пел, что &bdquoславлю партию“. Я пел то, чего душа моя хочет петь, украинское». Но мне даже в глаза потом упрекали, и Горынь, и другие. Ну, я ответил: «Как хотите говорите, но я не обесчестил украинскую идею, что я спел &bdquoВівці мої, вівці...“, или &bdquoЯсени“, или &bdquoЧервону руту“, или &bdquoДва кольори“».
Но вернёмся к делу. Значит, организуем журнал. Во-первых, как назвать организацию? ОУН — нельзя. ОУН парализована, мы не возьмём на себя миссию восстановления ОУН — у нас нет таких полномочий. Скажут, какой-то плагиат. Не надо. Дмитрий Квецко много над этим думал. Он, так сказать, был «паровозом», тут надо отдать должное. Квецко шёл первым в деле. На суде ему смертной казни просили. Так он: «Национальный фронт». Все сразу подхватили — идея замечательная: «Украинский национальный фронт».
Теперь журнал. Кто-то предлагал «Воля», Михаил Дяк предлагал «Сурма». Но коллективно родилось название «Воля и Батькивщина». Я немного рисовать умел, а тут ещё до сих пор живёт художник-самоучка, способный парень. Он тоже первый раз сидел за освободительную борьбу. Я представил себе трезубец в терновом венке и это клише «Воля и Батькивщина», примерно нарисовал, а он усовершенствовал. Потом Зиновий Красивский вырезал — он умел делать печати всякие, имел к этому способность. Как сделает печать, пусть гербовая, не имеет значения — один к одному. Когда впервые убегал из Караганды, то сам сделал себе документы. Потом его поймали, дали пять лет за побег. Он не был осуждён первый раз, его вывезли с родителями в Караганду в 1945 году. Я ещё вернусь к этому, потому что тут есть некоторые недоразумения со сроком заключения. Я это знаю так, как будто это был я, потому что мы были два ближайших друга много лет и в одном доме жили.
Когда Зиновия Красивского вывезли, он решил бежать из Караганды сюда, во Львов. Так он сделал себе справку, сам подделал себе печать и сбежал. Тут его поймали через несколько месяцев и дали срок 5 лет за нарушение паспортного режима. Потом он жил с родителями, работал в шахте. Там попал в страшную катастрофу, получил инвалидность второй категории, пенсию получил. А уже когда были мы здесь, он женился на сестре моей жены. В моём доме была его свадьба. Тут родились его дети — Мирося, что сейчас в Канаде, а Славик ещё здесь. Мы вместе жили и работали, а потом нас вместе судили.
Итак, решили — журнал «Воля и Батькивщина». Первый номер печатался в этом доме, с той стороны, в комнате Красивского. Первый номер, второй и третий. Как собирали материалы? Квецко писал, Красивский писал и я частично, но меньше. Больше всего писали Квецко и Зенко. Я кое-что корректировал. У меня практически не было времени, но где было достать новости? Связей с заграницей тогда не было. Итак, мы распределили обязанности. У меня есть «ВЭФ» — радио, тот «Урал» ламповый. Вот я слушаю Би-би-си, а ты слушай «Немецкую волну». Что сможешь, запиши.
Таким способом доставали новости, потому что журнал охватывал политические дела, но были и новости из мира, и даже спортивные. Журнал охватывал всё понемногу. Я ещё заангажировал профессора Зиновия Гузора. Работал и сейчас работает в Дрогобычском педагогическом, пенсионер. Он много подкидывал материала. Печатали мы статью «По поводу процесса над Погружальским», Ивана Дзюбу и прочее. Когда вышел первый номер журнала — радуемся. Я говорю (правда, Квецко тогда здесь не было, но Зенко был, Голубовский): «Парни, если мы будем работать и продержимся полгода в таком плане, то мы счастливы от Бога». А мы, слава Богу, продержались три года. Это феномен в то время, уникальный случай. Потому что если бы мы писали и под фундамент прятали — ну, то можно было и до сих пор это делать, и никто бы не знал.
Шутили, что мы продержимся не больше, чем полгода, если будем работать такими темпами и такими методами. А иного выбора не было. Раз обязались — будем работать. Тогда проходил съезд — я не знаю, какой по номеру, — Коммунистической партии. Мы решили отправить на съезд Коммунистической партии заявление-декларацию, что мы есть.* *(См. «Меморандум Украинского Национального Фронта XXIII съезду КПСС». Март 1966 года. В книге: Украинский Национальный Фронт: Исследования, документы, материалы / Сост. М.В. Дубас, Ю.Д. Зайцев — Львов: Институт украиноведения им. И. Крипякевича НАН Украины, 2000. — С. 274-275). Потому что до того трактовалось так, что каждое националистическое проявление — это заграничная провокация. А мы хотели доказать, что мы есть здесь, что это не провокация. Хорошо скомпоновали декларацию. Её отвёз в Киев Михаил Дяк. Он старший лейтенант или капитан милиции. Его Квецко привлёк в свою группу.
Михаил в милицейской форме отвёз и бросил так, что уже на второй или третий день на съезде партии это письмо читали. Щербицкий вызвал Никитченко, который тогда возглавлял КГБ при Совете Министров УССР: разобраться и доложить. С тех пор начинается активный поиск.
В.В. Овсиенко: Интересно, как это можно было проникнуть на съезд?
М.А. Мелень: Он бросил на почте в Киеве. Был какой-то там почтовый ящик съезда. Он лично отвёз, чтобы бросить непосредственно в ящик. Я не знаю, где, потому что я там не был. Так что уже на второй день это письмо было в руках Щербицкого.
Мы начали работать очень активно. У меня была довольно богатая библиотека, которая осталась мне ещё по брату, по родителям, но она была у людей. Я свёз сюда. У меня ещё есть довольно большая библиотека. Когда нас осудили, то от Зенко Красивского и от меня вывезли целую бортовую машину книг, ЗИЛ. Потом продавали её на аукционе, потому что присудили конфискацию моей части имущества. Жена выплатила книгами. Некоторые люди, которые покупали, отдали их мне, когда я вернулся. Я возвращал им деньги, а большинство пропало.
Как начиналась наша деятельность? Я об Ивано-Франковской группе Дмитрия Квецко ничего не знаю. Знаю, что она существует — и всё. А кто, что? Я, зная законы конспирации, подбираю людей. Вот эти люди, называю конкретные фамилии: Иван Губка во Львове (он сейчас областной проводник Конгресса Украинских Националистов). Очень активно работал. Организовал Львовскую группу, аж на Волынь пошла его сеть — Корольчук и другие (это потом выяснилось). Здесь из Сколе Горошко Евгений, из Дрогобыча профессор Зенон Гузор. Из Черновцов Грицько Прокопович. Во Львове Богдан Крыса (мы уже говорили о нём). А они дальше находили людей. Как было у них — это их дело. Я на телевидении ещё привлёк очень активного Александра Герановича (сейчас в Америке). Был главным режиссёром музыкальных передач Львовского телевидения.
Многим я давал литературу (давал, кому верил), но чтобы я сказал, что они были заангажированы, связаны присягой — такого не было.
В.В. Овсиенко: А какое количество журналов издавалось?
М.А. Мелень: Издавалась одна закладка — шестнадцать или семнадцать.
В.В. Овсиенко: На тонкой бумаге, да?
М.А. Мелень: На тонкой бумаге. Как это Зенко делал? Только теперь кое-что выяснилось. Когда началось печатание журнала — видим, в доме нельзя. Потому что здесь было много отдыхающих. Зенко печатает, машинка стучит... Надо искать какое-то другое место. Дмитрий Квецко организует бункер. Он вам расскажет, где конкретно. Ну, я теперь уже знаю, где. Я предупреждал, чтобы никто не знал. Подобрал себе одного человека, они вдвоём выкопали. Мы материалы собираем, здесь откорректировали — и Зенко в субботу или когда там берёт рюкзак, едет в Болехов, а из Болехова — туда.
Несколько раз мне говорил: «Да поехали вместе!» Я ему отказывал категорически. И подчёркивал: «Зенко! Конспирация! Где нас будет трое, там уже потом будем друг на друга валить. Знаешь ты, знает Квецко — и достаточно». Когда Зенко сказал, что там холодновато, надо сделать обогрев, то я заказал парню (который тоже был ангажирован нашей организацией), он сделал и отвёз только до Болехова. Звали парня Сардынец Степан. Живёт в Тернополе. И хорошо, что так случилось. Потому что когда потом нас арестовали... Но сначала закончу о бункере.
Итак, арестовали. «Где это делалось? Где? Поведи! Покажи!» Я хоть бы и хотел им сказать — не знаю. Это была бы битая карта. Я не говорю, что случилось предательство, но повёз их туда Красивский. Теперь книга выходит, которую Юрий Зайцев выпускает. Там даже есть фотография, как он нам показывал*. (*Украинский Национальный Фронт: Исследования, документы, материалы / Сост. М.В. Дубас, Ю.Д. Зайцев — Львов: Институт украиноведения им. И. Крипякевича НАН Украины, 2000. — С. 335-336). Итак, повёз их Красивский туда, где печатал. Это не какое-то предательство, а только точка над «i». Но ходили такие сплетни — может, и до вас доходило, — что «Мелень выдал тот бункер».
В.В. Овсиенко: Я ничего такого не слышал.
М.А. Мелень: Но до меня доходило, потому что Горынь намекал, что где-то кто-то там обмолвился — то ли Квецко, то ли Зенко. Я этого не исследовал, но это меня очень ранило. А оправдываться — перед кем и с чем? Ну, говорят: время — тайное станет явным.
Мы думали и планировали так, чтобы, по возможности, откликаться на каждое событие. Вышло таких номеров журнала у нас, по-моему, шестнадцать. Я их брал, Грицько Прокопович приезжал. Кто как сколько мог, перепечатывал и распространяли каждый себе, а первый экземпляр для архива оставляли, который был у Богдана Черниховского.
В.В. Овсиенко: Так ведь небольшой тираж — одна закладка. Его ещё размножали?
М.А. Мелень: Да, ещё размножали, потому что мы не могли обеспечить всех. Грицько брал. Я говорил ему: «Ты, Грицько, сядь за машинку или подбери человека, да и перепечатайте четыре-пять экземпляров». И так далее размножалось. Тогда ещё ксероксов, множительной техники не было. Но работа шла на высоком уровне.
АРЕСТ УНФ
Начинается выслеживание. Мы почувствовали, что за нами «пасутся». Когда нас арестовали, я в тюрьме не смог понять, кто нас продал. Позже я спросил Дмитрия Квецко. Он заангажировал покойного теперь Ярослава Лесива, учителя физкультуры. Очень большой патриот, молодой парень, был самый молодой из наших, очень преданный идее. После окончания физкультурного училища его послали куда-то на Донетчину. Он там хотел кого-то привлечь, кому-то там дал журнал. Тот сыграл «своего парня», но отнёс в КГБ. У него спросили, откуда, что и как. Так пошло следствие, пока не дошло до Моршина.
Перед 23 марта 1967 года я готовил на телевидении большую музыкальную передачу «Бойковская свадьба» — это и музыка моя, и либретто. Типа оперетты. Тогда вводили «новые традиции»: брак регистрирует в сельсовете женщина, так новая семья рождается. Записываемся мы день, два. Самодеятельность была очень сильная: танцевальная группа, оркестр... Запись длилась три дня. Они едут домой, а я остаюсь. Был последний день перед арестом. Мне говорят, чтобы остался — в обкоме будет обсуждение с этнографами: некоторые обряды и традиции надо изменить. Остались. Приходим. Привели в отдел агитации обкома, или как он там назывался. Говорят мне, что надо кое-что изменить. Потому что по сценарию у меня заканчивалось Лысенковским «Где согласие в семье, там мир и тишина. Их Бог благословляет...». Как это «Бог благословляет» советского человека? Начинается дискуссия.
Выхожу оттуда, переночевал и утром еду домой. В автобусе подсели ко мне двое. Привезли из Львова в Стрый на вокзал. Только выхожу из автобуса — они сразу меня под руки. Так будто коллеги на пиво, что я не успел и сориентироваться, — и сразу в «Волгу». Перед тем был вопрос: «Оружие есть?» К чему они? Знают, что еду из Львова, — я бы с «оружием» ехал? Но это у них, видно, такая традиция.
Привезли в тюрьму, в одиночную камеру. Долго наше следствие длилось. Слышу стук: там, там, там. Я уже знал, что Губка сидит арестованный, Прокопович сидит. Мы каждый в одиночках. А Зенка нет. Где-то через месяц, два или три узнаю, что Зенко в Ивано-Франковске, Стефа туда передачи возит.
Когда-то было так: «Нет, не знаю». А теперь у них был весь материал, как на карте выложено. Я читал обращение Бандеры к украинской молодёжи — название примерно «О перспективах украинской революции». Он говорит, что надо отстаивать идею на должном уровне. Да мы уже и сами дошли до того, что не отказывались: «Да, я это сделал». И Зенко говорит: «Да, это я сделал. Я это написал». Следователь тогда: «Так кто же из вас это сделал?» Каждый брал всё на себя.
Вступаем в дискуссию на следствии. Следователь, полковник Клименко, он дело Зенко вёл, а Кирста — моё. Так как завяжется разговор — я его загоняю в тупик, потому что уже откровенно говорю о советской действительности. Так Клименко в конце: «Давай перестанем! Я на работе. Отвечай на вопросы!» Понимаете: «Я на работе». Потому что ответить он уже ничего не может — насчёт языка, культуры, истории, экономики.
(В.В. Овсиенко: 3 февраля 2000 года в машине по дороге из Стрыя п. Мирослав Мелень дополнил.
М.А. Мелень: Как только началось следствие, нас поодиночке, каждого отдельно (потому что мы сидели в отдельных изолированных камерах) заставляли одеться чистенько, побриться, и машиной возили из тюрьмы на Лонского в Управление КГБ на Дзержинского.
Вот меня заводят в кабинет. За столами какие-то неизвестные люди. За столом сидит и представляется: «Я — Никитченко (имени не помню) — председатель Комитета государственной безопасности при Кабинете министров. Мы хотим поговорить с вами, продискутировать некоторые вопросы. Вот первый вопрос: что вас толкнуло на антисоветскую деятельность?» Этими вопросами морочили нам головы по два-три дня. Они исследовали: может, программа в университете не такая, что побуждает нас к антисоветской деятельности. Ведь антисоветчики — это преимущественно гуманитарии, хотя были и технари.
Реплика (п. Зеленский): Что за почва?
М.А. Мелень: Да-да, какая почва антисоветчины, чем мы недовольны, кто пробуждает антисоветские настроения. Потом управляющий Управлением генерал Полудень мне лично говорил: вот вы имеете семью, маленьких детей, вы только начинаете становиться на ноги, всячески восхвалял, что «умный» и прочее, а тем более «работаете на телевидении», мы знаем, что вы умеете писать — пишите. А если нет, то мы напишем, вы дайте согласие или выступите и раскайтесь в националистической идее — и идите домой, работайте на здоровье. Однако никто из нас на это не согласился. Все мы были молодыми, все мы имели семьи — но ни один не согласился на какое-либо раскаяние. Все мы были осуждены и отбыли своё, — то, что нам присудили.)
М.А. Мелень: Под конец следствия дают мне свидание с женой. Она спрашивает: «Брать адвоката?» Говорю: «Зачем? Жалко денег. Ну, что оно мне даст?». Но Клименко говорит: «Это ваше дело. Мы дадим государственного, если вы не возьмёте». И жена всё-таки берёт. Берёт с учётом того, чтобы хоть сказал, когда суд будет, потому что это всё было тайным. Поговорила с тем адвокатом — это женщина, ковпаковка, бывшая партизанка. Говорит мне: «Чтобы хоть имела возможность детей подвести, когда тебя будут на суд из воронка вести... Я сообщу». Это же очень важно, вы это переживали, так что знаете.
И вот после окончания следствия знакомство с адвокатом. Клименко вышел, оставляет материалы дела. Я первым делом спрашиваю: «Так вы будете меня защищать?» — Она говорила на русском языке, так ломано, «суржиком». — «Вот вы уже знакомы с моим делом? Скажите, как вы будете меня защищать? Хорошо ли я делал, или я плохо делал? Или что-то было хорошо, а что-то плохо?». А она так смотрит на меня и говорит: «Вы же умный человек: если я буду защищать вас в таком аспекте, как вы говорите, то завтра надо будет меня защищать». Такова была роль адвоката.
Судили нас каждого отдельно. Мне дали шесть лет. С Грицько Прокоповичем на этап пошли вместе.
В.В. Овсиенко: А когда суд был?
М.А. Мелень: Суд был в сентябре... Я уже не помню даты. Нас арестовали 23 марта 1967 года, а в Мордовию мы прибыли уже в 1968 году. Почти год длилось следствие. Суд где-то в сентябре, в конце лета.* *(Львовский областной суд вынес приговор по делу М. Меленя 26 августа 1967 года: 6 лет лагерей строгого режима и 5 лет ссылки по ст. 62 ч.1 УК УССР «Антисоветская агитация и пропаганда». — Ред.).
МОРДОВИЯ
Нас только в 1968 году привезли в Мордовию, на 11-й лагерь. Всех вместе. А Гриць как говорил? Ведь нас судили примерно в то же самое время. Ещё будете с Квецко говорить. В приговорах есть, когда это было.
Привезли нас в Мордовию. Комиссия — кого, куда. Меня — в аварийную бригаду, где надо было разгружать вагоны. Там я встречаю тех парней, у которых восьмой пункт — террор. Я с ними сидел ещё в 1948 году. Они уже досиживали 25-летний срок. Это Соколик Василий из села Станкова, сосед Сидор Попович, Кудибин Иван, Долишний Иван, Подгородецкий Василий. Вот мы там все вместе и встретились.
В.В. Овсиенко: Одиннадцатый лагерь — это посёлок Явас?
М.А. Мелень: Явас. Там уже были Михаил Зеленчук, Богдан Горынь, Иван Гель, Опанас Заливаха, Михаил Дяк, потом Ярослав Лесив из нашей организации. Коробань Николай из Броваров.
В.В. Овсиенко: Может, Андрей Коробань?
М.А. Мелень: Нет, это Николай, он из-под Киева. Была с нами в Мордовии интересная группа Огурцова — Садо из Ленинграда. Садо — перс. Были Анатолий Радыгин, Юрий Вудка, Юрий Гендлер (Из Ленинграда, он запротестовал против введения войск в Чехословакию в 1968 году.&ndash В.О.) — те евреи, что добивались выезда. Порядочные ребята. У всех было высшее образование, было с кем поговорить. Вот Солженицын... Нет, не Солженицын, а тот, что сейчас во Франции ведёт журнал «Континент»...
В.В. Овсиенко: Синявский?
М.А. Мелень: Да, Андрей Синявский. Он был дневальным... Я уже работал в бригаде на ДОКе токарем. Эти футляры и часы-кукушки делали. До сих пор как увижу их, так меня трясёт, потому что я там и палец немного обрезал... Синявский подметал в цеху. Когда была свободная минута, у нас возникали дискуссии. За украинство — с тем Евгением Вагиным. Отец его где-то послом был. Помню, где-то в 1970 или 1971-м году приходит «Археологический журнал», или как он назывался? Когда на Даманском острове были конфликты с Китаем, то москали хотели доказать, что это «исконно русская» территория. Велись раскопки, что там похоронены...
В.В. Овсиенко: «Истинно русские»?
М.А. Мелень: Да, «истинно русские». Возник вопрос о происхождении рас. Я где-то слышал, это у Грушевского есть, что москали — монголоиды, а мы — европеоиды, белорусы так же европеоиды. Так какие мы братья? В том журнале будто нарочно это было. Читаю: «Так смотри. Какие мы братья? Как одна мама может родить монгола и европейца?» Такие были дискуссии. Но толерантные, без оскорблений. Очень интересные дискуссии, потому что это люди образованные, патриоты России. Но всегда у нас было несогласие, почему Украина отделяется, ведь это, мол, одна нация. Малороссия, как Солженицын написал в книге «Как нам обустроить Россию». Особенно острые разговоры были с Вагиным из группы Игоря Огурцова.
В.В. Овсиенко: Я знаю Вагина и Аверочкина из той группы.
М.А. Мелень: Да-да, Аверочкин, Садо.* *(Упомянутые здесь Вагин, Аверочкин, Садо, Огурцов — члены ВСХСОН — «Всероссийский социал-христианский союз освобождения народов». Эта монархическая организация возникла в Ленинграде в 1964 году. Осуждены в 1967 году. — Ред.) Это были толерантные ребята, умеренные. Им за такие дела давали по 4-5 лет, а у нас на Украине расстреливали. Имеет связь с НТС, оружие, деньги, литературу — и ему дают 4 года! А нам только за какую-то статью давали по 10 да ещё с ссылкой. Украинская фемида была очень услужливой. Это требует исследования. Я очень похвально отношусь к тем братьям Вудкам, евреям, которые очень объективно исследовали вопрос об отношении к ним, почему к ним такая ненависть. А Хейфеца я не читал — думаю, что как-нибудь достану.
В.В. Овсиенко: Разве были братья Вудки? Я знаю одного Вудку и его книгу «Московщина». И скоро выйдет трёхтомник Хейфеца, думаю, достаточным тиражом. (См.: Юрий Арье Вудка. Московщина (Мемуарный эссей). Украинское издательское общество. — Лондон, 1978 Михаил Хейфец. Избранное. В трёх томах. Харьковская правозащитная группа. — Харьков: Фолио, 2000).
М.А. Мелень: В Мордовии многие писали. Там было немного легче — можно было что-то и передать. А вот первый раз — это была жёсткая изоляция.
В.В. Овсиенко: Это не идёт ни в какое сравнение.
М.А. Мелень: Это нельзя сравнивать. Там были совсем другие условия. Мы во время Норильского восстания ставили требование о выходном дне и восьмичасовом рабочем дне, вывезти инвалидов, снять с бараков решётки, потому что всё было закрыто. Страшные условия. Нельзя было и птице перелететь через зону (хотя там они и не водились). А общение какое? Два раза в год письмо — и то если начальник разрешил и у вас нет нарушения режима. Вот и весь контакт со свободой. А в Мордовии намного легче. Я имею то преимущество, что могу сравнить первое и второе заключение.
В.В. Овсиенко: Пани Евгения, жена пана Меленя, рассказывает о поездке на свидание.
Е.М. Мелень: Был один интересный момент, когда я встретилась с женой Синявского — Марией.
В.В. Овсиенко: Где и когда это было?
Е.М. Мелень: Вы знаете, я не могу вспомнить, какой это был год.
М.А. Мелень: Где-то 1969-й, Явас, Мордовия.
Е.М. Мелень: Мы идём на свидание, и я вместе с ней. В то время очень, как москаль говорит, «тщательно», очень тщательно всё проверяли. Не дай Бог, чтобы ты чего-то не пронёс — ни чего-то алкогольного, ни какого-то металла. А надзирателями были мужчины. Первой идёт Мария, за ней я. И вот Марию специально руками ощупывают — это надо было пережить, чтобы тебя руками ощупывали. Заставляют снимать с себя верхнюю одежду. Мария, правда, разделась, сняла одежду, стоит в рубашке. Насмехаются: «Ещё и это сними». Да ведь под рубашкой ничего не спрячешь! Надзиратель начинает её гладить руками. Мария не выдерживает и ударяет его по лицу. Тут уже случилось действительно непредвиденное — все свидания закрыли, не разрешили. Пришлось ждать ещё дня два. Но это стало толчком к тому, что уже потом нас проверяли не мужчины, не гладили и не тыкали руками, куда надо и куда не надо. Уже с того времени были женщины. Этого добилась жена Синявского.
В.В. Овсиенко: До этого были менты, а теперь ментовки.
Е.М. Мелень: О, о! Кто на какого попадал, кто был лучше, кто хуже, но тот момент очень чётко мне запомнился. Какое это страшное унижение — пройти тот контроль на свидание с мужем! Наверное, такое ждало и меня, если бы Мария не подняла на него руку.
М.А. Мелень: Но вы вместе ночевали. Скажи о дискуссиях по национальному вопросу.
Е.М. Мелень: Они были националистами, но России. Я не чувствовала их большой любви и привязанности к Украине. Хоть у нас свидание было в одном лагере, но сказать, что светилось в них какое-то дружеское отношение к украинскому народу — я этого не чувствовала.
М.А. Мелень: Наоборот, они насмехались, что Украина — это что-то такое...
Е.М. Мелень: Нет-нет, этого не было.
М.А. Мелень: Но я знаю Синявского — он так, как и Солженицын: Украина — это Малороссия, окраина России. Такие дискуссии у нас были годами!
Е.М. Мелень: Может, это и губит нас сегодня как государство и как нацию, что у нас нет такой сознательной интеллигенции, как у них. Хоть они евреи, но ведь евреи русские. Они только за Россию, за Союз. Любви или сочувствия к тем, кто борется за самостоятельность, у них не было. Это было будто предметом насмешки: мол, вы — да ещё и самостийники.
БЕРИЕВЦЫ
М.А. Мелень: Это было в Мордовии. Мне выпало так, что я жил в бараке, где были бериевцы. Я спал на верхних нарах, а они почти все, потому что это были пожилые люди, — на нижних нарах. Подо мной спал Атакашиев Салим Ибрагимович — он бывший министр то ли внутренних дел, то ли КГБ Азербайджана. Я не вникал в те дела, но он был высоким должностным лицом при Сталине.
И вот на «октябрьские праздники» нас на работу не вывели. Я утром вышел, сделал зарядку и возвращаюсь в барак. А он говорит мне: «Что там, Мирославчик, на завтрак в столовой?» Я отвечаю ему так шутя: «Салим Ибрагимович, сегодня там бефстроганов, бифштекс!..» Смеюсь, и он смеётся. И говорит мне — какой-то у него был приступ меланхолии или ностальгии по чему-то: «Садись сюда, я тебе расскажу, сынок». Я к нему относился по-человечески, как к пожилому человеку. Потому что другие ребята относились очень враждебно. И он мне начинает рассказывать: «Вот, — говорит, — бывало такое время, было такое время, что я брал старшего сына, съезжались мы в Кремль, а Иосиф Виссарионович созывал нас всех, и мы шли на мавзолей принимать парад». Начал так очень трогательно, даже так по-стариковски прослезился. Сын его, он рассказывал, где-то инженером работает, но преследуемый. Я говорю, что уже давно Хрущёва нет, уже Брежнев, так это Хрущёв вас завалил? Так теперь вы должны быть реабилитированы — ведь вы говорите, что это не так было? А он говорит: «Это дело не Хрущёва и не Брежнева — это дело партии, и нас теперь отпустить — это компрометация партии. Потому что тогда надо осуждать всю партию и Центральный Комитет, а они на это никогда не пойдут. Итак, я знаю, что нам выхода нет, потому что так случилось».
Спрашиваю: «Знали ли вы, что такое советская власть, об этих концлагерях?» — «Да, мы знали приблизительно, но не в такой степени. Таких издевательств я себе не представлял, что такое у нас может быть. Потому что мы демократы...» И начал популистскую коммунистическую пропаганду. Говорю: «Хорошо, а за что же вас судили?» — «За то, что мы были на стороне Лаврентия Павловича Берии. Маленков, а потом Хрущёв сделали неправильно — не надо было осуждать Сталина и его политику». Он вспоминает: «Когда меня арестовали, то мои ордена и медали не на штуки считали, а на килограммы: у меня забрали 6 килограммов орденов и медалей!». Сколько это было, я не уточнял, только спрашиваю: «А за что вы получили те ордена? Ведь вы на фронте не были?» Так он мне ответил очень коротко: «Да, я на фронте не был, но тыл был страшнее фронта, и у нас фронт длился с 30-х годов». Итак, он это признал: «Я тогда ещё не был при такой высокой власти, потому что был ещё молод, но в Советском Союзе, особенно во время войны, тыл был больше, чем на передовой. Мне за это дали ордена». — «Ну, так теперь вы на кого сетуете?» — «Ни на кого, некому — нас никто не поймёт. Я знаю, что я обречён». Такой был его разговор.
Они всегда между собой кучковались. Был ещё Лангфанг — фамилия какая-то шведская, — он был прокурором войск КГБ, с Берией они были на «ты», как он рассказывал. Был Аксёнов — комендант какой-то части в Кремле. О нём этот Атакашиев говорил, что это был «великий человек — он к Сталину без стука входил». Все они там были на уровне пенсионеров, в нашу лагерную столовую очень редко ходили, получали очень большие посылки — кто им присылал, не знаю. В основном, когда люди шли обедать, они собирались у Лангфанга — он был заведующим каптёрки. Там они ели. Ходили в кабинет к начальнику лагеря полковнику Усову. Когда они шли по зоне, то полковник Усов, который был начальником 11-го лагеря, отдавал им честь так, будто генералам, что очень странно было, какая субординация и уважение было к этим кагэбэшникам... Хотя для него все они были заключёнными.
Было такое. Заставили нас копать котлован — устанавливали какую-то большую новую пилораму. Потому что в зону завозили лес, а на выходе получалась мебель. Я был в аварийной бригаде, копаем котлован. И вдруг натыкаемся на кости. Какие-то черепа, присмотрелись — а это человеческие кости. Мы отказались — не будем копать. Моментально доложили в управление, в течение часа из Яваса приехало много начальства, человек 8&ndash10, самые высокие чины. Осмотрели, нас в сторону. Я услышал такую фразу: «Сволочи! Даже следов не могли замести за собой!» Это мы, заключённые, услышали. Мы больше не копали — категорически отказались. Тот котлован докапывали бесконвойные, и всё-таки поставили там пилораму на костях. Это было в Явасе, на 11-м лагпункте, где-то в 1968 или 1969 году.
Помню, как освобождался один бериевец. Он был начальником контрразведки — так говорили в лагере, но что бериевец — это точно. Фамилия его Кокучая, грузин. Симпатичный мужчина, ему уже было в то время где-то под шестьдесят или за шестьдесят, но очень атлетически сложённый, фигура — красивый мужчина. Освобождается. Мы все вышли посмотреть. Жилая зона была так под горку расположена, что виден был весь низ и дорога. Съехалось где-то больше 15 «ЗИМов», были и другие машины. Кокучаю провожали, как какого-нибудь начальника на пенсию. Начальник лагеря полковник Усов бегал возле него, и капитаны, и дежурные, и милиция, и надзиратели. Странно было, что заключённому так прислуживает эта кагэбэшная рать. Какая субординация: освобождают заключённого — и служат ему. Вот что значит дух кагэбэшника, дух коммуниста. С другой стороны, это даже похвально, надо брать пример, как уважать друг друга.
ОСВОБОЖДЕНИЕ
Я там так же писал стихи, писал очень много. Контакты были уже лучше. Уезжал в Израиль Юрий Гендлер, так я передал ему кое-что. Он говорит: «Я там, может, что-нибудь...» Пропало. Не знаю, вывез ли он их, — никакого отклика до сих пор нет о тех тюремных стихах. А если бы это хорошо собрать, то, что пропало... Так мне жаль, ведь это всё моё... Ну, раз пропало, то не вернём.
Оттуда я и освободился.
В. В. Овсиенко: Что, вы всё время были в 11-м лагере?
М. О. Мелень: Я до 1973 года был в 11-м, а потом меня освободили. Жена приезжала на свидание, сказала, что написала на помилование. Так ей посоветовала та адвокатша. И мне простили ссылку. Заключение я отбыл.
Когда я вернулся домой, Зенко Красивский уже сидел в Смоленске в психбольнице.
В. В. Овсиенко: Расскажите, пожалуйста, о своей жене. Когда вы поженились? Дети же у вас есть... Пусть бы было записано.
М. О. Мелень: Женился я в 1956 году, как только вернулся, потому что жить мне было очень тяжело. Мама старенькая. Я познакомился с женой в институте, она заканчивала Дрогобычский педагогический институт.
В. В. Овсиенко: А как её зовут?
М. О. Мелень: Евгения Михайловна, девичья фамилия Юрович. Я немного подрабатывал, потому что был музыкантом. По вечерам играл в ресторане в Дрогобыче. Зарабатывал на хлеб насущный. И вёл хор в педагогическом институте. Подрабатывал, как все студенты. А у них были факультетские хоры. Там мы познакомились и подружились. Она раньше окончила институт и пришла работать в моё село. Я добился, чтобы она жила с моей мамой, а я ещё заканчивал учёбу. В 1958 году у нас родилась старшая дочь Оля, та, что сейчас во Львове. Она окончила консерваторию. Пианистка, фортепианное отделение. Но теперь работает совсем по другому профилю. Зять, муж её, кандидат технических наук, работал в Политехническом институте во Львове. Но когда нам стало очень тяжело материально, он познакомился с украинцами из Голландии, они создали совместное предприятие. До сих пор работают, рыбные изделия производят. И дочь забросила музыку. Она там директорствует. Люди привыкли к хищениям, так их двое: она — директор, и он директор — совместное предприятие. Очень тяжело, но им материально лучше выходит, чем если бы были преподавателями.
В. В. Овсиенко: А второй?
М. О. Мелень: А второй — сын. Окончил медицинский институт. Что характерно, он здесь окончил десятый класс на «четыре» и «пять». Четыре года поступал. С детства очень хотел быть врачом. Во Львов — всегда полбалла не хватает. В июне поехал в Ужгород, на медицинский факультет при университете — полбалла не хватает. Поехал в Днепропетровск — а там у него даже документы не приняли, хотя это было противозаконно. Парень приехал: «Ты откуда?» — «Из Львова». — «Ты почему там не поступаешь?» Вернулся, говорит, что документы не приняли. Тогда я нашёл знакомых в Новосибирске — он поехал и поступил там. Я сделал документы, чтобы он получил «белый билет», больной для армии. Даже мои сёстры не знали, где он. Потому что если бы кагэбэшники узнали, то наверняка бы его исключили. Он там учился до третьего курса. Когда настала Украина, я его перевёл во Львов. Во Львове закончил учёбу.
В. В. Овсиенко: Но вы не назвали его имени и года рождения.
М. О. Мелень: Любомир, 1964 года. Когда возникла наша организация — в том году он родился. Сын Красивского Зиновия, Ярослав — его ровесник. Они родились почти в один месяц. Тот тоже имеет высшее образование. Мой сын сейчас работает судебным медицинским экспертом здесь, в районе. А дочь во Львове.
Мы остались с женой, но сын живёт здесь с нами. Сейчас он на работе. Слышите, это его ребёнок? Его семья — это наша семья.
Я вернулся домой в 1973 году. Я ещё в Москву заезжал. Вернулся я, отбыв шесть лет. Месяцев на два-три раньше меня выпустили, чтобы бросить между нами, подельниками, кость: ну почему тебя помиловали?
Я вернулся в семью, а меня не прописывают. Сразу вызвали меня в Стрыйское районное КГБ, потом — во Львов. Не прописывают. Мотивация такая: «Вот видите: вас люди не хотят. Мы знаем ваше образование, мы знаем ваши способности. Поезжайте куда-нибудь на Восток. Вы ещё и директором школы будете, но уезжайте, уезжайте отсюда». — «Нет, я никуда не поеду». Так месяц, второй, третий. А каждую неделю вызывают. Тогда заявляю, что больше ни на какие вызовы не приду. Если есть что-то, то арестовывайте. Хотите, чтобы я уехал, — вывозите меня, но сам я не поеду. В конце концов меня прописали. Куда-то на работу идти — не прописан. А не прописывают, потому что нигде не работаешь. Круг замкнулся. Что делать? А семья есть, двое детей, школьники. Жена работала педагогом. Но её на работе всё время морально репрессировали. Она никогда после моего ареста не имела ставки 18 часов. Максимум 14. Классное руководство не давали. Работала в одной средней школе — вдруг переводят в неполную среднюю, а потом переводят в третью школу на группу продлённого дня, чтобы совсем уроков не было. В конце концов совсем уволили — нашли причину. Так она больше трёх месяцев вообще была без работы. Написала жалобу в прокуратуру, потому что местная власть не реагировала. Чтобы восстановили на работе, выплатили то, что упустили. В этом отношении уже было немного лучше, потому что это уже было другое время. Но всё равно больше 20 уроков она не имела. Как только выработала стаж работы, 25 лет, то сразу ушла на ту сорокапроцентную пенсию. Больше ничего ей не дали. До сих пор на пенсии.
Я хотел пойти музыкантом, чтобы утром отдыхающим физзарядку играть, есть такая профессия, — нет-нет! Устроили кочегаром, а по совместительству я иногда играл зарядку, когда не шёл в кочегарку летом. Кочегарка летом закрывалась. Был у меня оклад сорок один рубль и две копейки. Так я всегда, когда получал зарплату, говорил, что рубль можете не давать, но две копейки обязательно.
ПЕРЕСТРОЙКА, ЗИНОВИЙ КРАСИВСКИЙ И ОУН
Наступают уже 80-е, перестройка, Горбачёв. Здесь, в Стрые, наш поэт Романюк организует клуб «Аргумент». Начинается такое — это уже где-то 1988&ndash1989 годы, — выступают с такими острыми речами... Я поехал раз, думаю, что такое? Так откровенно говорят, бескомпромиссно. Наш флаг вывесили. Начальник КГБ не встаёт, говорит, что мы вас то-то. Думаю: провокация это или нет? Говорю Зиновию Красивскому... А-а, я ещё очень много пропустил о Зиновии Красивском.
Когда я вернулся, Зиновий Красивский сидел в Смоленске в спецпсихбольнице. Он считался невменяемым, так что опекуном была его бывшая жена Стефа — родная сестра моей жены. Хотя она во второй раз вышла замуж. Второй её муж был милиционером. Я нашёл пути в исполкоме в Стрые, чтобы оформить опекунство на меня. В течение месяца мы оформили опекунство. Теперь ту пенсию забирал я и давал его детям — парням. Я ему отсылал посылки, ездил к нему на свидания. В КГБ как узнали об этом — то была такая история! Начальник КГБ говорит: «Ну, смотри, один другого опекает». Мол, Красивский до ареста меня опекал, а я его после ареста. Но добиваемся — его переводят во Львов. Во Львове есть мои родственники. Один и сейчас главным врачом работает, фамилия Гульчий. Переводят Зенка в село Бережница, в психиатрическую больницу. Итак, в 1976 году Красивский уже в Бережнице. Он не имеет права выйти за зону больницы, даже должен быть только в закрытой комнате. Но я договариваюсь с главным врачом, чтобы Зенко приходил домой по вечерам. И Красивский через лес где-то километров пять приходит домой. Наконец его снова забирают во Львов на пересмотр дела — и освобождают под моё опекунство!
В. В. Овсиенко: Это в каком году?
М. О. Мелень: Это было в 1974 или 1975 году — я не помню. Всё-таки в 1974 году, потому что в 1976 году его уже забрали досиживать за Хельсинкскую Группу.
В. В. Овсиенко: Хельсинкская Группа только создалась в 1976 году, 9 ноября.
Е. М. Мелень: Как раз должна была быть Олимпиада...
В. В. Овсиенко: Так это 1980 год.* *(Здесь следует уточнить. Из психбольницы З. Красивский освобождён в июле 1978. В октябре 1979 он стал членом Украинской Хельсинкской группы. Арестован в Моршине 12 марта 1980 года и отправлен в Мордовию досиживать неотбытый срок наказания по приговору 1967 года — 8 месяцев и 7 дней лагерей и 5 лет ссылки в Сибири. — Ред.).
М. О. Мелень: На свадьбе он был старостой, когда моя дочь замуж выходила в 1976 году. А что главное — он возвращается домой, а жена и на порог не пускает. Он заходит к нам. Он жил у меня два года, как одна семья. Я тогда, чтобы отвоевать ему дом, подаю в суд.
Е. М. Мелень: Нет, это не так было. Когда он жил у нас, то я как раз была очень против, чтобы моя сестра выходила замуж за Олега-милиционера. И родители наши были против. Приехали сюда: «Что делать? Как бы ты посоветовала?» А сестра уже живёт с Олегом. Ну, конечно, не надо её винить, и всё же на одном дворе двое мужчин. Она действительно сначала не знала, как ей быть. Красивский больше года жил у нас. Но родители настояли, особенно мой папа (он уже был лежачим больным), сказал Стефе: «Если ты не отдашь дом Красивскому, то на мои похороны не приходи». Это уже даже не словами: папа написал письмо. Тогда она согласилась передать дом без суда, потому что Мирон уже действительно хотел подавать это дело в суд, чтобы отвоевать жильё. Но я переговорила с мамой, что как же это судиться жене с мужем? Тем более, что дом строил он. Он тогда даже продал свою машину. Мы уже теперь не припомним — мне кажется, старенького «Москвича», или что это было? Он продал ту машину, чтобы купить дом вместе с нами. Мы купили эту усадьбу — это был ещё совсем не законченный дом. Мы его купили вместе, потому что и у нас не было денег. Это, наверное, уже не интересно записывать... Тот дом был конфискован, как нажитый на нетрудовые доходы, он за бесценок продавался. Это только так называлось, что мы его купили. Но мы даже той мизерной суммы не имели. Его отобрали у бывшей директрисы школы, которую выгнали из партии за нетрудовые доходы. Потому что она была директором школы, где когда-то был монастырь, и когда там делала перестройку, когда разбирали стены, то нашли золотые чаши. Ну, какие наши люди: сначала тот рабочий согласился поделиться, но, видно, она себе взяла больше того золота, а ему меньше, так он заявил. Её выбрасывают из партии, конфискуют этот дом, который она начала строить. Этот дом нам, по сути, почти за бесценок достался. Это всё содействие Будилова — был здесь такой еврей, который руководил курортами Западной Украины. Был очень человечный, он много прописал людей, которые вернулись из Сибири. И нам помог. По сути, благодаря ему мы и оказались в Моршине вместе с Красивским.
Когда сестра отдала без всяких судов и договорённостей дом, то и Зенко пошёл на уступки. Разделили тот дом. Мы ещё и своей площади уступили, чтобы сестра построила коридорчик и второй вход. Так что у той половины есть ещё два входа.
Это, знаете, надо было со стороны посмотреть. Как в нынешних сериалах: двое мужчин и одна женщина — и мирятся. Так же и Красивский. Даже когда он уже с Черноволовой Еленой поженился, то они приезжали сюда и с моей сестрой целовались, как самые близкие родные. Тот Тарас Черновол здесь много бывал. Не столько с самим Черноволом, сколько с сыном Черновола Тарасом, Еленой Антонив, Красивским, моей сестрой Стефой и её вторым мужем Олегом Стасивым были очень и очень человечные, гуманные, можно сказать, отношения. Они жили на одном дворе, как родные братья. Не всегда такие родные братья, как тот Стасив, второй муж сестры, и Зеня Красивский. Так что не всегда бывают врагами двое мужчин одной женщины.
В. В. Овсиенко: Это уж какие люди попадутся.
М. О. Мелень: Вот начинается то возрождение. Я пошёл в один клуб «Аргумент», послушал, обращаюсь к Зенку: «Послушай, что делать? Смотри — так и так». То Зенко сразу занял такую позицию, что эта оттепель дана специально чекистами, чтобы всплыло всё, — и они заберут нас. Кстати, когда Зенка забрали сидеть за Хельсинкскую Группу, здесь часто бывал Тереля Иосиф. Спрашиваю: «Иосиф, как ты к этому относишься? — а он ездил тогда в Москву. — А ну спроси, как там относятся к нашему национальному возрождению, к национальному делу? Потому что права человека можно тогда защищать, если есть государство. А у нас нет государства». То не знаю, кто там ответил, Сахаров, Григоренко или кто, но Иосиф пришёл и говорит: «Сказано так, что сейчас национальный вопрос не ко времени, а прежде всего — права человека». Тогда я сразу говорю: «Зенко, третий раз будем сидеть за евреев». Тогда ещё он был на такой позиции, что надо использовать трибуну, можно слово сказать, где бы ни был. Потому что всё равно наша песня спета. «Хорошо, ты давай». А я, может, тогда немного спасовал. Но когда наступил 1989 год, тогда я и говорю: «Давай!» А он уже говорит: «Нет». Понимаете? Идея осталась та же, но метод, как её достичь, изменился. Теперь, говорит, всё так сделано, что мы все всплывём — а в один прекрасный день нас заберут. Уже начались те преобразования, так называемая «бархатная революция», Рух. Зенко к этому относился категорически: «Нет».
В. В. Овсиенко: И всё-таки он был одним из секретарей Украинского Хельсинкского Союза?
М. О. Мелень: Да. Но когда началось возрождение в 1989 году, то он от УХС отошёл: «Нет, нет, нет». Он тогда уже лелеял надежду на возрождение ОУН и ещё чего-то такого. Мы много говорили об этом. Я активно включился в деятельность, он — нет. Хорошо, я его приглашаю на митинг, когда здесь, в Стрые, первый на Украине флаг поднимали. Это даже в «Истории» Субтельного написано. Так я был инициатором, и ещё Романюк. Как раз журавли летели — случилось такое чудо природы — 14 марта, когда мы флаг выставляли.
Потом выборы. Я был депутатом областного Совета, того Романюка избрали в Верховную Раду. «Зенко, пойдём!» — «Нет! Вы — коллаборанты, и Черновол. Нет, вы соглашатели». И так до конца.
Потом Красивский поехал в Мюнхен по делам ОУН. Дали и мне приглашение. Я стоял на таких позициях, что ОУН, поскольку она нейтрализована, надо восстановить обязательно. Каким способом? Вот Слава Стецько жива, Мечник, Кашуба ещё жив, Петро Дужий. Пресса уже в наших руках, потому что это идёт 1991 год. Уже референдум состоялся, Президента уже имеем, так обращаемся к патриотам — не обязательно только членам ОУН, потому что их остались единицы. Готовим обращение к патриотам, подготовим съезд, сделаем проект устава, программы. Проведём Учредительный съезд, изберём Провод — и будем действовать. Тут Слава сразу меня перебила: «А у нас Провод есть!» Тогда я в своём пылу говорю: «Какой Провод? Кого вы представляете, сколько вас здесь — пятнадцать стариков?» Их это страшно обидело! Какой Провод? Да нас тысячи сидело, люди ждут восстановления ОУН. А вы — Провод? Хорошо, пусть сегодня будет ваш Провод. Если вас выберут и в дальнейшем, то будьте Проводом. Но надо делать Учредительный съезд, восстанавливать ОУН.
Мои предложения не приняли. Дужий предлагает сделать что-то переходное, такое подготовительное: ДСУ — «Державная самостийность Украины». Хорошо! Пусть будет! Зенко привозит много множительной техники, я работаю в редакции и открываю издательство в Стрые. Издаём брошюры, журнал «Украинские проблемы». Иван Кандыба был — вот у меня там в книге и об Учредительном собрании. Вот как раз Красивский выступает, здесь увидите. Это было в Стрые. (См.: Мелень Мирослав Олексійович. Нерозстріляна пісня. &ndash Стрий: Щедрик. &ndash 1999 р. &ndash С. 35). Хорошо, пусть работают.
Заработали — не беда. Но вдруг Зенка снова приглашают в Мюнхен: «Езжай, надо». Приезжает Зенко где-то через две недели, но уже с другим заданием: есть решение Провода в Мюнхене, что он является проводником Организации Украинских Националистов в крае. Организация не восстановлена, никто не имеет понятия — а надо прекратить деятельность ДСУ, распустить ДСУ. Я говорю Зенку: «Ну, какая ОУН? Зеня, мы же знаем — нет её». Зенко так немного того — я уже не буду говорить, — но немного впал в амбиции: &bdquoпроводник”. Какая ОУН? Где она? Да её надо организовать. А то ОУН ещё нет, а ДСУ уже распустить. Что-то такое непонятное...
И вот в тот момент начались расколы. Чуйко сразу выступает против, Кандыба — против, Слывка — против, Грицай здесь, в Стрые, против... И из ДСУ получилось четыре организации националистов: ОУН в Украине, ОУН Чуйко, ДСУ Романа Коваля в Киеве, Иван Кандыба — ОУН-державники... И вот имеем сейчас, что больше десяти организаций работают под флагом Бандеры. До чего мы дожили! Конгресс Украинских Националистов, мельниковцы, есть эмиграционные двойкари и угэвээровцы. Они ещё делились. Я сейчас вам расскажу о тех двойкарях, потому что я всё это досконально изучил и об этом пишу.
Дальше мы на Украине: ДСУ раскололась на ОУН в Украине. Конгресс Украинских Националистов. ОУН в Украине раскололась на чуйковцев и кандыбовцев. Под флагом Бандеры работают социал-националисты (Криворучко), дальше УНА-УНСО: Корчинский — Витович. Витович сошёл со сцены, а Корчинский делает великую украинскую империю. Да это провокация! Вот его книга «Война в массах». Это мне передал Скачок Павел. Он здесь бывает часто. Вот такой у нас сейчас спектр националистических организаций.
Был я на встрече с Мыколой Лебедем, когда он впервые приехал на Украину. Мыкола Лебедь — деятель большой мощи, главный фактор в Организации Украинских Националистов. Когда в 1941 году было провозглашено восстановление государственности во главе со Стецько, то вскоре всех тех, кто провозглашал государственность, и почти весь Провод ОУН 5 июля арестовали, даже не через неделю. Из видных руководителей Провода Украинских Националистов остались только Лебедь и Шухевич. Но Шухевич в то время был со своими дружинами националистов «Нахтигаль» и «Роланд» в Белоруссии. Тогда долавливали большевистские остатки. Лебедь мне рассказывал, он знает здесь кое-кого. Здесь есть ещё Венцель — он жил в Брюховичах. Очень хорошо знает историю ОУН. Вернулся Петро Мирчук — величайший летописец нашей освободительной борьбы, «Истории УПА», его первый том «Истории ОУН». Я со всеми имел встречи, долгие и неоднократные. То к ним ехал, то они сюда приезжали. Я одержимый националист-бандеровец.
Рассказал Лебедь, что, как и почему. Спрашиваю: «Почему у вас произошло первое расхождение, противостояние с Бандерой?» Он мне откровенно заявляет то же самое, что пишет профессор Анатолий Каминский в «Зарубежных частях ОУН». Возможно, у вас есть эта книга, потому что у меня есть.
Итак, было такое. 5 июля 1941 года арестовали всех, а он, Мыкола Лебедь, остался. Через полтора месяца, в сентябре, он созывает чрезвычайную конференцию остатков и привлекает в Провод новых людей, потому что ОУН, практически, обезглавлена. Осенью на Волыни Бульба-Боровец организует Полесскую Сечь, кусты самообороны. Мы знаем, что День украинского войска, УПА — 14 октября 1942 года, на саму Покрову. Но УПА действовала уже до того. Спрашиваю, кто предложил название «Украинская Повстанческая Армия»? Потому что это название будто с неба упало.
В. В. Овсиенко: Но ведь Украинская Повстанческая Армия была уже и в 1921 году. Ею командовал генерал-хорунжий Юрко Тютюнник. Только тогда говорили «Повстанча», а не «Повстанська». Она была разбита красными под Базаром 17 ноября.
М. О. Мелень: Это Второй Зимний поход Тютюнника? Может быть. Но кто-то же должен был это предложить. И ещё спрашиваю Лебедя: «Были ли у вас хоть какие-то связи с Бандерой, со Стецько?» Потому что они сидели в Аушвице, в концлагере. Лебедь мне лично сказал: «За почти четыре года их заключения была единственная записка, как тогда говорили, грипс, эстафета, что нас больше всего интересовало: жив ли он? Потому что контактов никаких не было. Так единственный раз был грипс от него, что он жив». Всё. И всем подпольем, вооружённой борьбой тогда руководили Лебедь и Шухевич, который уже вернулся сюда из Белоруссии.
И вот в 1944 году на Самборщине организуется УГВР — Украинская Главная Освободительная Рада. Организаторы Мирослав Прокип, Евген Стахив. Там львиная доля заслуги Шухевича и Лебедя. Шухевича оставляют главой ОУН и УПА, а Лебедя назначают главой секретариата иностранных дел УГВР. Его отправляют за границу создавать авторитет УПА, которая борется. Так он появляется за границей, после войны встречается и с проводником ОУН Степаном Бандерой — и начинается конфликт. То же самое мне подтверждает полковник Крук, который в Детройте живёт, а он в том соку варился: «Скажите мне, правду ли пишет профессор Каминский?» — Абсолютно так же отвечает: когда на западных территориях объявился Лебедь и заявил о постановлениях Украинской Главной Освободительной Рады, то Бандера запротестовал: «Я проводник! Я руковожу!» И с этого началось противостояние. Это уже был 1945&ndash1946 год. «Я проводник!» Не признал подпольного парламента. Точнее, признал, но: «Сдать, это я руковожу». С того и началось.
Второй вопрос. Анатоль Каминский очень чётко определил: «С кем воюем — с москалями или с режимом?» Потому что понимают так, что мы воюем с Россией. Как когда-то Гонта сказал: «Режь, бей всё, что ляхом звалось». Таково было и предложение Бандеры. А тогда Лебедь говорит: «Если мы так будем воевать, то идём на явную погибель. Мы с режимом воюем, а с нацией нельзя». Тогда ещё была резня с поляками и тому подобное. Анатоль Каминский описал, как поэтапно развивалось расхождение.
Насчёт УПА. В книге священника-капеллана дивизионщиков Гринёха очень хорошее вступительное слово. Вот прочтите себе. Дальше у меня встреча с Мыколой Плавьюком, с мельниковцами. Сам напрашиваюсь, Богдан Вовк мне сообщает, когда он будет. Встреча была в редакции газеты «За вільну Україну» во Львове, в присутствии Марии Базелюк, которая редактирует «Шлях перемоги». Интересный разговор. «Скажите мне вот что. Я знаю, что у всех националистов прежде всего: &bdquoДобудешь или погибнешь“. Государство есть, мы его уже добыли. Какое оно — другой вопрос, но оно есть. Теперь что — надо утвердить украинское государство? Так скажите, пан Мыкола, а что нас разделяет сейчас? Потому что что объединяет, это ясно, — а что разделяет?»
Он так, знаете, немного скептически улыбнулся и говорит мне: «А как вы себе представляете наше объединение?» Я то же самое сказал, что говорил Славе Стецько: «Договоримся, разошлём материалы по всем структурам, созовём Учредительный съезд. Примем устав, программу. Изберём, хоть временно, Провод». — А он сразу так искренне рассмеялся. Я подумал, что сказал что-то глупое. Говорю: «А что такое, пан Мыкола? В чём дело?» — «У меня тогда больше шансов попасть в Провод, потому что я на шесть лет моложе Славы, или на семь». А я ему: «Что, вас интересует Провод или идея? Или борьба?» — И на том мы разошлись. Выпили кофе — и я ушёл.
Потом мельниковцы созвали какой-то съезд. Спрашиваю Губку, было ли какое-то приглашение — было. Поехал кто-нибудь? Кто-то поехал — не знаю, кто. Проводят Большой Сбор КУН — приглашают мельниковцев. Никто не был. «Раз мельниковцы говорят, что мы — братоубийцы, то не пойдём с ними». До сих пор это вынашивают. Я понимаю ситуацию. То было такое время.
Смотрите, вы с такой книжечкой знакомы?
В. В. Овсиенко: «Чёрные дни Волыни. Воспоминания бывшего связного областного Провода ОУН. 1941-44 год». Издано: Владимир-Волынский, «Свитязь», 1992 год. Нет, я этой книги не читал.
М. О. Мелень: Это пишет мельниковец. Это так же читать без брома невозможно. Как и всю нашу историю, как говорили наши предшественники. Но факт есть факт. Мельниковцы говорят на бандеровцев: братоубийцы. Потому что Сеник, Сциборский, Сушко при неизвестных обстоятельствах погибли в Житомире. В этой книге много об этом сказано. Но пора бы это уже забыть...
В. В. Овсиенко: И зачем было переносить свои межпартийные распри сюда, в Украину?
М. О. Мелень: «Чёрные рады». Я это сказал Славе Стецько довольно грубо: «Вас пятнадцать стариков — и вы не можете между собой найти общий язык. Что вы делите? Говорите, вы Провод? Кто?» Вот были она в Проводе и Мечник. Потом Мечника выкинули из КУНа. И Петра Дужого она исключила. Осталась с Сергеем Жижко. Деятель великий? В музее атеизма работал во Львове. Поныне говорят, что списали две золотые чаши, потому что где-то пропали. Вот и имеем то, что имеем. А скажешь правду — становишься врагом. И не сказать нельзя. Тут есть у нас такие учёные — этнограф и фольклорист Григорий Демьян и Павлюк. На Маковке мы разговаривали: «Нельзя этот сор из избы выносить». Да доколе мы будем кваситься в этом мусоре? Но если скажем раз, другой, третий, то, возможно, кто-то четвёртый поймёт, что нехорошо делаем. Но это уже наша ментальность.
Итак, случается то, что должно было случиться. Я отошёл от политических организаций. Но в 1990 году ко мне подошли Василий Кубив и Иван Губка: организуем Союз политических заключённых во Львове. Потом в Ивано-Франковске, а потом было учредительное собрание в Киеве.
В. В. Овсиенко: Но, подождите. Учредительное собрание Общества политзаключённых в Киеве состоялось 3 июня 1989 на Львовской площади. Их вели Евген Пронюк и Богдан Горынь. Пронюка избрали председателем. А потом было объединение львовского Союза с киевским Обществом.
М. О. Мелень: Вот у меня есть материалы создания Союза политзаключённых Украины. Потому что я вёл учредительное собрание во Львове, а Кубив организовывал. Первым председателем по моему предложению избираем Ивана Губку. Потом ездили на объединение в Киев. Но вскоре Союз политзаключённых раскололся. Один откол — Петро Франко, второй — Малицкий. И тут делимся...
В. В. Овсиенко: На радость врагу.
М. О. Мелень: Это всё амбиции.
О СМЕРТИ ЗИНОВИЯ КРАСИВСКОГО
Есть разные версии, разные толкования. Итак, заявляю как его ближайший друг, побратим и шурин. Было так. Красивский помогал в строительстве женского монастыря в Гошеве. Здесь его постоянными гостями были сёстры-монахини. Это очень благородное дело. Когда я был в Германии, то и через меня передавали большие средства на монастырь. Мы в Моршине хотели организовать для Панаса Заливахи музей произведений искусства, краеведческий музей. Но Зенко самовольно решил, без разрешения властей и согласия нашей организации, отдать тот участок монахиням. Они там строят, там должен быть кляштор, женский монастырь. И вот вдруг в июле 1991 года у Красивского кровоизлияние. Был вечер. А утром говорят — сразу позвонили, тут через стену, — что у него кровоизлияние, инсульт. Речь была парализована, он лежал неподвижно.
Я сразу поехал в больницу в Стрый, договорился с Лафинчуком, главным врачом нашей больницы, чтобы палату выделили. Люди и городская управа отнеслись к этому доброжелательно — помогли, чем могли. Завезли мы Зенка. Я лично его относил с ребятами. Приехала скорая помощь с санитарами, мы его вынесли и отвезли в больницу. Лечащий врач был Машталер, он жив и по сей день, наш местный парень, патриот. Где-то через две недели Зенку стало намного лучше. Речь восстановилась, начал ходить. Только рука не работала и одна нога немного, но уже ходил без палочки. Обслуживали его медсестра и монахини. И монахини уговорили его: им там, в больнице, трудно, потому что там есть только кровать и тумбочка. Им бы лучше домой, там им легче будет ухаживать. И ему уже легче.
Врач Машталер мне говорит: «Не берите, ему лучше, слава Богу! Ему теперь нужен абсолютный покой. Если будет покой, будет всё хорошо». Но монахини его уговорили. Однажды я приезжаю домой, смотрю — Зенко по двору ходит, ногой немного так загребает. Я посмотрел: «Э-э, — шучу, — Зенко, да мы ещё футбольную команду сделаем! Ты ещё будешь играть в футбол!» А он: «Да, смотри!» И на землю — руками отжимается. А врач мне говорил, что покой нужен. Говорю: «Зенко, а это не слишком быстро? Как ты?» — «Да тут сёстрам лучше будет. Они возле меня. Они сказали, что врач здесь в Моршине есть, это не проблема».
Хорошо. Не знаю, сколько времени прошло, может, неделя, может полторы. Я на работе. Слышу звонок: «Приезжай, Зенко умирает!» Я в машину, потому что сам водил редакционную машину, через пятнадцать минут из Стрыя уже здесь был. В доме два врача, делают искусственное дыхание (они и до сих пор живы). Один врач мне говорит: «Станьте на стол, поднимите капельницу выше», — чтобы давление было больше. Потому что там был какой-то тромб, забилось что-то. Зенко уже не говорил, только смотрел на меня такими умоляющими глазами. Он понимал, но не мог сказать... Я смотрю на него. Славко, сын его, говорит: «Спасите папу, дядя!» Потом Зенко только захрипел, ему давят на сердце... Всё, случилось. Всё. И монахиня тогда ему какое-то помазание сделала...
Е. М. Мелень: Но ты ещё не сказал, что к нему тогда приехал кто-то из таких довольно известных людей, я не помню кто. Зенко внезапно сорвался с кровати, хотел поставить кассету — или ту, что он привёз из Германии, или какую. Как сорвался вставлять кассету — упал. Ещё посмотрел — тебя ещё не было здесь, а он ещё сказал: «Вот теперь уже всё». Он ещё сознательно сказал: «Вот теперь уже всё».
М. О. Мелень: Здесь неотступно возле него были монахини. Неотступно: и днём, и ночью.
В. В. Овсиенко: Это случилось 20 сентября 1991 года.
М. О. Мелень: Да-да. Я тогда был депутатом областного Совета, известный человек. Как раз Михаил Зеленчук приехал, потому что жена его отсюда, из Моршина. Я позвонил ему: «Приходи, прибегай, Михаил». Зенко был ещё, так сказать, тёплый. Я сразу сажусь за телефон. Где-то в течение двух часов дозвонился в Лондон Мазуру (номера диктовал Зеленчук), в Мюнхен Славе Стецько, в Киев (тогда шёл предпрезидентский марафон) Черноволу, Лукьяненко, Горыням — до всех я дозвонился. Все были на похоронах, кроме Черновола. Черновол был где-то в Днепропетровске. Лукьяненко приехал утром, побыл — а вечером должен был быть в Донецке — предвыборная кампания. Я ещё организовал машину. Была из Лондона Крушельницкая Богданна. Был из Церкви, из Ватикана Дацко. Был из Украинского Всемирного Координационного Совета Аскольд Лозинский, из Америки. Был председатель КУКа — Комитета украинцев Канады. Были Иван Гель, Калынцы — Ирина и Игорь. Все здесь были, похороны были очень большие.
Ещё надо сказать, хоть это, может, не для прессы. Когда мы делали поминки, то начался разговор о памятнике, который надо поставить. Потому что всё-таки, как бы то ни было, но это единственный краевой проводник ОУН, похороненный так официально в Украине. Деньги были, тогда уже прислали довольно приличные суммы, но я в те деньги не вмешивался. Была множительная техника, видеокамера — это всё Красивский привёз для организации. Ту технику забрал Зеленчук. Хотели забрать и машину. Я говорю сыну: «Машину не отдавай». Не отдали. А Богданна из Англии говорит: «Я займусь памятником». Она забрала не помню какую точно сумму, но больше, чем две тысячи фунтов стерлингов и ещё какую-то сумму долларов. Памятник уже стоит, а от неё ни телеграммы, ни отклика — как говорят, «ни ответа, ни привета». Она в прошлом году умерла.
Приехал на похороны и его лечащий врач. Первый его вопрос, когда встретился со мной: «Зачем вы его забрали? Зачем вы его забрали — ему нужен был покой!» Я ответил, что я его не забирал. Я тоже говорил, чтобы его не брали, но его уговорили монахини, потому что им легче будет его дома обслуживать, а в больнице условия не те. Так случилось — тут уже никто не поможет. Но если бы он побыл в больнице ещё хотя бы месяц-полтора, то мог бы жить по сей день.
В. В. Овсиенко: Да, люди же выходят из инфаркта.
М. О. Мелень: Выходят. Это тяжёлая болезнь, но выходят.
А ЕЩЁ КАК БЫЛО С ЕЛЕНОЙ АНТОНИВ...
Знаю конкретно. Зенко сошёлся с Еленой — это бывшая жена Черновола. Я в их отношения не вникал, но периодами — она приедет сюда, живут здесь, в Моршине, то он едет во Львов, на Солнечную — или это Спокойная улица?
В. В. Овсиенко: Спокойная, Спокойная.
М. О. Мелень: Сын Тарас приезжал. Тарас женился на Гуцульщине, ехали на свадьбу, очень было радушно, очень красиво... И вдруг ночью звонок: «Елена погибла!» — «Как?» — «Приезжайте!» Мы на следующий день утром приезжаем, из Моршина много людей поехало. Как это случилось? Зенко рассказывает: шли они на день рождения к известному нашему историку Ярославу Дашкевичу, по-моему.
В. В. Овсиенко: День её гибели 2 февраля 1986 года.
М. О. Мелень: Да-да. Они шли на день рождения, уже вышли из одного трамвая, делали пересадку на другой...
Е. М. Мелень: На такси. Ехали на такси — я помню, как Зеня рассказывал, — ехали они на такси и сошли как раз на каком-то повороте. И, говорит, я так рассчитываюсь за такси и смотрю на Елену, а она смотрит на меня, с цветами. И забылась, сошла с тротуара и стала на землю. И в это время едет трамвай, и трамвай резко повернул и краем ударяет её в бок, а голова сразу попадает...
В. В. Овсиенко: Хвостом, да?
Е. М. Мелень: Да-да.
М. О. Мелень: Это была грузовая машина с прицепом, а шофёр не видел, потому что она упала под заднее колесо. Шофёр даже не виноват. Говорит Зеня: я смотрю — голова под колесом, и так хрустнула, как тыква. Хрустнула — мозг... Вот что случилось. Мы приехали — она ещё была в морге, там подправляли лицо, потому что нельзя было узнать вообще — голова была размозжена.
Е. М. Мелень: Просто завязали платком, марлей, головы не было.
М. О. Мелень: Вот так случилось. Были версии, что специально — нет, неправда, потому что это Зенко сам утверждал: не надо, говорит, говорить — чего не было, того не было. Это не умышленное убийство — это трагический случай. Это слова Зенка.
ДЕВЯНОСТЫЕ ГОДЫ
С 1989 года я активно включился в работу Общества украинского языка. Мы поставили здесь первый на Украине памятник на могиле замученных, в форме тризуба. Я объездил целые районы за священниками, чтобы кто-то отслужил — никто не шёл, боялись. Так я научил хор петь, и мы без священников пели. Когда вышли мы из леса на Зелёные святки 1989 года, на Праздник Героев, с флагами — сине-жёлтыми и красно-чёрными... Это ребята из Долины, я с Петром Сичко договорился. Как подняли мы красно-чёрный флаг — половина людей разбежалась, потому что не знали, что будет. Но мы это сделали. Мы прошли тогда через Моршин парадом. Тот флаг вывесили на котельной, на трубе. Это было событие! Говорили, что нас побьют, постреляют. Такие люди запуганные были.
Потом делаем тысячелетие крещения Украины. Красиво вырезали большой дубовый крест. Он до сих пор стоит, написано «Тысячелетие крещения Украины», с тризубом. Народу съехалось со всего района. Тут я уже священника нашёл. Иосиф, православный — он пришёл. И ещё один. А остальные все отказались.
Январь 1990 года — первая Львовская экспедиция на Круты. Четыре «Икаруса», я возглавляю. Отправляет нас Иван Гель, который это организовал. Я как старший еду со своим хором. Вот есть фотографии, как нас под Крутами встречали, как не пускали, как мы закопали крест — это целое событие. Мы впервые с моршинским хором на Большой Украине спели «Коли ви вмирали, вам дзвони не грали», гимн «Ще не вмерла Україна», «Боже, великий, єдиний». Это было очень большое событие. Я, как вспоминаю, очень радуюсь. Хоть это кажется самохвальством, но это факт.
В. В. Овсиенко: Что сделано — то сделано!
М. О. Мелень: Это я не одолжил и не украл ничьё. Потом митинги, собрания всякие, Маковка. Вот первый наш митинг на нашей карпатской Маковке 1 или 2 августа 1990 года, в воскресенье. Это я организовывал со студенческим братством «Спадщина». Там студенты пели. Первые выступления были Василия Сичка и моё. Ещё выступал Иван Макар.
Потом — открытие памятника Шевченко. А потом демонтировали первый памятник Ленину — в Червонограде. Как только я услышал — организовываем с Романюком демонтаж вождей на Стрыйщине. Райком партии как услышал — но мы это сделали. Нашли большой немецкий кран — и за один день снимаем в Стрые Ленина, Примакова, Зою Космодемьянскую и ещё какой-то знак комсомола, к какому-то -летию. Едем в Моршин, демонтируем Ленина. Здесь, в книге, всё это есть. Ребята забросили верёвки, кран поднимает, людей собралось, в том числе из здравницы. Я думал, что будут эксцессы, потому что в Трускавце два раза приступали — и не дали. Только ночью приехали ребята и так сняли. А мы с первого раза. Тут я уже нашёл контакт с милицией. Рух был очень сильный, мы переговорили, чтобы не было эксцессов. Были выкрики, но мы сняли и всё. Ещё, может, с полгода на месте памятника Ленину здесь, в Моршине, цветы клали. Но из Ленина мы сделали Шевченко — переплавили. Шевченко там стоит в другом месте, но на той же площади. Очень большое событие.
Тогда я возглавил газету. Печатаем, что кто захочет. Я давал право абсолютно всем. По судам меня много таскали, даже проигрывал я дела, потому что закона не было. Но дело не в этом. Чувствую в этом удовлетворение.
А потом я решил, что берусь приводить в порядок свои дела. Эта книга — первая ласточка. У меня много чего готово. Но нужны будут средства.
В. В. Овсиенко: Это книга «Нерасстрелянная песня», вышла в прошлом году в Стрые, издательство «Щедрик». Расскажите, пожалуйста, как вы редактировали здесь газету, и вообще о своей деятельности в последние годы.
М. О. Мелень: Ещё до провозглашения Украины — ещё не было Верховной Рады первого демократического созыва — я был активным участником Руха. На собраниях Руха мы решили нашу районную газету — она называлась «Строитель коммунизма» — переименовать в «Гомін волі» («Голос воли»). Провод Руха Стрыйского района выбрал меня редактором. Но я ещё до того был в составе её редакции. Редакционный коллектив был тот же, что и при «Строителе коммунизма». Люди были более-менее хорошие. Правда, было два таких ярых, так я их сразу уволил с работы. Тогда горком и райком партии держали ещё большевистскую «Голос Стрыйщины». Её после ГКЧП ликвидировали окончательно.
Редакционный коллектив нормальный, патриотичный. Работали мы хорошо, слаженно. Тогда основное было — это политические статьи, возрождение. Теперь это уже другая газета, у неё другое лицо, более информативное, бытового характера. Почему-то боятся писать что-то такое политическое, выступить против власти. Такого сейчас никто не хочет печатать, боятся. Особенно перед выборами. Так и дальше продолжается, как и везде. Газеты, у которых неизменная позиция — «За вільну Україну», «День», «Українська газета». Они действительно независимые, а всё остальное...
В. В. Овсиенко: И до каких пор вы были редактором?
М. О. Мелень: Был я редактором до 1995 года. А потом ушёл на пенсию, хотя я был пенсионером уже работая в редакции. Были перевыборы редактора, у меня были некоторые недоразумения с местной властью, так я отошёл. Отошёл и не жалею об этом. Я начал активнее работать в львовской газете «За вільну Україну». Время от времени в «Вечернем Киеве» печатаюсь. Ну, и привожу в порядок свои дела.
В. В. Овсиенко: Написали ли вы воспоминания, статьи автобиографического характера — о вашем деле, о повстанческом движении, об УНФ?
М. О. Мелень: Статей было напечатано много. Самая первая была большая статья об УНФ в газете «За вільну Україну». Это была годовщина нашего ареста и разгрома. Ещё редактором был Василий Базив, газета только организовалась. Статья была с продолжением в нескольких номерах. Приблизительно то же самое, что я здесь вам рассказал, но там лучше обработано. Известный у нас журналист Роман Пастух написал о Норильском восстании — по моему рассказу. Я писал и на исторические темы, о местных боях. Здесь вышел альманах «Хвилі Стрия» — большая книга, там тоже много моих материалов. Вот «ОУН-УПА на Стрыйщине» — как здесь в 40-х годах развивалось подполье, как здесь воевали — в Моршине, в Фалыше. У нас здесь было очень много боёв с большевиками. Очень много чего написано, но всё разбросано. Если бы собрать вместе...
В. В. Овсиенко: Надо всё это собрать вместе, подправить, чтобы была цельная книга.
Е. М. Мелень: Теперь хотят издать вторую его книгу: что ты написал и что о тебе написали. Это было бы хорошо.
М. О. Мелень: Я теперь задумал вторую книгу. У меня уже есть биография, «Краткая история УПА». Это собрано из Мирчука и из Лебедя. Очень кратко, конспективно, для школьников. Когда я сидел в кочегарке, то у меня было время исследовать очень актуальный вопрос: Ленин и Украина. Много я тогда прочитал Ленина и написал такой труд: «Ленин против Украины».
В. В. Овсиенко: Хорошее название.
М. О. Мелень: Мне кажется, что она написана с позиций не националиста, а национала. Она готова, можно уже издавать. Но прежде всего я должен упорядочить свои мемуары. Я хочу это сделать на художественно-документальном уровне. Даже придумал, что первая часть (уже написана) будет называться «Чёрные этюды из красного ада». Это фрагменты из событий, о которых я вам сейчас рассказывал. Об арестах, облавах, о Норильске. О той резне, убийствах — такое трагическое, что страшно и думать, и говорить, но это было. Как мы восстали в лагере и за одну ночь что-то тринадцать или четырнадцать стукачей, тех «сук» — вот утром встали, а тот топором зарублен, а тот придушен подушкой, одеялом... Весь оперативный отдел Норильского управления на ногах: что случилось? — Никто ничего не знает. Правда, двоих ребят расстреляли — забрали по подозрению — и всё. Ну, я об этом знаю немного глубже.
Или такой случай. Мы в БУРе (барак усиленного режима). Нас ведут на работу отдельно — ремонт узкоколейки. Там и латыши были, и другие. Бригадир Сикорский — поляк, который как-то уцелел от польской «Офензивы», но ссучился, потому что выживал. Только с блатными, с теми «суками» общался. Он сидел ещё с 1939 года. А это уже 1948&ndash49 годы, он уже 10 лет сидел. И вот выводят на работу. Били заключённых Бухтуев, Хурдаев и Сикорский — это была гроза. Потом ещё Семафор приехал. И случается такое: выводят на работу. Конвой огонь разложил, потому что в тундре — куда бежать? Они у костра из карликовой берёзки, греются. Заключённые делают ремонт. Одни носилками — потому что тачкой там нет возможности проехать — носят щебень, под шпалы подбивают. Другие что-то там тоже делают. А бригадир Сикорский только смотрит, кто что не так — сразу бил.
И вот к такому Ромке Гладуну (я ему посвятил стихотворение) подошёл литовец и говорит: «Что это может быть, что он поляк, а такой жестокий?» Что ему ответил Гладун, я точно не помню, но так: «Видишь, человек — приспособленец, потому что если бы имел национальное достоинство, то этого бы не делал». Сикорский услышал, прибегает и того литовца начал по голове бить. Литовец упал. Конвой ничего не говорит, а Гладун, как был у него лом в руках — так его сзади по голове кропнул. Голова та, как тыква, в буквальном смысле, раскололась. Конвой за автоматы, а Гладун спокойно, ничего не говоря, лом бросил — всё, песня спета.
Страшное событие. Конвой сразу снял нас с работы — и в зону. Возле того трупа кто-то там остался. Как взяли Гладуна — больше его никто не видел. Вот такая новелла — это и есть наша жизнь, это не выдумка. Такое мы пережили. Шли на жертву, защищая друг друга. Так защищали национальное достоинство, потому что так же и литовцы или другие заступались. Это теперь кажется будто с примесью легенды. Но это не сказка. Потому что об Освенциме, о Холокосте много рассказано. А что с нами было?
Конец.
