Интервью РЫБАЛКИ Ивана Дмитриевича
(На сайте ХПГ с 15.03.2008)
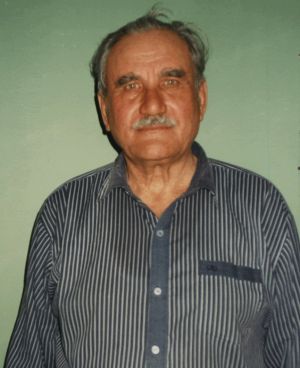
В. В. Овсиенко: Третьего апреля 2001 года в городе Сичеславе, то есть в Днепропетровске, ведём беседу с господином Рыбалкой, Иваном Дмитриевичем.
В. О.: Записывает беседу Василий Овсиенко. Привёл меня сюда, на рабочее место господина Рыбалки, господин Ярослав Тринчук.
И. Р.: Сам я по профессии инженер-металлург, окончил Днепропетровский металлургический институт, работал долгое время на заводе — 18 лет, работал где-то лет, наверное, 12–15 в Министерстве чёрной металлургии. Работал, в основном, на руководящих должностях. Я сначала металлургический техникум окончил, а уже потом Днепропетровский металлургический институт.
В. О.: В каких годах?
И. Р.: Техникум я окончил в пятидесятом году, работал на заводе. В 1960 году поступил в институт и окончил его в 1965 году.
В. О.: А назовите, пожалуйста, дату и место рождения, потому что Вы это не сказали.
И. Р.: Сам я по происхождению из запорожских казаков. У меня выписаны все мои предки до двенадцатого колена. Вот здесь село Сурско-Михайловка; это, если, может, знаете «Рассказы о славном войске запорожском» Никиты Леонтьевича Коржа, был такой запорожец Корж. Юрий Стороженко о нём писал, эта книга у меня есть. К сожалению, я не принёс её, а то мог бы вам даже подарить. Так вот, там поселился казак Корж. Кстати, один из потомков этого Коржа Никиты Леонтьевича был Кузьма Корж, писарь в Центральной Раде, расстрелянный в 1919 году большевиками. Там поселился мой предок. Там жили мои родители и деды. Из дедов один был инженер, один учитель, а непосредственный мой дед хозяйничал, помогал «Просвите», которая здесь была с 1905 года, а эти два деда были членами «Просвиты». Дед умер рано, отец остался сиротой в 14 лет, уже сам окончил, по-современному, сельскохозяйственный техникум, а тогда была агротехническая школа.
Я сам родился 1 января 1929 года в селе Сурско-Михайловка. Мама окончила 7 классов, по тем временам была довольно-таки грамотной. Отец погиб на фронте во Второй Мировой войне. Мы сами остались, нас трое детей, я старший, младшая сестра уже умерла вот в прошлом году, а одна сестра живёт здесь. Вот так вкратце. Я в 40 километрах отсюда родом, поэтому все эти края я знаю хорошо и многих людей также знаю.
Из этого же села вышли двое, которые участвовали и в Рухе, правда, не «светились» они очень. К сожалению, эти мои земляки ныне покойные — это Корж Василий Иванович, инженер с завода им. Карла Либкнехта, и Бардадын Виктор Прокопович, главный механик областного управления хлебопродуктов. О них я немного позже скажу.
Сам я сознательный с детства, меня никто не учил сознательности, семья так воспитала. И отец был сознательный, и мама была национально сознательная, а особенно бабушка по отцовской линии была национально сознательная. По материнской линии — та пела хорошо, но не помню, чтобы она что-то проявляла. Бабушка по отцовской линии всегда говорила, что вот Евангелие и «Кобзарь» Тараса Шевченко — это две книги, которые у каждого должны быть, и туда надо заглядывать, потому что они научат, как жить, а «Кобзарь» Шевченко научит, как любить свою Украину. Вот я помню эти слова.
Когда я уже в техникуме учился, то прежде всего искал таких же украинских людей, каким был сам. А это были 1947–1950-е годы. Тогда, после войны, шовинизм здесь цвёл буйным цветом, но кое-что проскальзывало, ещё можно было достать некоторые книги. Например, в то время я приобрёл третий том «Истории запорожских казаков» Дмитрия Яворницкого. Это было чрезвычайно редкое издание. Но здесь книги продавались, и один мне предложил, потому что я этим интересовался. Правда, книгу ту потом «зачитали» где-то аж в Сибири. Но это уже другое дело. После того я достал целый ряд книг, которые остались от дедов. В частности, у Пантелеймона Акимовича была большая библиотека — это родному брату моего деда, инженер был, он умер в 1932 или в 1933 году в Донбассе, но библиотека его осталась. Там была «Энциклопедия» Брокгауза. Когда я стал более-менее сознательным, то выписывал из неё биографии наших атаманов и тому подобное. Но больше всего на меня повлияла книга Андриана Кащенко «Рассказы о славном Войске запорожском низовом». Она и сейчас у меня есть, правда, с оборванными переплётами, потому что тогда нельзя было их показывать, их ещё когда-то оборвали. Эту книгу я ещё тогда прочитал. И первый том «Истории Украины-Руси» Михаила Грушевского, издание ещё старое. Оно тоже у меня есть, также, правда, без первых титульных листов, они вырваны. Было ещё несколько номеров «Литературно-научного вестника», редактируемого Грушевским — они и его получали. Дети вывезли ту библиотеку и так она разошлась, некоторые книги у меня остались. Поэтому я был такой более-менее сознательный.
Однако я многого не знал, поэтому даже пытался поступить в университет. После техникума я поступил в университет на вечернее отделение.
В. О.: На какой факультет?
И. Р.: На исторический. Но меня очень скоро оттуда выжили, потому что там, на историческом, были одни кагэбисты, по рекомендациям. Я понял, что здесь дела не будет. Вот у меня был третий том Яворницкого. Я пошёл в музей Яворницкого. Там сказали, что в областной библиотеке. Я начал требовать: «Выдайте мне первый и второй том, я хочу почитать „Историю запорожских казаков“». Это была, возможно, такая юная романтика: вот оно не запрещено, значит, должно выдаваться. Мне его действительно выдали в библиотеке, дали посмотреть, но, видимо, спросили там какого-то дядьку из КГБ, который через три или четыре дня подсел ко мне: «А чего это вас интересует, а что интересует?» — «Да я вот учусь». — «А что, вам преподаватели говорят, что надо читать эти книги?»
Таким образом, я проучился в университете год и ушёл оттуда. Я тогда работал на заводе, уже мастером был, а после того стал начальником смены и даже дошёл до заместителя начальника цеха — им я был, когда перешёл в Министерство чёрной металлургии работать. Поэтому поступил в металлургический институт и окончил его.
В это время, после так называемой «хрущёвской оттепели», начали выходить некоторые книги, начали собираться кружки и обсуждать их. Я был давно знаком со многими писателями, ещё старыми, потому что в своё время была такая лекторская группа на заводе имени Петровского, где я работал. Одни про Ленина читали, другие про Сталина, а я взял себе историческую тему. Вот в 1954 году было же такое большое шоу — «воссоединение Украины с Россией». Я тогда прочитал в рабочих коллективах и даже в коксохимическом техникуме, наверное, три или четыре лекции «Богдан Хмельницкий». Как раз в тот период это было разрешено, о Богдане Хмельницком я литературу имел и прочитал. Я тогда со многими инженерами познакомился, в частности, с инженером Кузьменко Петром Алексеевичем — это брат Александра Алексеевича, диссидента. Познакомился с Кондратенко. Правда, с Кондратенко я раньше был знаком, в 1946, ну, может, с 1947 года, потому что я учился с его братом Юлием Сергеевичем в техникуме.
В. О.: А тот Олесь Сергеевич.
И. Р.: А это Лесь Сергеевич, старший. Этот младший брат уже умер. Так вот, их отец был сознательным украинским учителем. Отец и мать. Когда-то сознательные учителя преследовались, на Соловках были. А эти здесь работали. Правда, отец был очень осторожен, но кое-что от них я получил. Я прочитал от них «Иллюстрированную историю Украины-Руси» Грушевского. У меня был только один том из одиннадцатитомника. Так вот, я с Кондратенко познакомился и, собственно, всю эту семью я знал. Лесь Сергеевич, окончив металлургический институт, остался работать в металлургическом институте, и через него я познакомился с некоторыми преподавателями. Хотя я там и учился, но на вечернем, и не совсем доверял преподавателям. А через Кондратенко я познакомился с преподавателем доцентом Любашенко Филиппом Андреевичем. Это был чрезвычайно сознательный человек, осторожный, правда. К сожалению, он умер, до так называемой перестройки не дожил. Но то, что он сделал многих студентов сознательными, это, бесспорно, факт. Ездил он в 1961 году на празднование Шевченковских дней. В 1964 году я ездил с ним вместе. Вот познакомился я с этими инженерами.
С Савченко Виктором Васильевичем я чуть позже познакомился, также чуть позже с инженером Корниенко Василием Петровичем.
Мы несколько раз побывали в областном отделении Союза писателей, когда они там собирались, и пришли к выводу, что очень они там друг с другом ссорятся, кто из них больший патриот, кто меньший патриот, а работа заключалась в том, как мы считали в тот период и так считаем сейчас, чтобы делать более-менее сознательным наш народ, в частности, интеллигенцию, потому что интеллигенция больше влияла, она имела доступ к руководству, к материальным благам и, в частности, могла влиять на формирование национального сознания.
И вот в тот период я познакомился с Шульгой Иваном Фёдоровичем, врачом, доцентом нашего медицинского института. Это был чрезвычайно сознательный человек. Он рано ушёл из жизни, но очень много сделал для просвещения наших студентов.
Тогда у нас и сложился такой небольшой, из 5–7 человек, кружок инженерно-технических работников, которые переживали, что всё у нас задушено, надо что-то делать. Мы как-то пытались доставать литературу. Мы считали, что если создать какую-то организацию, то туда обязательно засунут провокатора и она будет провалена. Мы видели, что валится целый ряд таких организаций — валится, и валится, и валится. Поэтому мы, вот, например, Кондратенко, я, Кузьменко и Чхан Михаил (он тоже инженер по специальности, также работал в металлургическом институте) говорили, что если создавать, то небольшие ячейки, по три-четыре человека, которые бы пропагандировали литературу, но не обязательно всем контактировать со всеми: один пусть контактирует со всеми. Так мы и действовали.
В этот период я особенно много литературы получал от Огульчанского. Я с ним познакомился в Киеве.
В. О.: Как зовут Огульчанского?
И. Р.: Огульчанский Юрий Антонович. Также с Логвином Бабляком познакомился и с Биняшевским.
В. О.: Эраст Владимирович.
И. Р.: Эраст Владимирович, это известный диссидент — Вы, наверное, знаете, он выступал у памятника Шевченко, его арестовывали несколько раз. Я с ним, с Биняшевским, был на выставке — выставка немецкой техники где-то в 1969–70 году была в Киеве. Написано на русском и немецком языках. Когда мы пришли туда, то возмутились. Эраст Биняшевский знал немецкий язык, он сразу вызвал кого-то из немцев и говорит, что как же вы так, приехали сюда, в Украинскую Советскую Социалистическую Республику, основательницу Организации Объединённых Наций — так патетично — и не написали на украинском языке? Вы знаете, те немцы покраснели, сказали: «Простите, всё будет сделано». На второй день было сделано, но КГБ это припомнило Биняшевскому и таскало его. Да и меня допрашивали: «Что он ещё там говорил, вы же были там?». Я говорю, что я смотрел на экспонаты, а он говорил на немецком языке, я немецкого языка не понимаю. Хотя я немного понимал немецкий и понял, что он говорил.
В. О.: А они оставили русские надписи или вместо русских украинские сделали?
И. Р.: Нет, они поставили также украинские названия.
Биняшевский несколько раз приезжал сюда, бывал у меня, ночевал у меня. Через Биняшевского я познакомился со львовянами, которые помогли мне с литературой, в частности, это Витер Мария. Её, наверное, уже в живых нет.
В. О.: А какую это литературу?
И. Р.: Из Польши. Польша издавала «Украинские календари». На то время это была энциклопедия. У нас нигде нельзя было ни о гетмане прочитать, например, Дорошенко, а там можно было прочитать. Хотя там и о коммунистических деятелях было написано — и о Шелесте, и о Щербицком, но ведь было и это. В то время это была чрезвычайно важная литература. Особенно газета «Наше слово» из Польши. Там были статьи, в которых иногда события трактовались не так, как у нас. Об этом, кстати, кагэбисты допрашивали, так я говорил, что вот я получал «Наше слово». Оно приходило по почте из Польши. Наверное, проверенное двадцать раз. Логвин Бабляк и Юрий Огульчанский со мной и сейчас переписываются, и поздравления присылают. И Бобряницкий.
В. О.: Бобряницкий Юрий Петрович.
И. Р.: Юрий Петрович. Это инженер, он несколько раз бывал у меня. Он немного моложе нас, потому что мы с Огульчанским почти одного возраста. Бобряницкий был как связной между нами.
Конечно же, у Ивана Макаровича Гончара я бывал несколько раз. Мы привозили ему некоторые экспонаты отсюда. У Гончара бывал и Кузьменко Александр Алексеевич. С Олесем Кузьменко я через Петра Кузьменко, его брата, познакомился. Олесь Кузьменко отсидел десять лет.
В. О.: В каких годах?
И. Р.: Он немного старше меня, он 1924 года рождения. Во время войны был связным. Здесь у нас была небольшая организация ОУН. Организация базировалась в Днепропетровске, вот здесь Лоцманская Каменка есть, это уже современный Днепропетровск — вот там был основной их центр, и он там был связным. За это он и получил десять лет. Там же познакомился он со своей женой, Еленой Фёдоровной, она из Галичины. Она также за связь с УПА была осуждена, я не помню, то ли на семь, то ли на восемь лет.
В. О.: А Кузьменко — он здешний?
И. Р.: Здешний. Кузьменко родом из Лоцманской Каменки, отсюда его отец. Отец тоже здесь родился. Больше вам о Кузьменко расскажет Омельченко Григорий Никитович — последний лоцман днепровских порогов. Этот человек уже пожилой, 85 ему, кажется, лет. Иногда он звонит мне. Так вот, Кузьменко там жили, они были лоцманы. Отец Кузьменко в своё время даже состоял в рядах Махно. Отца я видел, несколько раз с ним говорил. Поскольку я коллекционер бон и монет — у меня их много, коллекция чрезвычайно богатая, все, которые ходили на территории Украины, я собирал в своё время и сейчас собираю, — я ими интересовался.
Олесь Терентьевич Гончар, не разобравшись немного... К его чести, он признал: «А я, — говорит, — не знал этого». Он написал в своём романе «Собор», что у Махно были деньги. У Махно денег как таковых не было, потому что это бы подрывало его антигосударственную идею. Этого не могло быть. Эти деньги издавали деникинские генералы — якобы это махновские деньги: «Гоп, кума, не журись, у Махна деньги завелись». Там казак танцует. Да, действительно, были такие, но они не махновские. Мне это надо было подтвердить. Я познакомился с отцом Кузьменко, и он это также подтвердил. Все исторические документы подтверждают, что Махно этих денег не издавал. Но это отступление… Так что Кузьменко отсюда родом. У Кузьменко было две дочери. Эти дочери тоже национально сознательные. Одна сейчас, Марийка, в Галичине, там она вышла замуж, трое внуков есть. Один из внуков окончил какой-то юридический институт, имеет адвокатскую практику. Не захотел сюда, к деду, переезжать — там, видимо, ему лучше. На похороны они сюда приезжали. А вторая дочь, Оксана, в Запорожье. И муж у неё сознательный, доцентом в институте работает.
В. О.: Когда же умер Кузьменко Александр?
И. Р.: Кузьменко умер два года назад, а точно я уже не скажу.
В. О.: А жена?
И. Р.: Жена за два года до того умерла. Он бы, возможно, ещё и жил, Кузьменко, если бы была жена рядом. Это же оно в семье, а то уже он сам жил. Кузьменко был одержимым человеком. Он собрал большую шевченкиану. У него, например, даже тогдашняя этикетка мыла была — и такое он доставал. Огромная была коллекция. Сейчас внук приехал, не знаю, как и куда он её перевезёт. А чтобы можно было выступать, он наработал так называемую лениниану. Выписывал — да и я ему доставал многое, потому что я тоже читал Ленина и у меня было о нём своё мнение. Но те фразы, которые Ленин то ли из конъюнктуры, то ли по недомыслию своему выдавал, — то мы их, конечно, использовали. Что каждый коммунист на Украине должен понимать украинский язык и разговаривать на украинском языке. И вот я, как выздоровею, то съем российских шовинистов своими зубами, — это мы использовали. Особенно издание «Ленин об Украине» — выходили такие книги — до 1990 года использовали. Я даже в 1990-м году прочитал лекцию «Ленинская национальная политика» в одном Обществе украинского языка. Меня там националисты встретили очень благосклонно, хотя, правда, кагэбисты потом кричали: «Вы тенденциозно использовали Ленина!».
Брат Кузьменко, Пётр, инженер был — чрезвычайно хороший человек, он распространял всё, что мог, украинскую литературу, какую можно где достать, он её распространял, в частности, среди инженеров. К сожалению, он утонул в Чёрном море. Это случилось уже лет семь назад.
В. О.: А какого он года рождения?
И. Р.: У меня всё есть, я просто не взял — я не думал, что Вам это нужно. Я запишу и потом Вам перешлю.
В. О.: А то о покойных где же достать…
И. Р.: Я всё, что смогу, Вам помогу, будем считать, что это предварительная наша беседа. Потому что о Шульге я не знаю, я отыщу его дочь и всё узнаю.
Итак, Пётр Кузьменко был чрезвычайно эрудированный инженер. И очень осторожный. Потому что Саша — как мы говорили, Кузьменко Саша, — был холерического характера, наступательного. А Пётр осторожный, имел аналитический ум. Поехал он отдохнуть в Сочи, там на море купался и утонул. Волна была. Как раз в эти перестроечные годы.
Чхан Михаил Антонович (14.09.1926 – 14.03.1987. — В. О.). Он был инженером в Металлургическом институте, работал там в научной секции. Собственно, с ним я познакомился и сошёлся чрезвычайно близко, потому что и жили мы недалеко друг от друга. Он тогда начал писать стихи. Почти все стихи, которые он писал, в черновиках я читал, некоторые стилистические поправки вносил. Он был такой человек, что прислушивался к голосу других. Правда, беда у него была, что любил рюмочку выпить. Вот это у него беда была. Но то, что сделал Чхан как писатель и как инженер, — он очень много посеял зёрен сознательности среди студентов Металлургического института. Позже они это говорили. Михаила Чхана преследовали, его не печатали, его исключили было из Союза писателей, потом снова приняли в тот Союз. Вот все его сборнички. Это первый сборник, он его подарил мне с посвящением. «Грани» назывался. «Ваня, — так он меня называл, близки же были, — пусть никогда наш язык не будет на грани последнего упадка. Да здравствует ленинская национальная политика!» Ну, это было написано 10.11.1969 года, эта последняя фраза — это чтобы кагэбисты не придирались. Тут есть сборник «Озония», потом вышли его «Куранты».
В. О.: Так, впереди была книжка «Грани» Михаила Чхана, изданная в «Промени», Днепропетровск, 1966 года. Вот книжечка «Куранты», стихи, издательство «Проминь», Днепропетровск, 1973 года.
И. Р.: Самая ранняя «Не заходит солнце».
В. О.: Днепропетровское книжное издательство, 1959 года.
И. Р.: Это самая первая. Здесь вот он посвятил: «Современному сечевику, ленинцу-интернационалисту...». Потому что я тогда Ленина в лекции совал, где только можно было. «...Ваньке Рыбальцу в искреннюю благодарность. Автор». Чхан посвятил.
В. О.: Подписано когда? 10.11.1969.
И. Р.: Дальше была издана книга «Грани» (1966), дальше «Озония».
В. О.: 1967 года в Киеве, «Радянський письменник».
И. Р.: Да, также вот: «Ване, стойкому защитнику достоинства своего, а следовательно и мирового. Да сгинут враги наши».
В. О.: Это 10.11. 1969.
И. Р.: Это они были подписаны...
В. О.: А, все вместе подписал.
И. Р.: Нет, не все вместе подписал, а как-то он был у меня, я говорю: «Михаил, подпиши». А это вот сборник «Ярило»: «Побратиму-земляку, почитателю красного слова, родного языка, культуры, казаку Ивану Рыбальцу на многая лета». А тут он снова всунул интернационализм, так я запротестовал.
В. О.: Это было 19.09.1970 года, это книжечка стихов «Ярило», изданная «Радянським письменником», Киев, 1970 года.
И. Р.: Да, 1970 года. Много, я вам говорю, читал его произведений ещё в черновиках. Однажды он пришёл: «Вот ты хорошо знаешь историю». Написал он поэму «Свет Славутича». Это очень хорошая поэма… Вот сейчас найду очки... Ну, я не буду всё читать, вот здесь есть «Киевская Русь», рефрен такой: «Залободилася Либідь і вже немає в нас державності, немов нема у місті брам. Невже, Славутичу, не зжалишся, невже навіки одібрав? Вона десь плава дужим видивом по приморожених морях – допоможи нам, батьку, видибать на берег волі із варяг. О, дай якщо не стяг, то хусточку аби лиш святість стяжа в ній, даруй державність нам, Славутичу, даруй нам свій зловійний гнів!» Дальше «Козаччина» — её надо будет вам прочитать.
А этот сборник позже издан, уже сейчас, посмертно — «Заря в пике».
В. О.: «Заря в пике», Днепропетровск, издательство — «Сич», 1992 года.
И. Р.: Это посмертно издано. Сюда вошли некоторые лучшие поэмы и поэмы, которые не были изданы, в частности эта «Свет Славутича». Она задержалась у меня в черновике. Я тогда запротестовал: он ещё восьмую главу сюда вставил для того, чтобы издать. Он вставил главу про этого, что в восемнадцатом году был — про Виталия Примакова. Я ему говорю: «Ты же испортил всю поэму, Примаков — это не та личность». — «Не издадут». — «Так ты думаешь, что остальное издадут? Вычеркнут это всё, а про Примакова оставят. Пусть оно лежит до лучших времён». Он пришёл и перечеркнул так: «Пусть полежит». Где она у него делась? К нему тоже иногда приходили, или, может, украли? Но когда Степан Левенец стал готовить сборник, то я говорю, что есть эта поэма. Вот я принёс, отдал эту поэму, и это они напечатали уже посмертно.
В. О.: Когда он умер, Михаил Чхан?
И. Р.: Он с 1926 года, в 61 год умер, в 1987 году. Это уже не для печати: его с женой преследовали, гоняли, без работы был, жена начала протестовать, что вот ты брось заниматься этим, так он очень запил в тот период.
Ярослав Тринчук: Кагэбисты очень хорошо умели разлучить.
И. Р.: Да, обычно, потому что они же в это КГБ без конца вызывали. И меня тогда преследовали. Он запил, поехал в село к матери, село Каменка, там вот жил и умер. Здоровье у него было подорвано, конечно, — он участник войны, был ранен. Его даже заставили написать покаяние. Он его написал, но там ничего такого не было: вот я то, вот я здесь недоделал, вот я здесь до ленинской национальной политики не дотянул. Но это было ради того, чтобы отцепились. (Михаил Чхан, член Союза писателей Украины. Братство — наше знамя. Размышления о национальной гордости и национальной ограниченности // Газ. «Прапор юності» (Днепропетровск). – 1974. – 19 февраля. — В. О.). Здешний Союз писателей, к сожалению, оказался не таким, как в Киеве, что там хоть как-то защищали, а здесь у нас эти все писатели, которые сейчас профессора — Корж или этот Бурлаков, — все были такие патриоты, а сделать что-нибудь, чтобы защитить его, не смогли. Сам он не оказался настолько способным, чтобы мог защититься, хотя он был человек чрезвычайно энергичный. Но вот такая трагическая его жизнь. Бурлаков как-то меня встречает, говорит: «Только ты один все убеждения оставил такие, как есть». А Корж... Ну, вот Коржа слышали же?
В. О.: Я читал его покаянное стихотворение «Навеки проклятым» в газете «Заря».
И. Р.: Сейчас он завкафедрой литературы, имеет учёную степень. Сделали ему.
Я. И. Тринчук: Да пустое, не стоит внимания.
В. О.: Здесь присутствует господин Ярослав Тринчук, некоторые реплики бросает.
И. Р.: Вот так один из наших хороших инженеров и хороших писателей Михаил Чхан ушёл из жизни.
В 1968 году, когда была годовщина провозглашения IV Универсала, 22 января, был вывешен сине-жёлтый флаг на сельскохозяйственном институте у нас. КГБ сбилось с ног, ища, кто же это сделал. А на флаге было написано из «Чайки» Михаила Чхана. Стихотворение «Чайка» заканчивалось так: «Где остался ещё лоскут флага, там будет пылать знамя». Там слова Михаила Чхана были написаны. Так Чхана начали таскать, а он говорит, что стихотворение было опубликовано… Я прочитаю стихотворение «Чайка»: «Перестань же, чаєчко, плакать, над зів'ялим кличанням не квиль, буде місяць ще медом капать на вхололі верхівки хвиль. Ще злетиш, мов біла фіалка, і дзьобнеш дерзновенно кришталь, і тебе поцілує палко перший промінь, мов перший жаль. Це нечуване щастя – впасти з голубого у голубе і відчути, як виють пастки, що спіймати не встигли тебе. Чайко, чаєнько, в тебе ж вимір від надиру в самий зеніт, не здрібнів твій рід і не вимер – нащо ж пісня журлива скнить? Ти ще зможеш пірнути в штопор і скрутити в линву жалі, можеш звук обігнати без сопел, можеш вирівнять вісь Землі. Ні, не смій, моя доле, плакать – пий надії вічне вино: де лишився ще прапора клапоть, там палатиме знамено.» Это стихотворение использовали.
В. О.: Так кто же это поднял тот флаг? Что Вам известно?
И. Р.: Я не могу найти сейчас, человек, который был тем центром, умер. Я Вам говорил, что мы знали ячейки. Вот металлургический институт — мы знали, что там есть Чхан, там есть Кондратенко и там есть Любашенко. Кондратенко и Чхан были «засвечены», их кагэбисты знали, что они ходят ко мне. А Любашенко — кстати, мой земляк, из того же села его отец родом — доцент Любашенко, ныне уже покойный, он не «светился». Если и встречались мы, то где-то там на какой-то металлургической конференции или где-то так, а туда имели доступ другие. Кто-то из студентов вывесил — я пытался установить, но не могу. Может, кто-то и скажет.
В. О.: Может, кто-то когда-то признается.
И. Р.: Может, кто-то когда-то признается. Но в 1968 году, когда меня начали брать в КГБ (четыре раза меня туда таскали), то первый вопрос, который они мне задавали: «Скажите, пожалуйста, а что это оно за дата 22 января?» А я говорю: «Ну и что, 22 января, а что?» — «Ну, какая это дата?» Я говорю: «Вы знаете, я не знаю, какая дата». — «Иван Дмитриевич!..» — это полковник Тутик. Он был подполковник, а на Рыбалке, на Кузьменко, на Савченко, на Сокульском заработал полковника. Полковник Тутик — о нём надо рассказать немного детальнее.
Это был украинец по происхождению, янычар по воспитанию и мерзавец по убеждениям. Даже тот полковник, который над ним был, Капустников, русский, — тот, мне кажется, не был таким мерзавцем, как этот наш янычар полковник Тутик. По происхождению он из села Запрудье, это я позже уже установил, в Киевщине там. Отец его был, как тогда говорили, кулак, потому что у них была молотилка, и в 1929 году или в 30-м, или в 32-м их раскулачили. Отца сослали на Соловки, мать ещё куда-то, а детей разбросали. Так вот, он, окончив десять классов, наверное, и не окончил тогда ещё, убежал к сестре матери на Урал, там она была, на Урале. Там окончил десять классов, во время войны был мобилизован в армию и ему там дали лейтенанта, потому что он очень грамотный, значит, уже был. Лейтенантом он приехал после освобождения своего села. Ему сказали, что отец здесь, в селе. Отец отбыл наказание, потому что тогда, в тридцатом, давали семь-восемь лет. После того он пришёл в село и работал то ли кузнецом, то ли кем-то. Человек он был, как рассказывают, чрезвычайно трудолюбивый. Ну, а немцы, когда приходят, — они же психологи: ага, кто тут был преследуемый? Ты будешь старостой. Хочешь — не хочешь, а становись, потому что возьмут и расстреляют. Так он был старостой. И, говорят люди, не очень он старался там немцам служить, помогал своим, но работал старостой. Пришли красные и снова его посадили. Но когда ещё не посадили, потому что только пришли, то он, Тутик, приехав на коне, как крестьяне рассказывают, и даже не пошёл к отцу и матери ночевать. Переночевал где-то там и пошёл дальше на фронт. Это уже показывает, какова была его мораль.
Побыв на фронте, он попал в КГБ. КГБ — это организация, которая проверяла и знала до деда, до прадеда и до прапрадеда всё, поэтому и о нём знала всё. И поэтому Вы, наверное, тоже согласитесь со мной, что каким надо быть мерзавцем, чтобы иметь чёрное пятно, но дослужиться там до полковника.
Они меня вычислили давно, потому что я же лекции читал, так говорил иногда немного иначе. А потом литературы мне много шло, газеты почти все выписывал — и «Літературну Україну». А раз «Літературну Україну» выписывал — это фиксировалось. Я всё это знал, всё понимал. Да и когда я бывал в музее Ивана Макаровича Гончара — два раза там меня задержали. Я пришёл, а они: «А что вы тут делаете, а ваши документы? а мы вот тут проверяем, а мы вот тут ходим...». Поэтому они меня знали. У Юрия Огульчанского в Киеве я был. Только я вышел — а тут явились с обыском к нему. У Логвина Бабляка несколько раз был. Допросы. Бабляку я писал, что когда вышел «Собор», наш мерзавец Ватченко, секретарь обкома — это был мерзавец из мерзавцев, даже те, которые работали с ним, о нём так говорят, — Ватченко запретил «Собор» в своей области, узнав свою морду...
В. О.: В образе «выдвиженца» Володьки Лободы?
И. Р.: В образе Лободы. Так он запретил «Собор», хотя он вышел и продавался. Я написал письмо Бабляку и просил, что если сможешь, достань для меня в Киеве десять экземпляров, хотя бы десять экземпляров. И привезёте или, когда кто-то будет ехать, передадите, потому что наш секретарь обкома узнал свою морду в образе Лободы и запретил здесь его продавать. Я не думал, что КГБ уже аж так пропитало всё, что это же каждое письмо, которое я написал и где-то там бросил — оно проверяется. А оно таки было сфотографировано. Бабляк получил письмо, купил для меня эти книги и переслал. Я их то тем, то этим все раздал — то на заводы пошли, то ещё куда-то, у себя оставил один-единственный экземпляр, такой уже обшарпанный, что когда-то стыдно было перед Олесем Гончаром. Я с дочерью встретился с Олесем Гончаром уже перед его смертью, и говорю, что подпишите вот. Так не на том уже экземпляре, а какую-то другую книгу, чужую подписал Олесь Гончар, потому что у меня не осталось чистого экземпляра «Собора». Так вот, когда-то Тутик говорил: «Это ж надо — секретаря обкома „мордой“ обозвать!» А я говорю: «Я его не обзывал». — «Как же не обзывал!» И цитирует, какую-то там шпаргалку вынимает, цитирует. Я понял и говорю: «Это ж надо так нарушать Конституцию, где написано, что тайна переписки гарантируется законом, и те органы, которые должны следить за этим, сами нарушают Конституцию». — «А, так ты признаёшь, что ты писал?» — «Нет, не признаю, это ваша фальшивка». Ну, конечно, я понимал всё. Я после того перестал писать в письмах такое, что может навредить, потому что понял, что они проверяют.
Несколько раз меня тогда вызывали: я говорю: «Не знаю, что это за дата». — «Ну как, вы не знаете 22 января?» — «Нет, — говорю, — не знаю». — «Ну вы же историю знаете, вот мы Николаенко спрашивали, — позже я о нём скажу, — он про вас сказал, а это же рабочий: „Это светлая голова“. Это что, такой ваш псевдоним, псевдо такое?» Я говорю: «Ну, Николаенко мог что угодно сказать». Кстати, этот Николаенко не выдержал, сказал, что читал «Интернационализм или русификация?». От меня получил, жене дал почитать, жена в школе сказала, там почитали, а когда его прижали, то «раскололся», сказал, что у меня брал.
Знакомясь с людьми, я сказал, что я коллекционер, поэтому меня интересовала книга Михаила Брайчевского «Как возник Киев» — тогда была издана. А особенно «Римская монета на Украине». Я, бывая в Киеве, всегда ходил на тот рынок, где продают книги, и там познакомился с некоторыми людьми — Гук…
В. О.: Лидия?
И. Р.: Нет, Гук Николай. Он позже отошёл, но я через него познакомился с Бабляком, с другими. Там я, собственно, для КГБ версию такую придумал, что я купил «Воссоединение или присоединение?» Михаила Брайчевского в машинописи. Потому что его не издавали. И там же я приобрёл «Интернационализм или русификация?» Ивана Дзюбы.
В. О.: А в каком виде?
И. Р.: Машинопись, причём машинопись была чрезвычайно слабая. Я лично напечатал десять экземпляров, в две закладки. Долго я печатал.
Надо сказать, что я работал на заводе, уже я был начальник смены, потом заместитель начальника цеха, как мне предложили в Министерстве чёрной металлургии возглавить одну металлургическую лабораторию. Министерство чёрной металлургии Украины было в Днепропетровске. Здесь была центральная опытная лаборатория нормирования, проводились исследования мощностей и тому подобное, экономико-технического характера. Вот одну из лабораторий мне и предложили. Предложил наш бывший главный инженер завода Жигулин, полурусский-полуукраинец. Он толерантно относился к украинцам, он знал меня, а он был тогда здесь начальник управления. Ныне уже давно покойный. Он предложил: «Переходите сюда, здесь лучше, вы будете знакомиться с заводами. Я знаю вас, что вы грамотный инженер». И я перешёл. Когда я стал там работать, то все металлургические заводы, а их было 12, и трубных 7, и 11 заводов метизов, и литейные заводы — все они, так или иначе, проходили с техническими данными через нашу лабораторию. Я часто бывал на заводах, бывал в Киеве, бывал в Москве в Министерстве чёрной металлургии, и это дало мне возможность иметь связи и привозить некоторую литературу. В частности, «Хронику текущих событий» — мы её имели семь или восемь выпусков. Но мы вынуждены были их уничтожить, когда пошли обыски.
В. О.: Это в 1972 году, да?
> И. Р.: Да, в 1972 году. Поэтому мы знали и о Сахарове, и о Григоренко, и о других диссидентах. Правда, «Хронику текущих событий» мы не перепечатывали.
В Москве была американская выставка, и после той выставки они продавали по пятьдесят московских рублей — это было очень дёшево — такие портативные пишущие машинки. Я побежал туда, чтобы купить, а мне сказали: «Господин, вы уже опоздали, всё продали». Я разводил руками и говорил, что мне же так нужно. Подошла женщина и говорит: «Вам машинка нужна? У меня есть старенькая машинка „Москва“, возьмите хоть за 20 рублей». Через некоторое время мы встретились (я несколько дней был в Москве), купил ту машинку. Я привёз её домой, мы переделали её. Правда, Кузьменко Александр Алексеевич говорил: «У меня есть знакомый, вот он там перепаяет». Но я же не захотел, потому что Кузьменко иногда был таким человеком, что поступал необдуманно. Например, мне принесли перефотографированный на ротапринте — «Эры» тогда ещё не было — «Каталог бон и монет» Чучина, 1928 года издания. После того он не издавался, Чучин, видимо, был расстрелян. Мне его перефотографировали, потому что он мне нужен был для работы. Я пошёл, чтобы мне переплели его. Знакомый сказал, где. В «Каталоге» ничего запрещённого не было, там были советские деньги, но КГБ знало, что мне обложку сделали. Тутик тогда сказал мне: «Ты ещё что-то, кроме Чучина, там переплетал?» Я говорю: «Нет». Поэтому я уже был умный: мы припаяли вместо «ё» русского, выбросили твёрдый знак, и ещё какую-то — я не помню — букву, впаяли туда «і», «ї». «Ї» мне достали, а «і» из знака восклицания сделали, перекинули. И «є» поставили — «э» русское перекинули. Таким образом, машинка была без твёрдого знака, без «ё» и ноль ликвидировали — били «о». Это была русская машинка...
В. О.: С украинским акцентом.
И. Р.: И мне пришлось напечатать этих десять экземпляров. Они почти все разошлись.
В. О.: Интересно, сколько у Вас было страниц машинописи? Больше ста?
И. Р.: У меня было их, наверное, не больше ста, а, наверное, до двухсот. Я долго печатал, потому что я же не такая там машинистка. Но я печатал их сам. Знали об этом только Кузьменко и знал ещё Лой.
В. О.: Я сделал шесть фотоотпечатков — это быстрее, чем печатать.
И. Р.: Знал ещё Лой, уже ныне покойный. Это рабочий, который хранил всё это у себя. Потому что ко мне могли прийти в любую минуту, а к нему нет. Распространили мы где-то шесть экземпляров, один у меня остался. У этого Лоя он был длительное время. Аж потом уже, когда началась перестройка, то я взял у него. Он хранился у него за телевизором. Правда, Лой нигде не «светился», но он был просто сознательным человеком. Сейчас Таратушко взял тот экземпляр, читает где-то среди своих офицеров. Мне уже жаль, я вчера хотел принести показать, а потом посмотрел — нет. Поискал в своей библиотеке — нет. Думаю, возможно, где-то в библиотеке — а у меня большая библиотека, на всю стенку, — а потом нашёл записи, что у Таратушко. Так я позвоню ему, чтобы он принёс мне.
В. О.: Это большая ценность, это теперь должно быть в музее.
И. Р.: Это была книга в такой синей обложке, рука факел поднимает. Были для дипломных проектов такие обложки — синие, с факелом. Так мы вот несколько экземпляров сделали с такими обложками. Конечно, если бы они знали, что я это делал, то я минимум 15 лет имел бы у них.
В. О.: Ну, не 15, а 7 заключения и 5 ссылки.
И. Р.: Сколько они ни пытались... Я говорю, что действительно читал эту книгу, я её купил, никто её больше не читал, только Николаенко был у меня и прочитал. Но я её сжёг. Они это оставили, мол, мы тебя ещё поймаем.
В. О.: А когда Вы перепечатывали книгу Дзюбы?
И. Р.: В 1969-м… Да у меня на этой книге где-то и дата поставлена — 1969 или 1970 года.
В. О.: Значит, ещё до того «большого погрома» 1972 года?
И. Р.: Нет-нет, это я вторую закладку делал, а начал её печатать уже в 1968 году. Мы её получили в 1968 году. Знакомили меня с Дзюбой, знакомили меня и с Брайчевским, но знакомство было такое мимоходом. Я позже пришёл к Дзюбе, а он говорит: «Что-то помню и не помню». Ну, для чего это ему помнить? Знакомились мы, может помните, был когда-то вечер, Григорий Логвин читал лекцию, этот знаменитый наш киевский искусствовед, книга его вышла «Путешествие по Украине. Архитектура». Был большой вечер, посвящённый архитектурным памятникам Украины. Я приехал туда, меня пригласили Бабляк и Биняшевский, говорят, что будут там выступления, так мы пришли. Григорий Логвин читал лекцию. Мы пришли туда, там, конечно, было много людей, и разных. Наверное, и кагэбистов целый ряд был. Мы стояли так и Биняшевский сказал: «Вы не знакомы?» Мы подошли, и он нас познакомил с Дзюбой — вот и всё знакомство наше. Но кагэбисты спрашивали: «Вы же были знакомы с Дзюбой?» — «Нет, не знаком». — «Как же не знаком? Вон вы же даже знакомились». — «Может, и знакомился, но не помню».
Эту книгу собственно у Дзюбы взял и привёз Кузьменко Александр Алексеевич. А рекомендацию я попросил у Ивана Макаровича Гончара. Иван Макарович Гончар — не знаю, что он там говорил с Дзюбой, наверное, что вот приедут из Днепропетровска, так надо дать хоть один экземпляр туда. И поэтому Кузьменко его привёз. Так что знал только он, что я печатаю. Три экземпляра мы вынуждены были сжечь в степи, потому что начался «большой погром», брали всех, кого можно и нельзя. Брайчевского «Воссоединение или присоединение?» также было напечатано четыре экземпляра. Но один очень плохой вышел. Тоже разошлись, нет у меня ни одного экземпляра. Ещё что? Письмо Солженицына к писателям. Но это уже от руки. Его переписывали львовяне от руки. Тут приезжал Ковалис с товарищем, так они от руки переписали пять или шесть экземпляров. И выступление Григоренко перед крымскими татарами. Ну, стихи Николая Холодного. В частности, у меня были переписаны стихи Холодного. Я жалею, что я их тогда уничтожил. Как раз перед тем, что обыски были. Нельзя было держать.
В. О.: «Сегодня в церкви кони ночуют и воду пьют...»
И. Р.: «Сегодня в церкви кони...» А ещё я помню: «Они тебе Марксом замазывают глаза, тебя и половины уже не осталось, а ты им поёшь песни до полуночи, а ты их спрашиваешь, хорошо ли вам спалось». Или «Стоят кресты на демократах» — это даже сын мой выучил, этот стих «Стоят кресты на демократах, что пали в октябре на заре». Писал он как раз то, что нужно для того времени. Ну и Сокульского Ивана, и Виктора Савченко… То есть Владимира Сиренко стихи — «Все народы дивосветы, так дивосвет и мой народ». Савченко стихов не писал. Сиренко Вы же знаете?
В. О.: Конечно, я записал его рассказ.
И. Р.: Так этот стих «Все народы дивосветы...» я распространил среди театральной молодёжи. Благодаря этому стиху… Родная сестра моей жены, артистка, сейчас жива, была замужем за народным артистом нашего украинского театра Маратом Стороженко, который в прошлом году умер... Так вот, младший брат Марата Стороженко, молодой парень, поступал в училище — сейчас он режиссёр в харьковском театре. Экзаменационная комиссия принимала дикцию, читал он, а потом говорит: «Давайте я вам прочитаю стих». И прочитал этот. А они сидели-сидели, один поднял так очки и говорит: «Молодец, но пока что не читай его нигде никому». И приняли. Я не знаю, кто там был в комиссии.
Встречался я в этот период с Кульчинским Николаем. Это младшие ребята были, они очень часто бывали у Кузьменко Александра Алексеевича. Кузьменко и его жена так любовно всегда принимали, когда люди приходили. Николай Плахотнюк бывал. Вы, наверное, знаете Плахотнюка, я там с ним познакомился. И Алла Горская бывала. Часто приезжала Анна Светличная — это наша поэтесса, которая ныне уже покойная. Она больна была, вообще лежала. Вот у меня её посвящение есть. У меня есть все её сборники. Её также преследовали. Как преследовали? Не печатали, потому что взять её уже нельзя было.
Я. И. Тринчук: Она лежала, прикованная к постели. Так к ней был прикомандирован кагэбист, который сидел возле неё почти круглосуточно и следил, что она пишет.
В. О.: А где она жила?
Я. И. Тринчук: Она в Павлограде жила. Сидели, потому что она же написала одно такое хорошее стихотворение, посвящённое воинам УПА. Они перепугались — и уже конвой возле неё.
И. Р.: У меня есть несколько её сборников. Вот она пишет — может, чувствовала: «В этом добром доме желаю Ивану Дмитриевичу Рыбалке счастья, душевного беспокойства на долгие годы. Буду ли снова в этом доме, не знаю, но собирайтесь вместе и вспоминайте меня. Анна Светличная».
В. О.: Это 1968 года, 3 мая.
Я. И. Тринчук: Я прошу прощения, мы сегодня не закончим…
И. Р.: Я ещё расскажу о Николае Кульчинском. Он на меня произвёл хорошее впечатление, это серьёзный человек. Он проходил по процессу Ивана Сокульского, ему дали три года. Я теперь встречался с ним очень часто, когда в Киеве бывал, когда в Рух ездил. Мы в Рухе встречались.
В. О.: Я знаю его, мы с ним договорились, что как-нибудь встретимся в Киеве и я запишу его.
И. Р.: Так он в Полтаве, он сейчас возглавляет там Рух, и даже депутат.
В. О.: Да, он прошёл по списку НРУ. Кто-то там из депутатов выбыл — и он стал депутатом.
И. Р.: Диденко Афанасий Андреевич — чрезвычайно хороший человек, военный, подполковник. Он сам — не знаю, как — отыскал Кузьменко, отыскал меня. Вёл какую-то работу, я не могу сказать, какую, потому что в ту часть я не входил. Но когда ему нужна была литература — приходил.
Меня начали вызывать на допросы, первый раз в 1968 году. И в 1969 году — всего четыре раза, собственно. На работу приедут (я уже в Министерстве работал), возьмут в машину и вот катают по Днепропетровску, а потом в КГБ привозят — и давай пиши. Я говорю, что я же уже писал вам, что эти книги я купил, я с тем незнаком, с тем незнаком, ту не знаю, а эти знакомые. «Ну, а вот Диденко Афанасий Андреевич, подполковник — что у вас общего? Ну, вы там металлурги, говорите, что вы обсуждаете с этим инженером металлургические проблемы, там с писателями — а что же с этим?» — «А с этим я играю в шахматы, он, — говорю, — очень хорошо играет». — «А вы хороший шахматист?» — «Нет, — говорю, — я плохой шахматист, но играю с ним». И Диденко, когда его вызывали, говорит: «А что вы находите?» Они: «Как что?!» — «Да вы знаете, это же коллекционер и шахматист. Вы знаете, мы в шахматы очень хорошо играем». А мы действительно иногда играли в шахматы. Но Диденко умер ещё до перестройки, в 80-х годах уже его не было. К сожалению, мы не смогли использовать его, чтобы войти в военные структуры. Это уже позже, уже при перестройке, я читал лекции офицерам, уже современным.
Корниенко Василий Петрович, уже умер, инженер, работал в научно-исследовательском институте. Там у него был небольшой союз единомышленников, ко мне он приходил, брал некоторую литературу, в частности, «Собор» Олеся Гончара, распространял. Его через некоторое время выгнали. Кстати, директор этого научно-исследовательского института был мерзавец. Позже при Кравчуке его назначили вице-премьером — Урчукин. Сам он по происхождению то ли осетин, то ли кто-то там из кавказских, но мерзота такая. А потом он даже начал изучать украинский язык. Корниенко они выгнали с работы, он вынужден был покинуть всё и поехал в Казачий Гай, тут за Синельниково есть такое село, там его родители умерли, вот он там жил и, к сожалению, рано умер. Он приезжал из Казачьего Гая, когда уже перестройка началась, он в Рухе был. Тянул меня, мол, поехали, там купишь себе какой-нибудь хутор, поселишься и будем жить в Казачьем Гаю.
Тринчук Ярослав Иванович — вот он здесь, с ним я познакомился уже позже, я до того его не знал.
Скорик Михаил — я его знал через десятые руки, я с ним и не общался, как не общался и со многими писателями.
В. О.: Он теперь книгу издал — не видели?
И. Р.: Я знаю, я с ним знаком, у меня есть и его адрес, и всё.
В. О.: Я с ним встречался в Киеве, он мне книгу дал. (Михаил Скорик. Зима. Исповедь о пережитом. – К.: Изд-во «Правда Ярославичей», 2000. – 350 с. — В. О.).
И. Р.: Сиренко Владимира Ивановича я знал через Кузьменко, но мало. А когда он вот отбыл свой срок и вернулся сюда, то тогда мы уже ближе сошлись. Ну, Вы о нём лучше знаете.
«Письмо творческой молодёжи». Про «Письмо творческой молодёжи» я ничего Вам не скажу, потому что я не знаю конкретно.
В. О.: У меня об этом уже есть много материала.
Я. И. Тринчук: Но если Вы будете очень старательно искать авторов «Письма творческой молодёжи», то найдёте их, как минимум, человек двести или триста.
И. Р.: Абсолютно, потому что сейчас и Владимир Заремба кричит, что это он. Выключите, пожалуйста.
В. О.: Почему?
И. Р.: Да ну, это не для печати.