Интервью Мирослава Михайловича МОСЮКА
(На сайте с 2.03.2008. Исправления М. Мосюка 11.04.2008).
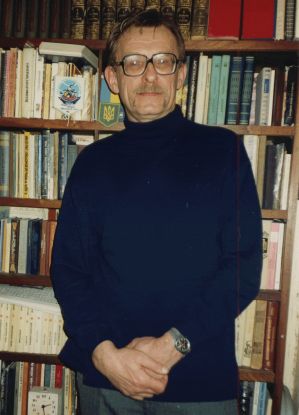
В.В.Овсиенко.: 10 февраля 2001 года в Одессе ведём беседу с господином Мосюком Мирославом Михайловичем. Записывает Василий Овсиенко.
М.М.Мосюк: Зовут меня Мирослав Мосюк, родом я из такого доброго старого, очень древнего города Владимира, что на Волыни. Правда, он под влиянием Владимира-на-Клязьме переименован во Владимир-Волынский, но, поскольку княжество было Волынское, а позже Галицко-Волынское, то Владимир, как по мне, и должен называться Владимиром. Другие пусть называются Владимир-на-Клязьме, а у нас есть своё.
Родился я в 1949 году, там учился, все мои детские годы там прошли, никуда мы не выезжали, не переезжали, пока я не закончил школу. Очень хорошие воспоминания о школе...
В.О.: Но дату рождения назовите.
М.М.: 11 марта 1949 года я родился. Семья наша была небольшая — родители, старший брат и я.
Поскольку рассказ должен касаться украинского правозащитного движения, движения сопротивления, то я, когда начал всё это вспоминать, с удивлением для себя отметил, что родители нас оберегали от всего этого, абсолютно ничего не рассказывали. Мы ничего не знали, что да как. Уже намного позже, когда я учился и отучился, меня эта советская система зацепила своим жёстким, по правде говоря, крылом, я узнал, что муж моей крёстной погиб в УПА. И с удивлением узнал, что отец мой — а отец был 1896 года рождения, — оказывается, служил в Украинской армии и воевал за Украинскую Народную Республику. Так случилось, что впервые я об этом немного услышал, когда отец приехал ко мне в Одессу — опять же, впервые приехал со времён революции (это было в 1967 или в 1966 году, я тогда тяжело заболел и лежал в больнице в Одессе), и мы с отцом прогуливались, так гуляли по улицам, а отец говорит: «Вот здесь был митинг, вот здесь мы стояли...» Место митинга, которое показал отец, было у бывшего велотрека стадиона СКА (1967 г.). Теперь на этом месте театр оперетты.
Оказывается, в 1917 году ему как раз довелось служить в царской армии в Одессе, и во время революции украинская стихия подхватила и моего отца — звали его Михаил Иосифович — конечно, тоже Мосюк. Я как сейчас вижу лицо отца, когда он говорил: «Подошли ко мне и говорят: пане-товаришу, Ви є українець?» — Украинец. — «Ходімо з нами!» И пошёл отец с ними, и так хорошо пошёл, что обратно на Украине оказался аж в середине 30-х годов, где-то после 1930 года, точнее мне неизвестно. Никогда отец ни мне, ни брату ничего не рассказывал об этом, как я уже говорил. Лишь когда отец уже был болен (а умер он в 1972 году), я приезжал на зимние каникулы (я тогда как раз уже с политикой познакомился), то он один раз, в последний раз, всё-таки что-то рассказывал. И что интересно — вот я называю свою фамилию, всю жизнь я с ней прожил, она моя, родная, со дня рождения, но я не знаю, наша это фамилия или нет. Отец будто бы говорил, что он родом с Волыни, с Сокальщины, но брату говорил, что их село было где-то напротив Каменца-Подольского, через реку, и было у него то ли ещё 5 братьев, то ли их всех было пятеро. Наверное, из какой-то зажиточной семьи были. Глядя на всё это, мне кажется, что он всё-таки скрывался от всего этого, потому что не простила бы ему советская власть той войны. Знаю, что был он в Чехии, как когда-то говорил, был в Бельгии, и что эмигрантская судьба была тяжёлой. Вот единственный, возможно, мостик между поколениями. Но он всегда говорил: беги от той политики, не лезь никуда и ни во что. И как ни смешно, но я вырос убеждённым украинцем, а мой старший брат вырос-таки убеждённым коммунистом, и всю жизнь мы с ним воевали. В сознательном возрасте у нас были очень хорошие, братские отношения — брат живёт в селе в Крыму (и его уже нет — умер в 2006 году. — М.М.), — но идеологически мы с ним всегда ссорились. Но со временем жизнь его немного повернула, и он увидел Украину и, так сказать, тоже вернулся к отцовскому наследию.
В Одессу я приехал в 1966 году, окончив 11-й класс, поступил в наш Одесский государственный университет на химический факультет, который и окончил. По образованию я химик-органик, немного поработал по этой специальности. Жизнь крутила, как, наверное, и каждого. Но всю жизнь мне были интересны книги — видите, тут есть на что посмотреть.
В.О.: Я вижу, что у вас украинская библиотека — вон Стус...
М.М.: Стуса у меня есть полное шеститомное издание. У нас тут есть ребята, у которых есть книги, есть люди, которые этим занимаются. Даже в редакции был, есть у меня там знакомые в издательстве. Книги есть, это всё я люблю. И вот, видите, на полочке ряд одинаковых переплётов — это серия «Жизнь знаменитых». Разные книги, конечно, читаешь, а потом я понял, что всего не охватишь, и я сосредоточился на украинской литературе. Особенно к поэзии питаю привязанность. Поэзию, конечно, всю люблю, разных наций, а своя всё равно как-то роднее. Мне кажется, что это естественно и нормально. Заинтересовался я этой серией. Но смотрю, вышел в «ЖЗЛ» каталог. Вижу: чего-то одного, другого тома нет. Я спрашиваю в библиотеке — а я в нашу университетскую библиотеку ходил, там, как всегда среди библиотекарей, много таких пылких, преданных этому делу людей, там есть настоящие энтузиасты этого дела — мой земной поклон всем им, всю жизнь как-то они меня привлекали к себе. И я стал спрашивать о том и о сём, где-то по магазинам выискивал, собирал. Мне тогда и в голову не приходило, что какие-то книги могут быть изъяты. К тому времени или ещё раньше была изъята книга о Юрии Кондратюке «Через тернии к звёздам». Потом была изъята «Неопалимая купина» Сергея Плачинды и Анатолия Колисниченко. А я уже нюх имел, и я её перед тем, грех сказать, в библиотеку не сдал, потому что видел, что она будет изъята. Рассчитался, всё как положено, но грех-таки на душе лежит, потому что к университетской библиотеке пиетет должен быть высокий.
Так об этих изъятых номерах мне сказали, что они есть на кафедре искусствоведения. Там есть один человек, который знает украинскую литературу, некий Василий Барладяну — вот вы к нему подойдите, и, может, он вам скажет. Так мы с Василием и познакомились.
В.О.: И когда это было?
М.М.: Это я как раз окончил университет в 1973 году. Так что это был где-то 1973–74-й год. Я тогда первый год после университета учительствовал. Год поработал после университета, но мы химики, нас никогда педагогическая работа не привлекала, мы все тогда рвались в науку, в науку, что-то делать более важное, хотя неизвестно, что важнее — наверное, всё важно. Но рвались в науку. И я, поискав работы, ушёл из школы. У нас же в Одессе есть Селекционно-генетический институт. (Теперь он называется Селекционно-генетический институт — национальный центр семеноводства и сортоизучения. — М.М.). Прекрасный институт с большими традициями, и хорошими, и плохими. Это сельскохозяйственный институт, селекционная работа, выращивание хлеба — что нам всегда как-то импонирует. Там была создана лаборатория молекулярной биологии, где я тогда как раз занимался электронной микроскопией нуклеиновых кислот. Совершенно новое направление, в Одессе этого ничего не было, но оно тогда финансировалось более-менее неплохо, и у нас было хорошее оборудование. Вот там я работал.
Так вот, возвращаюсь к Василию. Познакомились мы с ним. Действительно, оказался толковый парень, умный, начитанный, очень грамотный. Василий, кстати, был ленинским стипендиатом, а как бы стипендия ни называлась, но стипендию за красивые глаза не дают, а дают за знания и за труд. Так началось наше знакомство, которое дальше переросло в более близкие отношения, можно даже сказать, в дружбу. Вот тогда и выяснилось, что какие-то книги были изъяты из обращения. Я тогда был абсолютно невинным в этих делах, я всего этого не знал. Книги читать — читал, в университетской библиотеке много чего есть, даже некоторые вещи были не изъяты. В студенческие годы и позже, когда я работал в школе, у меня была масса времени. В школе я всё успевал сделать — там посидишь немного после работы, пока ученики придут, кого-то проконсультировать, подсказать и т. д. — а времени много. И я себе стал перебирать весь украинский отдел библиотеки. У нас в университетской библиотеке есть каталог украинских изданий, и я его перебрал от «А» до «Я». Помню, нашёл такую себе книжечку, брошюру Андрея Ричицкого под названием «Владимир Винниченко в жизни и политике», которую совершенно спокойно выписал себе на абонемент и взял домой читать. Кстати, она в библиотеке по сей день сохранилась. А некоторые книги пропадали. Был ещё такой сборничек — по сей день у меня есть карточка — «100 лучших украинских песен», где я с удивлением увидел, что там есть одна песня, которую напевала моя мама: «Ми гайдамаки, ми всі однакі», «…проти вражого ярма» и т. д., то есть маковеевский «Марш гайдамаков». А там она была опубликована. То есть как ни прячь шила в мешке, а оно где-нибудь вылезет...
Возвращаюсь к знакомству с Василием — ну, были разговоры о том, и о другом, о десятом. В то время в Одессе был какой-то круг знакомств — вот Тарас Максимюк, мой хороший приятель, с которым мы уже, наверное, 25 или даже 30 лет знакомы. Он краевед, большой знаток украинской литературы, географии, истории нашего края, истории искусства.
Если говорить об отношениях с политической жизнью — не могу сказать, чтобы они у меня были особенно тесными. Это дружба с Василием, мы что-то вместе делали, что-то нас, как говорится, возмущало, мы с этим были несогласны, о чём-то мы там говорили и плевались. Я всегда спокойно, откровенно высказывал свои мысли. Конечно, в Одессе, по тем временам, — ну, теперь гораздо меньше, но тогда человек, который разговаривал на украинском языке, высказывал такие проукраинские взгляды, выглядел «белой вороной». Белая то белая ворона, что есть в этом городе, в Одессе, хорошего — что люди могут над чем-то посмеяться и т. д., но нет такого резкого сопротивления и враждебности к противоположному. Потому что, помню, мы когда-то с Тарасом Максимюком проходили по городу, заходили где-то на кофе или на рюмку. Разговаривали с ним всегда на украинском языке. (Тарас теперь у нас уже заслуженный деятель культуры Украины.) И когда мы разговаривали на украинском языке, то в одном месте на нас смотрели-удивлялись, а в другом месте говорили: «О, ребята! Как приятно, что вы говорите!» Люди радовались этому. Но, скажу, ни разу мне не сказали закрыть рот или ещё что-то, или чтобы оскорбляли за украинский язык и так далее. Иногда что-то такое бывало, намекали, но, видите ли, парень я здоровый — наверное, не очень хотелось говорить мне что-то нехорошее.
Пошёл я тогда после школы в Селекционно-генетический институт. С Василием Барладяну часто общались, виделись, разговаривали. У меня была фотобумага, потому что иногда нужно было что-то переснять, перефотографировать. Вот я же о книге Плачинды вспоминал, у нас в фонде Петруня был географический атлас Кубийовича, «Атлас Украины и сопредельных стран». Какое же всё-таки это было придурковатое время — эта книга может быть изъята! Что же делать? Беру я ту книгу, иду к другому парню, беру плёнку «Микрат», которой делали фотокопии, и перефотографирую всю эту книгу — в чёрно-белом варианте, потому что цветной плёнки тогда ещё не было. На всякий случай, чтобы оно не пропало. Где-то та плёнка у меня очень долго валялась. Вот чего жалко было!
Тогда Василий уже начал меня понемногу знакомить — я такой, что когда вижу книгу, у меня сразу, как у борзой, шерсть дыбом становится, мне интересно, я везде свой нос сую: дай почитать, дай посмотреть! Могу сказать, что ни разу в жизни моей не было библиотеки, где бы мне не дали прочитать книгу, которую я хотел. Причём были люди, которые никому ничего не давали. Может, я вызывал доверие — хочется надеяться, что как человек порядочный, потому что всегда отдаю то, что беру чужого. Так когда-то я взял у него почитать солженицынские произведения — там была какая-то часть «Архипелага». Помню, что брал у него перепечатанное «В круге первом». До украинской литературы как-то не дошло. И потом уже — вы, наверное, знаете Марию Овдиенко? Когда-то я был в командировке в Киеве, и поскольку было свободное время, а я ехал надолго, то что же вечерами делать — сидеть в общежитии или в гостинице? Как-то оно скучновато. В библиотеке тоже долго не посидишь. И я поехал к знакомым — Марии и Дмитрию, её мужу. Я вспомнил, что когда-то, будучи в библиотеке, я брал, как всегда, химическую литературу. А для разрядки, для отдыха брал себе что-то из украинской литературы — так было в Ленинской библиотеке в Москве, так было в Киевской библиотеке имени Вернадского, так же и здесь. И как-то мы разговорились с девушками. Оказалось, они с филологического факультета. И вот тогда ко мне, может, единственный раз попал этот стих Лины Костенко об Адаме и Еве «Райская элегия» (Ліна Костенко. Вибране. – К.: Дніпро, 1989. – С. 170. – М.М.) — помните: «зажурилася Єва, і Адам заклопотаний ходить, і розсмикані хмари…» и т. д., этот стих. Из всей украинской литературы, что сегодня появляется, видишь, какой силы и красоты — мы были как-то ограничены во всём этом, обкрадены. Это, как я вижу, лучшие проявления человеческого духа, достоинства, чести и так далее.
И уже потом пошло дело. Василий что-то писал, я, к сожалению, а может, к счастью (потому что есть много тех, которые пишут так, что стоит ли печататься) таланта к писательству не имел, но что-то помочь, какие-то книги взять... Помню, когда-то я набрал в институтской библиотеке литературы, классиков марксизма-ленинизма, потому что Василий писал какие-то свои статьи, и я тем ему помогал. Был момент, о котором и следствие не знало: он ещё с кем-то что-то перепечатывал, нужна была фотобумага для копий, и когда-то мне Василий говорит… А у меня в лаборатории, для своей работы, была машинка, потому что мне нужно было что-то писать, печатать научные статьи, так он попросил меня перепечатать одну его статью. Если не ошибаюсь, называлась она «Таков он, советский суд». Что, кстати, потом инкриминировалось мне как преступление, поскольку это чётко подпадает под статью «Изготовление и распространение». Ну, распространение нет, но «изготовление антисоветской литературы». Надо — значит надо. Помочь приятелю, товарищу своему — святое дело. Но я понимал, что это такое, и после работы, когда уже никого не было, я запирал двери в комнате лаборатории и клацал, всё это тихо, спокойно. Мы молодые были, работали много, и это не вызывало никакого подозрения ни у руководства, ни у кого, что сидишь после работы. Какой-нибудь коллега, который так же засиделся, мог вечером зайти перекурить, посидеть, поговорить, немного передохнуть, сделать себе минутный перерыв в работе.
Вот такая была, так сказать, политическая зацепка. Как по мне, то ничего здесь такого не было. Ну, я понимаю, что с точки зрения власти за что-то можно было человека стукнуть и репрессировать. Это мы с Василием общались уже, и довольно тесно… Дочка у меня родилась в 1973 году, тогда мы вместе с детьми гуляли, потому что мы жили неподалёку друг от друга, там в парке виделись, он со своей дочкой, я со своей. Где-то практически вплоть до его ареста, а это случилось в 1977 году. И суд был в 1977 году.
Работая в институте, мне приходилось сравнительно часто ездить в командировки в Москву, в Киев — и в то время где-то в Киеве стали за мной присматривать наши «незабвенные органы». Потому что я общался с Дмитрием Обуховым, Марией Овдиенко, ходил к ним домой, виделся с ними.
Тогда уже была совершена не совсем понятная мне провокация. Когда я был на стажировке в Киевском Институте молекулярной биологии и генетики, то там мне сделали одну пакость — обвинили в том, что я без разрешения своего консультанта взял там программу для расчёта результатов эксперимента. Хотя, слава богу, что хватило какой-то предусмотрительности: я не сам это брал, а с коллегами, сотрудниками института. Я уже собирался возвращаться в Одессу, а там надо было быстро сделать расчёты. И мы с ребятами посидели вечером, и это всё они мне помогали сделать.
Где-то в 1976-77 году Василий меня предупредил, что его вызывали в прокуратуру, в КГБ. Говорит, смотри, потому что могут заинтересоваться и тобой. Интересоваться — так интересоваться, за собой я вины практически никакой не чувствовал, кроме вот этого, за что меня можно было взять за шкирку, обвинить, так сказать, в нарушении советского закона. А ещё — тогда к Василию приезжали ребята с Западной Украины. И был один случай — тогда события стали развиваться довольно стремительно, Василия уже начали прижимать… К нему приезжал один галичанин — я не помню имени — и что-то его вечером хотели хапнуть, но тот парень был как дуб, и он кому-то бабахнул в лоб, от другого вырвался и убежал.
И вот в один прекрасный день на работе, под вечер, мне звонят из отдела кадров, говорят: «Тут надо вам какие-то документы подписать, что-то в вашем деле, вы бы зашли, подписали». Я говорю: «Да я сейчас занят, может, попозже?» — «Да нет, надо, чтобы вы сегодня зашли». Было где-то четыре часа, конец рабочего дня. Я говорю: «Да тут у меня эксперимент...» — свободно себя вёл с нашим руководством, это нормальное состояние было, я в институте пользовался уважением, потому что это же совсем другое, новое направление, а работал я с охотой и с большим желанием. Это, наверное, чувствовалось, и поэтому отношения с администрацией были хорошие. Мне говорят: «Вы всё-таки зайдите сегодня. Вот будете идти домой — по дороге заскочите, тут только подписать». А у нас лабораторный корпус и административное здание — целый институт, это очень большая территория, с полями, там много лабораторных корпусов — где-то так метров 300. Я где-то перед пятью часами взял себе портфель и уже иду домой, а тут подходит ко мне какой-то человек, спрашивает: «Вы не Мосюк случайно?» Я говорю: «Да». И я не успел опомниться, как меня — раз! — с двух сторон под белы руки и швырь в машину. И я уже сижу на заднем сиденье в «Волге»! Сидят по обе стороны от меня два мужика, и я ещё и говорю: «Ого, ничего себе, я думал, что такое только в кино показывают. Оказывается, бывает и в жизни».
Ну, привезли меня во всем одесситам знакомое здание на тогдашней улице Бебеля. А сегодня эта улица Бебеля называется Еврейской, а переулок, который рядом с ней идёт, — Романа Шухевича. Правда, сейчас вроде бы поменяли обратно на Грибоедова. Наша же власть очень крутит: не дай бог, чтобы было что-то такое сильно украинское. Но некоторое время назывался тот переулок Романа Шухевича. Ну, и привезли меня туда, где я уже познакомился с такой системой, которая называлась КГБ.
В.О.: А вы дату того задержания не помните? Ну, хотя бы месяц.
М.М.: Даты? Это было, наверное, осенью, потому что погода была такая холодно-морозная. Где-то, наверное, если суд был в 1977 году — потому что долго тянулось следствие — это где-то было поздней осенью 1976 года.
В.О.: Василий Барладяну был арестован 3 марта 1977 года. (Но первый обыск по этому делу у него был уже 16.06.1976. — В.О.)
М.М.: Арестован — да, 2.3.1977. Март. Значит, это было всё-таки осенью 1976-го. Конечно, когда меня привезли — «Вам подписку, что мы Вас...» — Не помню, давал ли я подписку, что я не имею права разглашать всего этого, что меня вызывали, или нет? Не помню. — «Ну, а то, что Вы обязаны это всё хранить в тайне...» — и т.д. Конечно, очень им хотелось слепить из меня стукача. Да я ту всю шатию-братию хорошо вижу и это всё чувствую.
Но как-никак я нашёл время, выскочил — ещё Василий был на свободе, подъехал к нему, говорю, так и так, так и так, чтобы ты был в курсе дела. Рассказал ему историю, как меня взяли. Наверное, они рассудили, что раз тот парень сбежал, то они боялись, чтобы чего-то такого и со мной не вышло. Хотя я всегда был вроде бы спокоен — соответственно своему имени Мирослав, я человек миролюбивый. Ну, я говорю, так и так, вызвали, то-то и то-то и то-то — за что меня могут хапнуть? Вот единственное — что печатал. Это повод, чётко, как положено. Василий говорит: «Знаешь что? В случае чего ты говори так, что я к тебе приходил по вечерам и печатал я». Это по-детски сейчас выглядит, но он старался как бы меня выгородить и уберечь от всего этого. Ну, а что было, то было, из прошлого мы не в силах выкинуть чего-то. Но сделал — сделал. Я это делал сознательно, я совсем не собираюсь от этого отрекаться. Какое-то вот такое мальчишеское отношение было. Единственное, что могу сказать — в тюрьму, конечно, не хотелось, ни в тюрьму, ни в лагерь.
В.О.: Естественно. Кому же туда хотелось?
М.М.: Кто ж туда хотел. Ну, и началось — это один раз вызвали, оно тянулось несколько недель. Раз, другой день. Первый раз меня привезли в КГБ, со следователем я говорил — Иван Александрович то ли Задорожный, то ли Завгородний — не помню точно фамилии, хотя и позже я с ним виделся. Один пришёл, другой пришёл. Потом повели меня — как у них это звучит: «Мы вас поведём к генералу». Ну, так к генералу, велика важность.
В.О.: Что мне ваш генерал...
М.М.: И это был тот, что погиб на «Нахимове», Куварзин. Ну, пришли, он: «То-то-то-то-то...» — начинает. Что-то на меня генерал большого впечатления не произвёл, не чувствовал я этого верноподданничества, трепета в коленках. Ещё и козырялся сначала там. Говорю: «О, слава богу, хоть одно учреждение в Одессе, где нормально разговаривают на украинском языке». Так посмеялись. Долго это продолжалось. Где-то с пяти часов и до двенадцати, а может, и до часу ночи.
В.О.: А чего они хотели добиться от вас?
М.М.: Чего они хотели? «Вот пишите». — «Что писать?» — «Вот, Барладяну есть такой вот... Кто ваши знакомые и так далее». — «Ну что, я должен всё описывать?» — «Да, ну вот есть некоторые люди, мнение которых не совсем совпадает с политикой правительства». Тогда было клише — «политика партии и правительства». В конце мне действительно предъявили: такая-то и такая-то статья. «Вы знакомы с такой статьей?» Я смотрю: «На то он и советский суд». Та статья, что написал Барладяну, а я её перепечатывал. Но я несколько статей помогал ему печатать, потому что у меня была возможность. А он закладывал, конечно, несколько экземпляров, потому что он их куда-то посылал — я тогда ещё не знал, что он ещё с «Украинским вестником» Черновола сотрудничал. Василий меня в это дело не посвящал. Это отдельно.
Что-то я не помню... «Ну вот, такая статья. Где она была?» Я по этой статье вижу: да, это чётко та статья, что я печатал. И хочешь не хочешь — можно экспертизу сделать, определят по машинке. Результатов экспертизы мне не предъявляли. «Да, я печатал» — а дальше пошли разговоры, то есть я был на крючке, чётко на крючке. Всё — «изготовление и распространение». Потому что одно дело перепечатать в одном экземпляре, а другое — когда четыре или там не помню, сколько закладывалось в машинку такой бумаги — по-моему, 4 экземпляра нормально пробивалось.
В.О.: Даже 5 и 6 закладывали.
М.М.: Но это когда тонкая бумага, а вот типа такой бумаги — максимум 4 экземпляра и всё.
«Ну хорошо, вот эта статья. Здесь описан какой-то случай, который действительно имел место, так и так. Тут совершенно справедливо человек высказывает своё возмущение по этому поводу. У нас же есть свобода слова? В Конституции записано? Имеет право человек писать?» — «Вот оно не совсем, так сказать, совпадает». Кстати, сначала разговаривали на украинском языке, а потом раз за разом уже переходили на русский, потому что аргументировали, общались на работе, жизнь, труд — общение больше было русское. И вокруг всего этого крутилось. Конечно, я там крутился, выкручивался, как только можно было. Сначала козырялся, а потом каялся, что так и так, я ошибся, тут якобы не так оно есть. «Но ведь вы нарушили закон?» Я ещё, помню, пошёл в библиотеку, взял книжечку «Государственные преступления», поскольку это всё было в этом разделе Уголовного Кодекса. Сначала, говорю, меня подвезли домой, потом меня сразу после работы несколько раз ждала машина сбоку. А боишься же на работе! Потому что с работы полетишь — а тут работа, которую ты любишь, которая тебе нравится. Это всё было понятно — и прячешься с этим всем, ей-богу, как с какой-то дурной неприличной болезнью. Когда это вспоминаешь, то и вспоминать это как-то не очень приятно. Такое впечатление, что ты с чем-то гадким и препаскудным столкнулся, что что-то в руки попало такое…
И так оно тянулось долгое время. Уже сейчас, видите ли, прошло 25 лет с тех пор, и уже забылось много нюансов всего этого. Что там могли инкриминировать Василию, я не знал, да и по сегодняшний день он как-то не очень любит об этом всём рассказывать. Но в том, что я признал, что ту статью я печатал, а статья та была явно не советской, то есть антисоветской, я на суде должен был выступать как свидетель обвинения, что мне не нравилось, и неприятно об этом вспоминать и на сегодняшний день. Но что было, то было.
В.О.: А в советском суде не было свидетелей защиты — что бы ты ни говорил, всё шло в обвинение.
М.М.: Так-так. Меня туда таскали, потом я сам ходил, потому что меня вызывали — шёл туда, как телёночек на невидимой верёвочке, потому что должен был идти. Знаю, что на работе моих коллег опрашивали. И что я потом смог оценить — порядочный человек где-то в уголочке тихонько ко мне подходил и говорил: Мирослав, так и так, то-то и то-то, меня вызывали, то и то спрашивали — чтобы ты был в курсе дела, что к чему. А я ещё раз говорю, что особенно в лаборатории мы спокойно и откровенно обо всём говорили, не таясь, не прячась, без всяких оговорок. То есть у нас действительно царила такая демократическая атмосфера, мы спокойно могли высказывать свои взгляды. А другие люди не говорили мне. Была, например, одна супружеская пара, где жена сказала, что её таскали, а муж нет. Вот и такие бывали разломы. И конечно, это потом наложило свой отпечаток на дальнейшее общение.
И так оно дело тянулось, пока дошло до суда. А суд состоялся 27–29 июня 1977 года. На суд меня опять-таки вызвали. Ещё, помню, по дороге ко мне какая-то женщина подошла и говорит: «Вы отказывайтесь от своих показаний, потому что может быть, что и на вас это всё перейдёт». — Могут выделить «в отдельное производство». Могло и так повернуться, но не повернулось. Свидетельствовал я на суде, что так и так, всё это я делал и, наверное, к сожалению, это грешное дело. Словом, свидетельствовал я против него. Может, он мог бы отказаться, как-то выкрутиться — а может, и не мог бы, это уже дело десятое. Ещё, помню, судья меня уколол: «Как вы оцениваете…». То да сё. А я говорю: «Если вы считаете, что я что-то не так говорю, то я могу сесть и на ту скамью, рядом с подсудимым». Они увидели, что я дёргаюсь, и эти показания взяли и выставили меня за дверь. А вы же помните, что свидетель зашёл и вышел, он не имел права... Или имел право, или не имел права — по сей день не знаю...
В.О.: Тот, кто дал показания, имел право оставаться в зале суда, но они, как правило, выгоняли.
М.М.: После того отвратительно было это всё. Конечно, когда шло следствие в КГБ, они вроде бы обещали, что не будет «оргвыводов», никакой огласки и административных наказаний. Они надеялись меня в сексоты взять. И крутился я, как уж на вилах, потому что какое-то отвращение у меня к этому подлому делу. Я вообще врать не люблю — как каждый, я, конечно, врал в своей жизни, но не люблю. И помню, что хорошо меня прижимал мой следователь. Потом меня вызывали уже не в КГБ, не в прокуратуру, а вызывали меня (и опять же, хотел или не хотел, а должен был идти) в нашу гостиницу «Чёрное море». Какая-то спецкомната там у них была, и там я сидел. Помню, что следователь и крутит, и прижимает, а я сижу за столом, и по позвоночнику, по спине пот течёт — вот насколько оно... Ой! И когда всё это закончилось, помню, было такое впечатление, что мне позвоночник сломали, что я растоптан, осквернён — чёрт-те что! И тогда в моей первой семье и жена сдала, потому что, как потом я выяснил, что когда с той системой соглашаться, как-то помогать той системе, то ОНИ давали какого-то там пряника — потом она сделала довольно неплохую служебную карьеру. Но недолго это всё продолжалось. А после того одно за другим, одно за другим — и вскоре мы развелись.
В.О.: Так что КГБ к этому было причастно?
М.М.: Опять-таки, прямо сказать не могу, а врать не хочу. В какой-то мере да, хотя личные отношения, знаете, это такое… Оно просто добавилось. Может, это была та соломинка, которая, по поговорке, сломала спину верблюду. Или, может, ещё как-то иначе.
А на работе было по-другому. Когда-то я со своим руководителем, заведующим лабораторией, разговаривал. Он мне говорил, что это система. А каждая система, каждое государство себя защищает. Ты пошёл против неё — значит, ты виноват. Логика в этом, безусловно, есть. И советское государство умело себя защищать. Если бы ещё так наше государство сегодня себя защищало, как то — ох, как бы это было хорошо! К сожалению, нынешние руководители берут из опыта чёрт-те что, а хорошего — нет. Это действительно хорошо — защита государства. Хорошего они брать не очень хотят.
Помню, ещё меня стращали тем, что обнародуют это всё, потому что мы это всё прятали, как какую-то срамную болезнь. «Вот давайте соберём собрание, — а тогда, 1977 год, это мне уже было 28 лет, я ещё был комсомольцем, — соберём комсомольское собрание и вот там выскажемся». Я ухватился за это, говорю: «Хорошо. Я не считаю, что я ЧТО-ТО такое сделал, — а у меня аргументом было, что то, что я делал, — это моё конституционное право — свобода слова, свобода печати, это якобы моё дело». Ну, нашёл с кем играться в демократические принципы! «Хорошо, — говорю, — я тогда стану на собрании и расскажу людям, что к чему и как. Пусть они выскажут свою точку зрения». А институт-то вроде как земледельческий, значит, более украинский, значит, там всё равно кто-то найдётся, кто скажет слово в защиту. А найдётся или нет — это ещё неизвестно. Ну, но факт тот, что они от этого дела отреклись.
Словом, суд закончился тем, что на адрес института пришло по поводу меня так называемое «частное определение», у меня была беседа со своим шефом, вызвал меня директор института — не знаю, жив ли он ещё или нет — Алексей Алексеевич Созинов, академик.
В.О.: Созинов — да в Киеве он!
М.М.: Говорят, что он был свояком Щербицкого, что-то такое из родственников. Он вызвал, разговор был с глазу на глаз, чисто конфиденциальный. Он говорит: так и так, — ну, мы на русском языке разговаривали, — тут пришла бумага. Мы должны как-то на неё реагировать. У вас есть ваша работа, — а я занимался тогда электронной микроскопией нуклеиновых кислот — но я, институт, — должны какое-то движение сделать. Вам остаётся вся ваша тема и всё то, что есть, но мы вас переведём в другой отдел. И меня из лаборатории молекулярной биологии, так сказать, чисто формально перевели в отдел генетики. Но у нас могли быть какие-то стимулы — что-то сделать, защитить диссертацию, поехать в какую-то командировку на стажировку, повысить свою квалификацию, потому что всё-таки это традиционная наука, и что касается селекции, то здесь можно было что-то сделать, а что касается научной работы, особенно высокотехнологичной — там, где очень высокая технология, дорогие приборы и т.д., то оно было только по каким-то более крупным центрам, а Одесса к таким центрам не относилась и не относится и по сегодняшний день.
Я говорю, что Созинову я не могу бросить упрёка, со своей точки зрения он был прав. Более того, он меня откровенно предупредил, сказал, что и как, и разговор был корректным — ничего не могу я сказать. Переведён. И я понял, что дальше всё, конец. То есть никакого движения. Ну, как платили в то время научным сотрудникам, вы, наверное, тоже знаете. Это были копейки, мизер, и без учёной степени ни на что не мог рассчитывать. Потом я видел и отношение к себе. У нас тогда было введено такое — вроде бы заместитель руководителя отдела или лаборатории — но на общественных началах. То есть занимались всяким хозяйством. Я, например, такой псевдотитул носил и занимался заказом реактивов, оборудования — чисто хозяйственные вещи. Уже тогда мой шеф заметил меня и доверял это мне. А теперь вижу: уже командировок нет, и на работе какой-то вакуум вокруг меня, я стал его чувствовать.
А ещё в то время в семье произошёл разрыв, и в один прекрасный день я собрал свои манатки — а манаток у меня было несколько здоровых сумок книг и вещи, что на мне, — и переехал я в общежитие для аспирантов. Слава богу, тогда в институте было много свободного места. Причём не по прописке — я же вроде имел право на жилплощадь там, где жил с женой, а был же в примаках. Так что я, так сказать, незаконно то в одном месте жил, потом в другом месте, потому что — новый аспирант приходит. Поселили людей на законных основаниях — то должен освобождать эту койку, это место. Так что немного гоняли меня. Но какое-то время прошло, я уже познакомился с другой женщиной, на которой позже и женился.
Я видел, что уже в институте мне делать нечего. Пришло время — я уволился из института. Это в 1979 году я уволился и перешёл работать на завод.
В.О.: А завод какой? Назовите его, пожалуйста.
М.М.: Завод радиально-сверлильных станков, так называемая «раדיалка». Очень большой завод был в Одессе — к сожалению, на сегодняшний день он тоже почти загнулся. Я там работал с января 1979 года. Работал я там больше 15 лет. А я же говорю: человека с высшим образованием, на рабочее место тебя брать не могли. Я был молодой, относительно здоровый парень. Закончилась моя, так сказать, интеллектуальная карьера, и я должен был на таком месте работать или на другом, зарабатывать себе на хлеб. Тут уже мои новые родственники помогли, хотя непросто было устроиться на работу. Через родственные связи пошёл я на завод работать. Взяли меня в отдел научно-технической информации.
Прошло какое-то время, и покойный дед моей жены говорит мне: «Что же ты ничего не сказал, что ты с КГБ дело имел?» А как же мне хвастаться этим делом — кто ты мне? «Я ж не знал, туда-сюда — мне надо было сказать, я же тебя устраивал...». И т.д., и т.п. Ну, ничего. Тем более, что платили немного. После того перешёл туда, куда после тюрьмы направляли — в литейный цех.
В.О.: О, так-так!
М.М.: Мастером, правда. Но работал там долго, 7 лет проработал я в литейном цеху. Причём, что интересно, это мне нравилось — простые, откровенные отношения, нормальные, правда, очень далёкие от школьного увлечения «рабочим классом». Когда изнутри, то видишь, что это совсем другое. Но было ещё раз, когда я уже работал в литейном цеху. В один прекрасный день вызвали меня к начальнику цеха, говорят: «Что-то тебя в партком вызывают». А это ещё какого чёрта? Я с парткомом никаких отношений не имею, с комсомолом рассчитался, и после этого ни в одной партии не был, в том числе, что естественно, в коммунистической. Ну, пошёл.
Прихожу, смотрю — сидит моё счастье, мой бывший следователь, подполковник: «Здравствуйте, Мирослав Михайлович!» — «О! Давно не виделись! Что же это вас сюда привело?» Тут я почувствовал какую-то маленькую возможность дать немного сдачи. Я зашёл из литейного цеха: морда чёрная, весь лоб мокрый, в спецовке — ну, каким из литейного цеха выходят? — и сидит секретарь парткома рядом, а я ещё и спрашиваю, чего он сюда пришёл. «Вот у нас к вам есть предложение». То да сё. Я говорю: «Что вы крутите, как цыган солнцем?» Причём говорю с ним так, уже с правом разговора наравне. «Вот вы много читали, много знаете, вы и сейчас всё-таки интересуетесь всеми этими вещами». — «Какими вещами?» — «Ну, вот украинским движением и прочим». — «А откуда это вы знаете?» — «А как же вы думаете — мы присматриваем, мы держим вас в своём поле зрения». — «Хорошо держите, что я не замечаю». — «Вот мы бы хотели, чтобы вы написали по поводу вашего знакомого Барладяну ещё что-то». Какой это был год, я не помню — с 1979 года я на заводе, но это было немного позже, где-то, очевидно, 1979-80 год, так.
В.О.: Это уже тогда, когда закончился первый срок Василия Барладяну и надо было дать второй?
М.М.: Очевидно. Когда хотели ему припаять ещё что-то. Я говорю: «Вы же знаете, что из меня писака никакой». — «А мы вам поможем, мы вам дадим материалы». И тут я себе всё-таки говорю: писать или не писать — это одно дело, а вот влезть бы в вашу библиотеку — вот это было бы! Видите, это старая, вечная тяга этого книжного червя. Я говорю: «Ну, если так — вы же знаете, что я работаю — то делайте мне командировку, оплачивайте её, как положено — и тогда...» — «Нет, вы после работы...» — «А если после работы — так вы сами пишите после работы! А я на работе работаю, а после работы я законно отдыхаю». Сидит секретарь парткома, смотрит на меня, а глаза у него, вижу, не то квадратные, не то угловатые какие-то становятся — с подполковником КГБ так разговаривать! Как-то тоже непонятно. Я говорю: «Вот чтобы вы знали: днём или на смене я работаю, а потом я отдыхаю. Хотите, чтобы вам что-то делали? Так за работу платят». Потом до меня дошло, что платят — это тоже разная штука. Но, говорю, вот я вам сказал, а вы себе думайте. И без разрешения (!!), без ничего — повернулся да и ушёл себе в цех. Если, говорю, надо, то вы знаете, где меня найти — вы же нашли!
И на том наше общение с ними закончилось. Правда, уже после 1991 года — у меня же когда-то изъяли несколько книг, причём я, как дурак несусветный, сам я их принёс: «Историю» Аркаса, «Очерки истории Коммунистической партии Украины» под редакцией Петровского, довоенное издание. Это всё наш знаменитый Староконный рынок — там кое-что попадалось в руки. Ну, я и отнёс просмотреть, без протокола изъятия, без ничего — и так мне и не вернули. Глупость сделал, но что ж говорить — нечего греха таить, что было, то было. И я пришёл в КГБ — и снова выходит этот мой «крёстный», так сказать, Задорожный или Завгородний. Он мне показывал своё официальное удостоверение, что он такой-то, но мне не запомнилось, не отложилось в памяти. Я пришёл и сказал, что хотел бы ознакомиться со своим делом — да и книги же вы изымали в своё время? Он ля-ля, и то, и сё, это долго, а оно вам надо... А времени у меня нет — все мы люди занятые. Это одно дело, когда есть время гулять, ты мог раз и второй прийти, настоять на своём. А это мне как-то выпало в рабочее время быть там возле КГБ, я и зашёл. Но так я и не читал своего дела, так я всего этого и не видел. И всё.
Вот что говорить? Если подытоживать это всё, о своём личном, то эта система — может, это какие-то банальные, штампованные слова, — кто попадал под маховик той системы… Я говорил, что осталось то ощущение, что тебя сломали, смяли и, будь я женщиной, сказал бы — изнасиловали… Не знаю, слава богу, что это такое…
Мы видим какое-то, говоря мягко, несовершенство нашего нынешнего государства, но страшно приятно, что это уже Украина, и что я могу спокойно говорить, и никакая сволочь мне пальцем не будет тыкать «разговаривайте на нормальном языке», хотя и сегодня хватает таких дураков, которые могут это сказать... Я счастлив, что имею свою Украину — нашу Украину. Это моё государство. У меня когда-то была возможность уехать, и на сегодняшний день есть возможность поехать, но это моя страна, какая она ни есть. Она как мать, я её люблю. Если своей жизнью, своими поступками, своим настроением, своими разговорами кому-то где-то помог стать, повернуть голову в нужном направлении — потому что действий за собой я каких-то не вижу — то я уже счастлив, имея своё государство. На этом и закончим, пожалуй. Может, вы что-то хотите спросить?
В.О.: Да, очень конспективно. Принимали ли вы участие в каких-либо общественных и политических организациях уже во время той перестройки и борьбы за независимость? Проявляли ли какую-то активность?
М.М.: На митинги ходил, но я не люблю выступать. Я не из тех людей, абсолютно не честолюбивый человек. Это, очевидно, и недостаток, а может, и какая-то положительная черта. Не люблю я лезть вперёд. Деятельно, когда был референдум за или против Союза, если помните...
В.О.: Да, в марте девяностого.
М.М.: Вот тогда я пошёл, у нас тогда была «Южная громада», Общество украинского языка, — взял от них удостоверение, которое до сих пор где-то у меня хранится как память, — и пошёл наблюдателем, и честно от «а» до «я» ещё с одним парнем из украинцев отработал. Причём мы чётко, в отличие от тех всех, добились, чтобы закон выполнялся в полном объёме, чтобы никто не агитировал ни «за», ни «против», чтобы всё было чётко, чтобы человек мог спокойно высказать своё мнение. И, конечно, чтобы и они там не очень крутили. Это был тот момент, когда я увидел, что тут уже нельзя сидеть.
Я всю жизнь со своими приятелями, со знакомыми воевал и спорил, старался их перетянуть на свою сторону. Я помню, было так, как у каждого человека есть какое-то своё общество, вот дни рождения. Ну, сели там, рюмку потянули. Это был где-то год 1988-89-й, это перестройка, когда газета «Літературна Україна» из рук вырывалась. Я подошёл к одному: «Одолжи 5 рублей». — «Зачем тебе?» — «Да надо. Одолжи 5 рублей». Я их человек восемь набрал. А тогда подписка на «Літературну Україну» стоила где-то 5-60. «Вот вы мне дали по 5 рублей, я вам добавлю понемногу и всем вам, баранам, подпишу ту «Літературну Україну», чтобы вы читали хоть немного, чтобы знали, а то вы меня расспрашиваете».
(Второй раз не выдержал в 2004 году. Отработал членом участковой избирательной комиссии на выборах Ющенко.
А последний раз взяло за живое в 2007 году. Протестовали, причём очень активно, против памятника царственной лахудри… Мы проиграли полуоккупационной власти. Которая-таки поставила этот памятник. Думаю, что он не вечен. «Карфаген должен быть разрушен…» — М.М. )
Я, очевидно, наелся той советской системы в отношении всяких организаций, партий, движений, комсомола, и поэтому последняя организация, в которой я принимал участие, — это была комсомольская. Потому что ни в партии, ни в Рух никогда не записывался — никакой политической активности. Что-то оно мне не хотелось всего этого, не тянуло.
В.О.: Или я не заметил, потому что я не спал, кажется, вы начинали говорить о том, что должно было быть комсомольское собрание, и вы вызывались на том собрании изложить всё. И что из этого вышло?
М.М.: А следователь сразу дал задний ход. Почему? Как я себе сейчас соображаю, и тогда они тоже не хотели огласки. Потому что каких-то особых проступков за мной не было. Это же мелочи, мы с вами прекрасно понимаем — ай-ай-ай, перепечатал статью! Причём, там же не было призывов к свержению власти, к какой-то войне или сопротивлению — чисто критического плана! И тут оказывается, что система за это даёт взбучку. Он, наверное, хотел меня напугать тем собранием, а оказалось, что я не очень-то его испугался. Поэтому он сразу дал задний ход.
В.О.: Это могло против них сработать.
М.М.: И поэтому продолжения эта тема не получила.
А вот ещё один интересный момент я сейчас вспомнил — опять-таки, как система не жалела денег. Это в тот момент, когда меня ещё КГБ таскало, и я ходил — причём ходил я в это же «Чёрное море». А в семье я уже тогда стал отдельно жить. В один прекрасный вечер звонок в дверь — является ко мне мой одноклассник. Где Одесса, а где Владимир! Я глаза на лоб: «Что такое, Гриша?» — «Да вот, тут у меня командировка, я приехал в Одессу». Ля-ля и такие разговоры, вот где-то выйдем, пройдёмся. А я тогда занимался наукой и получал каких-то 100 или 130 рублей, то есть в кармане вечно пусто. «Давай пойдём куда-нибудь в ресторан». Я говорю: «Так у меня же денег нет». — «Так у меня есть». Пошли мы в ресторан «Чёрное море». И разговоры, он меня расспрашивал о том, о сём, и о Василии Барладяну. А Василий же стихи писал, несколько стихотворений у него было очень хороших. Мы с ним говорили, что никак издать он их не может. А эти стихи юношеского времени мне нравились. «Вот у нас там в Луцке ансамбль есть…»
Я к чему всё это веду? В журнале «Березіль» где-то за девяносто какой-то год были воспоминания какого-то человека, который был репрессирован — где-то у меня есть тот номер журнала. И там чёрным по белому написано было: Гришка Гридасов был сексотом, он стучал на своих знакомых. До публикации в журнале я, конечно, не мог всего этого свести воедино, а когда я это прочитал... Ведь не пожалели денег, чтобы он приехал сюда, чтобы он со мной встретился, чтобы повёл меня в ресторан! Так что, видите, от КГБ я даже имел выгоду, потому что в ресторане поужинал за их счёт. Вот такая интересная черточка.
В.О.: Ну хорошо, мне, кажется, больше не о чем спрашивать. Разве что: где вы теперь работаете?
М.М.: Сейчас как-то так, слава богу, исправилось, теперь я работаю в научно-техническом центре. Моё дело — научное оборудование, лабораторное оборудование, мы поставляем оборудование в различные лаборатории. Я являюсь ведущим специалистом по лабораторной технике. Таково моё нынешнее положение. (Сейчас не работаю — на пенсии, имею инвалидность — сердце. — М.М.)
В.О.: Благодарю вас.
Мирослав Мосюк. Снимок В. Овсиенко 10.02.2001.