Интервью Михаила Рувимовича ХЕЙФЕЦА
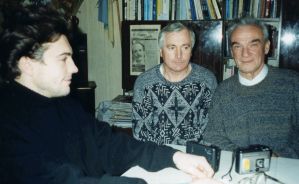
В.В.Овсиенко: 9 декабря 2000 года в Киеве в квартире Василия Овсиенко на улице Киквидзе, 30, квартира 60, записываем разговор с Михаилом Хейфецем.
М.Р.Хейфец: Сегодня мы будем говорить о том, как я технически писал книги — об остальном уже вроде написано, а об этом я нигде не писал.
Сама идея писать книги возникла у меня еще под следствием — кстати, не в лагере, — когда закрывали 206-ю статью. Собрались гебисты — радостные, довольные, какие-то бумажки валяются, наводят порядок, тут сидит прокурор и читает дело, я читаю дело, и я пошутил. Я им сказал: «Мужики, вы опупели — сажать писателя в зону? Я же обещаю: я вам за каждый год срока, что вы мне дадите на суде, напишу по книжке». Они страшно развеселились. Я сейчас понимаю, какую я ошибку сделал — что я их предупредил, — но тогда я как-то не всерьез все воспринимал, мне казалось, что все это какая-то комедия вокруг меня происходит. Они развеселились и говорят: «О, уже один такой был! Вот тут по делу самолётчиков проходил Эдуард Кузнецов, получил срок и там, в зоне, как-то ухитрился и написал книгу, перебросил ее, и ее напечатали на Западе. Вот нашего прокурора он там описал так ехидненько». Как же звали прокурора? Вроде что-то Борис Николаевич — боюсь, что я напутал, может быть и другое. «Как называлась эта книга?» Он так сурово оторвался от чтения дела и так сказал: «Дневники». И снова уткнулся в дело.
И тут я подумал — я, конечно, думал и раньше писать, но я думал, что я кончу срок и буду обо всем этом писать, — а тут я подумал: эге, что один человек мог сделать, то и другой человек может сделать. Значит, можно будет писать книги в зоне.
Но, конечно, они учли это мое глупое предупреждение и очень внимательно следили за каждым моим шагом, когда я брал в руки перо — письмо написать, заявление, — тут же моментально появлялся на семнадцатой «А» Пётр Петрович Ломакин, тут же бежал на вахту и тут же появлялся надзиратель. Так что на 17-й «А» я сочинял книгу, но я ее сочинял в уме. Я только всякими условными значками, какими-то мыслями, обычно замаскированными под конспекты из книг — я как будто бы читаю книгу и заношу какие-то мысли по поводу этой книги или цитаты из нее. Я так писал.
И в 19-й зоне я ее продолжал сочинять. Я сидел там за сверлильным станком, и я научился так работать, что руки действовали сами, автоматически, и мозг был совершенно отключен. И я все восемь часов, что сидел, сочинял книгу. Рядом со мной тоже был стукач, который очень внимательно наблюдал, не пишу ли я чего-нибудь. Забыл его фамилию — по правую руку стоял он.
В.В.Овсиенко: Это какой цех был?
М.Р.Хейфец: Футляры для часов, для ЧГ-11. И тут маленькое отвлечение в сторону. Когда я потом оказался в Израиле и повстречался там с Толей Парташниковым, который там в Израиле уже [неразборчиво], он сейчас главный редактор Краткой Еврейской Энциклопедии. А в нашей зоне 19-й он сидел лет за 15 до меня, раньше. Я его спросил: «А что вы делали в зоне?» Он сказал: «ЧГ-11 — что же еще?» То есть это такая консервативность промышленности, что проходили десятилетия, а делали все ту же модель часов. Я вообще не понимаю, кому они ее сбывали, но неважно.
Так вот, я сидел там и потом я даже навострился кое-что записывать. Я делал так: заготовки я ставил сбоку, так столбиком, и они отгораживали меня от стукача, а здесь я быстренько записывал какие-то мысли. А он не видел — он видел, что я стою, руки у меня на станке, и он как бы не видел этого.
И тут ко мне подошел Боря Пэнсон — один из зеков-самолетчиков на 19-м, очень хороший парень, — и говорит: «Миша, появилась возможность через несколько недель послать посылку за кордон». Я говорю: «А какого размера? И что?» Он говорит: «Сколько хочешь пиши, место есть. Придумывай». Я подумал, что этот случай надо не упустить. Не только для меня, конечно, была посылка. Он мне сказал, что можешь обратиться к кому хочешь и тоже пригласить. Я пошел туда к Васылю Стусу, и он мне вложил туда несколько заявлений, которые он хотел сделать. По-моему, Васыль, кроме меня и Пенсона единственный знал, что будет посылка — по-моему, я больше никому не сказал.
И надо было, значит, ее написать и упрятать. И тут я сообразил: повезло просто. Это был октябрь-ноябрь, наверно.
В.В.Овсиенко: А год?
М.Р.Хейфец: 1976-й.
В.В.Овсиенко: Да, Стус там был тогда.
М.Р.Хейфец: И я сообразил. Нас в это время, на мое счастье, выводили в ночную смену — не помню, не то до часу, не то до двух ночи мы работали в цеху. Бригада у нас была очень хорошая, был бригадный подряд. Мы всю норму выдавали за 6 часов, а последние два часа у нас были свободны, и никто не работал, потому что особо перевыполнять норму никто не стремился, потому что сразу ее повысят — какой же смысл? Меньше тоже не хотелось давать, т.к. ларька лишат или там чего. А 101% мы давали за 6 часов — и все, останавливались и дальше отдыхали. А начальству тоже хорошо — мы норму сделали, так что им еще, хлопотать, что ли?
И вот в это время я выходил из цеха. Там была курилка под окном цеха, со столом, где обычно играли в шашки в перерыв, если дневная смена. А ночью темно, ночью никто не выходил — холодно, мороз. Еще не снег, но уже холодно, хотя, по-моему, и снег уже выпадал. Почему я это запомнил — я больше всего снега боялся, потому что на снегу видно. Когда снега нет, то и ты темный, и здание темное, и тебя никто не заметит. Приходилось все время учитывать, есть снег или нет, и где садиться.
Я брал ручку, брал тетрадку. Свет на стол падал из окна, а меня не было видно — я сидел ближе к окну и сливался со стеной. Так я писал то, что надумал за день. Надо было, конечно, быть очень чутким, потому что менты иногда ходили с обходом. Но они шли с другого входа в цех, проходили в цех, и тут они выходили. Я прислушивался все время. Это было немножко сложно, потому что надо было и писать, и прислушиваться. И когда они выходили, они там что-то осматривали в прихожей — тоже смотрели, нет ли там чего — я быстренько прятал и притворялся, будто я курю, хоть я не курящий. Но это никто не запоминал, никто не обращал внимания, а стукач — ему тоже чего на холод за мной выходить? Он оставался в цеху. Самое сложное для меня было — прятать. Куда эти листки прятать? Потому что на обратном пути шмон делали. Как туда шмон, так и обратно шмон, из жилой зоны в промышленную и обратно. Поэтому я тайник сделал прямо тут, на месте — там лежала какая-то водопроводная труба, такая небольшая. Я я брал полиэтиленовый пакетик, засовывал туда бумаги, обматывал и засовывал в эту трубу. Так, валяется труба на земле — ну кому придет в голову, что там тайник?
В.В.Овсиенко: А вдруг бы ее забрали?
М.Р.Хейфец: Вот, правильно, к тому я и веду. И однажды я прихожу, а трубы нету. Ее забрали вместе со всем написанным. Но это я как раз уже описал, это в «Месте и времени» есть, что я растерялся, и тут я впервые сказал Мишке Коренблиту, что я пишу. И он мне говорит вот то, что Вы мне сейчас сказали, что нашли тайник. Я говорю: «Сейчас меня, наверно, уведут». Я стал давать ему некие распоряжения на случай, что меня арестуют. Он говорит: «Миша, может быть, просто взяли трубу? Вы дурак, что выбрали трубу для этой цели, но, может, ее просто унесли. Где она у Вас лежала — вот тут? Ну пойдемте посмотрим». Мы пошли по тропинке и видим: валяется мой полиэтиленовый пакетик.
В.В.Овсиенко: Он выпал?
М.Р.Хейфец: Он выпал из этой трубы — ее унесли, а он выпал. И таким образом он был спасен.
В.В.Овсиенко: И как далеко это было?
М.Р.Хейфец: Это было метров за пятьдесят. Так что я уцелел в тот раз. Всякие приключения бывали. И тогда я придумал такой тайник, которым горжусь до сих пор и считаю, что я очень умный.
В.В.Овсиенко: И не боитесь рассказывать?
М.Р.Хейфец: Ну, так чего, я подумал, что прошло почти 25 лет, уже вряд ли мне когда-нибудь это пригодится. Тайник был такой. Он был позаимствован мною у Эдгара По, из его рассказа «Потерянное письмо». Я ведь конспиратор никакой. В отличие от настоящих подпольщиков, диссидентов и прочих, я на воле никакой конспирацией не занимался, мои знания в этом деле были нулевые. Но зато я книжки читал. И вот в рассказе Эдгара По «Потерянное письмо» история такая, что один министр выкрал письмо у своей королевы и шантажировал ее, и благодаря этому вся власть в государстве была в его руках. Но король и королева пытались избавиться от его влияния, извлечь у него этот компромат, который им был опасен. И они попросили начальника полиции. Полиция за ним гонялась: она обыскивала его кабинет, она под видом, что его не узнали, устроила ему личный обыск в карете, этому министру, якобы спутали его с кем-то. То есть все что угодно — вскрывали там паркеты, буравили стены — ну, ничего нигде нет. И тогда они обратились к частному сыщику, предшественнику Шерлока Холмса, которого описал Эдгар По, — я не помню, как его звали уже, давно читал рассказик — и он сам явился и отдал им это письмо. Он его нашел. Оказывается, министр сделал самую простую вещь. У него под столом была корзина для брошенных бумаг, для писем, и это письмо, только заложенное в старый, потертый, скверный конверт от какого-то просителя, валялось там прямо на виду. Они там все ощупали, а то, что лежит открытое и на виду — на это они не обратили внимания.
И вот этот случай я запомнил и использовал тот же самый прием. Что я сделал? Я взял носки, шерстяные носки, пришлось остричь у носков пальцы большие, потому что целый носок могут украсть — мало ли кто, какие люди бывают. (Смеются). А я все-таки уже прошел 17-ю, я уже был портным — дырка вроде видна, а на самом деле была зашита и носок был целый, в нем не было дырки. Я его вешал просто там, где сушилось белье, посреди лагеря.
В.В.Овсиенко: Ну-у-у...
М.Р.Хейфец: Посреди лагеря я его вешал. (Смеются). Чем удобный был тайник? Во-первых, к нему можно было подойти в любое время, потому что ты вешаешь белье — пришел, повесил, пошел, стирка там, постирал носки. Никто особо внимания не обращал — зек подходит к тому месту, где висит постиранное белье. Я засовывал туда и там оно лежало. Однажды, потом уже, это значительно позже было, со второй книгой — гебисты узнали, что я пишу вторую книгу, они у меня нашли листок от нее. И они устроили гигантский шмон на зоне, фантастическое что-то было, зона такого вообще еще не знала и не помнила. Все было вверх дном перевернуто, нагнали массу народа, сами лично гебисты руководили, не доверили уже оперативному персоналу эмвэдешному, сами руководили. И всюду обыскали — в каптерках, все-все-все, а это место — оно так и провисело. Обыскать повешенное белье на веревках они не догадались.
Вот такое, значит, было. И еще у меня были временные тайники. В каптерке у меня стояли ботинки, сапоги, и я стельки себе сделал в ботинки, а под стельками был такой временный тайничок, несколько листков. Ну, стоят ботинки, посмотрели, заглянули в ботинки — ботинки, как ботинки, а что надо поднять стельки — это не догадались. Я в них никогда не ходил, а они просто там стояли.
В.В.Овсиенко: Около Ваших вещей?
М.Р.Хейфец: Около моих вещей. Я всегда предпочитал, чтобы все было явным, потому что раз я поставил эти ботинки около моих вещей, значит, в них ничего нет. Они как бы думали, что если я прятать буду, то я буду прятать в стороне где-нибудь, втайне. А все это стоит вот тут, у моих вещей, вот эти ботинки. Они не обращали внимания, в крайнем случае они шмонали рюкзак там, или что там, я не помню уже, что было у меня — вот эти вещи они шмонали. А ботинки, которые стоят тут же, рядом, они пропускали. Расчет был именно на то, что все открыто — ну, стоят ботинки, расшнурованные, раскрытые, — и в голову не придет (расшнурованные — это надо было, чтоб быстро туда засунуть и вынуть), открыто все было, а на открытое они внимания не обращали. Вот тот же самый принцип.
Я написал эту книгу довольно быстро — недели за три или за четыре. Написал, потому что она сочинена была до этого, в голове она вся была уже, лежала, и заметочки кое-какие были, конечно, такие, условные, но все равно, заметки. Фактически, мне надо было только изложить это все на бумаге, сочинять уже ничего не надо было. Ну, и отдал Боре Пенсону, и там произошла та история...
В.В.Овсиенко: Интересно, Вы писали на какой бумаге?
М.Р.Хейфец: На тетрадной. В обыкновенных тетрадках.
В.В.Овсиенко: И обычным почерком, не уменьшая?
М.Р.Хейфец: Обычным почерком, нет, ничего. Это все было вот так, в лоб, в расчете на дурачка — и прошло! — в расчете на полную открытость, на отсутствие всякой конспирации — и прошло. Да я и не был конспиратором, я и не умел. Прошло. Ну, тут, конечно, Бог меня спасал, покровительствовал мне — это я скажу внаглую, но так и было, потому что, конечно, я попал в историю с этой рукописью...
Когда она, наконец, была готова, самая главная трудность была — что я не мог ее перечитать. Когда ты пишешь рукопись, ты все время перечитываешь, правишь, исправляешь, правишь стиль. А тут даже то, что сегодня написал, я не мог перечитать, а уж тем более не мог перечитать, что я написал вчера, позавчера и так далее. Я ее никогда в жизни не читал — впервые прочитал, что я там написал, уже в напечатанном виде, когда я вышел, кончив срок. И поэтому я представления не имел, получилось у меня что-нибудь, вышла книжка, не вышла книжка, что вообще-то там в итоге получилось.
В.В.Овсиенко: Надо было гением быть, чтобы писать сразу начисто.
М.Р.Хейфец: Начисто. И вот у меня, конечно, соблазн был почитать. Но как? Вынуть и читать — это же сразу тут... стукачи, в общем, меня стерегли довольно плотно, надо сказать. Рядом со мной лежал на кровати стукач...
В.В.Овсиенко: А не помните имени?
М.Р.Хейфец: Ну почему не помню — Гриша Топурия.
В.В.Овсиенко: А, Топурия — да-да-да, был такой.
М.Р.Хейфец: Он очень внимательно следил, и внаглую так лез, когда я что-то начинал читать. Я помню, мне Константин Скрипчук дал, по-моему, главу из Библии, про [неразборчиво], как сейчас помню, про то, как они восстанавливали храм, — дал почитать. Так Гриша подбежал — он был адвентист седьмого дня — и чуть не вырвал у меня из рук посмотреть, что я читаю. Вообще, эти стукачи были совершенно наглые люди.
В.В.Овсиенко: Надо же было зарабатывать.
М.Р.Хейфец: Ну, конечно. Нет, причем люди неплохие, но жить надо. У него дома дети — так сказал мне Виталий Лысенко: у него дети, а у других что, детей дома нет, что ли? В общем, он за мной наблюдал. Потом дневальный — я не помню уже, как его фамилия — тоже наблюдал, очень зорко, что я делаю.
В.В.Овсиенко: А в каком тогда Вы отряде были? Где он размещался?
М.Р.Хейфец: Номер отряда я уже забыл, конечно.
В.В.Овсиенко: А помещение двухэтажное или одноэтажное?
М.Р.Хейфец: Это были двухэтажные помещения, но мы были только на первом этаже. Я помню об этом помещении только одно, что когда там был какой-то старый надзиратель, который еще былые времена помнил, и я его спросил: «А кто здесь в нашей зоне сидел?» — «Ну, и большие люди сидели». Я говорю: «Ну вот, на моем месте, вот там-то я сплю — кто там спал?» «Кажется, — говорит, — Мальков, комендант Кремля». Ну, за что купил, за то продаю, проверить это я не могу.
И вот я Боре сказал: «Завтра мы отправляем». А я уже что стал делать: в это время я уже все потихонечку перенес рукопись в жилую зону. Это все уже в жилой зоне происходит. Я уже написал и перенес.
В.В.Овсиенко: А как Вы перенесли? Это тоже...
М.Р.Хейфец: Через риск, но на самом деле, когда нас вечером, ночью уже — ну, уже такой шмон поверхностный.
В.В.Овсиенко: Да-да, считалось, что в ночную смену шмонают легче.
М.Р.Хейфец: Легче. И я перетащил всю рукопись сюда, потому что я уже опасался там держать, обыски были в промзоне иногда, когда нас там не было. И я перенес все сюда, а теперь надо было переносить рукопись обратно. Я взял ее всю и подготовил, решил, а, протащу, на теле протащу через обыск. Я немного обнаглел, счастье было. Занес я ее в кровать, засунул в карман бушлата и накрылся этим бушлатом на ночь. И вдруг меня как толкнуло: могу же я почитать ее сейчас — ночь, пойду в туалет. Там один был «торчок» — на всех остальных мы орлом сидели, а вот один был «торчок», там только бригадиры сидели, лагерный актив, они это место удобное для себя берегли. А тут ночью можно посидеть. В случае чего, бумага в руках — для гигиенических нужд. И можно, наконец, прочитать, что будет?
Я встал и пошел в туалет. А была жуткая, страшная буря, я вообще не помню такой бури за все годы в лагере — страшный ветер, ураган. Наконец, я прихожу на место — с трудом пробивался, как танк, сквозь снег проходил. Сажусь на «торчок», вынимаю рукопись, и вдруг вижу — последних трех страниц нет. Я понимаю, что ветром вырвало, вынесло из кармана и унесло. Я скорее сунул обратно, побежал, смотрю, ветер дует на «запретку». Ну, думаю, ладно, завтра нарушу все зековские правила, пойду чистить «запретку». Авторитет у меня на зоне был немалый, если я скажу ребятам: не осуждайте, так надо — поймут, поверят, что раз я пошел чистить «запретку», значит, что-то экстраординарное случилось, это мне нужно.
На следующий день, помню, стою я с Борькой Пенсоном у него там в инструменталке — он там что-то чистил, я не помню, в общем, у него была отдельная коморка такая, что-то он инструменты налаживал, я не помню его должность в цеху — и вижу в окно, идут солдаты с большими лопатами чистить «запретку». Все, значит, я уже понимаю, что за мной придут. Я никому не сказал, что пропали эти листки, даже Пенсону, он такой был нервный парень, скажет, что надо уничтожить рукопись, мало ли, чтоб она не попала им, надо уничтожить. А мне жалко было — а, да фиг с ними. Никому не сказал, и надо пронести ее обратно в промзону, потому что в промзоне Пенсон ее будет заделывать в маску. Я уже на самом деле побаиваюсь обыска, потому что а вдруг они там что-то нашли, они там могут меня как следует прошмонать. И рядом со мной отец Степанюк...
В.В.Овсиенко: Ага, помню, помню такого, слабенький, слабенький был дед.
М.Р.Хейфец: Я ему говорю: «Діду, мне нужно вот это перенести в зону». — «А що це таке?» Я говорю: «Нужно». Он так пощупал рукой: «А, папір? А-а-а… Автомат треба!»
В.В.Овсиенко: Он бы автомат протащил охотнее. (Смеются).
М.Р.Хейфец: И он прошел. Я его пропустил вперед, он прошел, меня прошмонали. Я его в зоне догнал, взял у него эту самую бумагу и отдал Пенсону. Там еще был посторонний сюжет с сопроводительным письмом. Конечно, я нервничал очень. И вдруг меня вызвали. Понимаешь, я стою там и вдруг мне говорят: «К оперу!» Я думаю, чего меня к оперу зовут — никогда в жизни меня к оперу не вызывали?
В.В.Овсиенко: Это дневальный говорит?
М.Р.Хейфец: Дневальный, «воронок». Я иду и вдруг вспоминаю, что это письмо сопровождающее при мне осталось. Думаю, а вдруг меня к оперу на обыск вызывают? Ну, ладно, я его быстренько спрятал там, отстал и спрятал. Оказалось, что это ошибка.
В.В.Овсиенко: А куда спрятали?
М.Р.Хейфец: В снег.
В.В.Овсиенко: В снег?
М.Р.Хейфец: Ага. Он вызывал Топурия Матишвили, а «воронок» перепутал сложные нерусские фамилии и вместо Топурия вызвал Хейфеца. Ну, он стукачей вызывал на беседу. И когда он меня увидел, он прямо испугался. Он испугался: «Вы чего тут?» Решил, что я его стукачей что ли высматриваю. Я говорю: «Как? Вы меня вызывали». — «Я вас не вызывал, что вы. Что вы, идите!» Я вышел, а письма нет, нету письма. Ну, тут я Борьке Пенсону...
В.В.Овсиенко: А где тот опер, в какой зоне?
М.Р.Хейфец: В 19-й.
В.В.Овсиенко: В промышленной?
М.Р.Хейфец: Промышленной, да. Воробьев, что ли.
В.В.Овсиенко: А где он там сидел?
М.Р.Хейфец: Какое-то, я уж не помню, какое-то отдельное помещение было, куда-то нас долго вел «воронок» этот, я и не помню и не до этого было. В общем, Борьке Пенсону я сказал, он взял метлу, говорит, скажи, что мне поручили почистить снег. Кто будет проверять, поручили или не поручили? Взял метлу, раскидал снег и нашел это письмо — его ветром отнесло. И заложил в маску.
В.В.Овсиенко: Ну, Вы придумывали ходы!
М.Р.Хейфец: Такие приключения были. И он сделал. А маска что была? Это тоже Боря сообразил. Ну, это у них налаженный канал уже был. У меня были фотографии моих детей. Толстая доска, на доску фотографию, покрывают лаком, шпоном обделывают вокруг — зек посылает фотографии своих детей домой. Мастер — я тогда не знал кто, потом мне сказали, что это какой-то мастер в цеху, — он бы никогда никакие конспиративные послания зеков не послал, он бы побоялся. А фотографии детей — это ж не страшно: ну, словят, ну, выговор объявят и прочее. За это он брался — за вознаграждение, конечно. А у нас как раз тогда появилось вознаграждение. У меня было свидание незадолго до этого. Жене помогали из-за границы и дали очень красивый шарф. Ей разрешили почему-то передать этот шарф мне в зону. Сказали, что можно, ладно, шарфик можно. Шарф очень красивый, и его жене этот шарф понравился. И вот за этот шарфик он взял эти несколько досок вот такого размера, вот такой толщины. Там внутри все было забито, а сверху фотография детей, шпон, лак — красиво. У меня сама эта фотография, верхняя часть, дома сохранилась, жена сохранила это.
Я, конечно, соображал — ну, самые простые вещи, — я понимал, что если послать по адресу моей семьи, то наверняка там все просматривается, держится под контролем, они тоже не идиоты. И я сделал самую простую вещь: на тех фотографиях моих детей я написал адрес соседней квартиры. И действительно, когда это пришло соседке, она пришла к моей жене и сказала, что, слушай, твой муж совсем поехал — он собственный адрес забыл, на мой адрес прислал фотографию своих детей! Вот возьми — и отдала жене. Сложность заключалась в том, что моя жена ничего не знала, естественно. Она решила, что это тоже «поехал», может быть. А у моей жены иногда возникало ощущение, что я немножко тронулся, в зоне какие-то непонятные вещи делаю. Наверное, говорит, бедняга не вынес страданий и поехал немножко. Ему передали в зону фотографии детей, а он их обратно посылает на каких-то досках, такая безвкусица. Но потом, через некоторое время у нас было... Когда мы послали? В ноябре, в декабре это пришло, а в апреле у меня было свидание. И на свидании я ей сказал, что там внутри. Это тоже сложно было, я ж понимал, что в камере свиданий подслушка, это было ясно. Но, во-первых, у нас тоже была разработана тактика, как передавать сведения так, чтоб никто ничего не знал. Ну, то есть это как-то вот, по-моему, Игорь Кравцов, в Харькове который, он мне сказал, что в таком-то месте в камере свиданий лежит грифель, пронесли туда зеки и спрятали. А бумаги-то нет. А тут я сообразил, это было мое изобретение. Бумаги там нет, но зато там есть тетрадь предложений и благодарностей.
В.В.Овсиенко: О!
М.Р.Хейфец: Да!
В.В.Овсиенко: Какие там предложения еще могут быть?
М.Р.Хейфец: Чтобы зэки писали благодарности начальству.
В.В.Овсиенко: И их жены тоже?
М.Р.Хейфец: И их жены тоже. Я вынимал оттуда осторожно листочек — отгибал скрепочки и вынимал, и загибал скрепочки обратно. У меня было два листа, был грифель, и спокойно, не произнося ни одного слова при подслушке, я мог написать жене все, что надо было, и она запоминала. Это один способ был. Второй способ был... Опять-таки все держалось на виду. Скажем, у жены расческа. Я царапал, скажем, на расческе фамилию Шабатура — в ПКТ или в тюрьму. Всю информацию, что происходило в зоне, скажем, голодовка тогда-то, я царапал на расческе, просто прямо на поверхности. Они же ищут где-то там тайники... Она посмотрела, лежит исцарапанная, старая расческа, взяла ее — в ней явно никакого тайника нет, взяла отложила. Вот такие вещи, чтобы все было на виду, тогда они не видят. И так вот через меня информация уходила на волю.
Про это я жене сказал так. Я решил, где у них подслушка? У них подслушка в комнате и у них подслушка наверняка на кухне, где зэки обедают. Где ее нет? Ее нет в коридоре, который ведет из комнаты в кухню, потому что уж слишком шикарно было бы на каждой точке подслушки, микрофон ставить. Микрофон стоит там, где люди разговаривают. Поэтому когда мы шли коридором, я жене тихо прошептал: «Фото получила?» Она кивнула. Я говорю: «Там книга». Она говорит: «Нету». Я говорю: «Внутри, внутри». Она кивнула. И действительно, она когда приехала домой, вызвала моего друга, Колю Вахтина, и говорит... А она уже половину фотографий раздарила друзьям, что вот Мишка прислал. Она их собрала снова, вызвала Колю и говорит: «Мишка говорит, что там внутри книга». Он взял ножичек, аккуратно вскрыл и достал оттуда рукопись. Когда она ушла на свободу и пришла книжечкой уже, Коля сказал: «Радуюсь я — это мой труд вливается в труд моей республики!»
В.В.Овсиенко: А это книга какая? «Место и время»?
М.Р.Хейфец: «Место и время». А вторая книга тогда не дошла, потому что Боря решил проявить инициативу. Я вообще-то такой инертный по натуре человек, и если что-то проходит, так проходит, я уже виновного не ищу. А Боря сказал: «Ну что мы будем через него два раза посылать фотографии детей, он что-то может заподозрить. Давай, — говорит, — картинки сделаем. Он какие-то картинки наклеил на эти доски и отправил. Это было уже перед самым моим убытием из зоны. То есть не перед самым. Я ее должен был написать, закончить, в день, когда мы встали на статус. Это был 1977 год.
В.В.Овсиенко: 1977 год, это уже где-то так, может быть, март-апрель — уже меня там не было. Меня увезли оттуда 9 февраля.
М.Р.Хейфец: А, да — нет, это, точно, позже было. В день, когда мы встали на статус... Естественно, статус — это я уже буду в карцерах, я уже писать ничего не смогу, поэтому я до этого ее кончил. А отправил ее Борька позже, потому что этот мастер сказал: «Ты знаешь, я ее сейчас боюсь чего-то отправлять. Все вокруг зоны на ушах стоят, говорят об антисоветчине, чтобы все были очень внимательны, я сейчас боюсь что-то отправлять». Он отправлял, кстати, не из поселка, а его посылали часто в командировки.
В.В.Овсиенко: Ага, он посылал не оттуда.
М.Р.Хейфец: Не оттуда. Он когда уезжал куда-то из того места посылал.
В.В.Овсиенко: Ну, он знал, что он делает?
М.Р.Хейфец: Он знал, что посылает фотографии детей зэка.
В.В.Овсиенко: Он не делал это сознательно?
М.Р.Хейфец: Нет-нет-нет, он представления не имел, о чем идет речь. Очень долго эту рукопись не посылали. И послали ее где-то зимой — не то в самом конце 1977 года, не то в начале 1978 года она ушла. 23 февраля я получил сообщение, что она не дошла. Я уже с женой договорился, что если что-то не получилось, то в какой-нибудь идиотский советский праздник она мне присылает поздравительную телеграмму. Вот она меня 23 февраля поздравила с днем Советской Армии.
В.В.Овсиенко: Которая стоит на каждой вышке с автоматом против нас?
М.Р.Хейфец: Я, конечно, понял, что это значит, что рукопись не дошла. Уже в конце апреля меня отправили на этап. Я шел этапом 53 суток или 54, я уже точно не помню, вот где-то так. То есть я где-то 7 или 8 июня только дошел до места. Значит, апрель, май, и вот в начале июня я...
В.В.Овсиенко: Ермак — Актюбинская область?
М.Р.Хейфец: Павлодарская. 22 апреля у меня кончался срок, а меня отправили заранее, 18 апреля меня отправили из зоны. 12 дней в апреле, 31 в мае и еще сколько-то дней в июне, не помню уже. Я помню, что я был на втором месте после Стуса, Черновола и Сергиенко — только они, только три зека меня по длине этапа на день или на два обогнали.
В.В.Овсиенко: Стус шел от 11 января до 5 марта 1977 года. Но мать Сергиенко, Оксана Мешко, 108 суток была на этапе — от Киева до Аяна Хабаровской области, на берегу Охотского моря.
М.Р.Хейфец: В общем, как только я очутился на месте, тут уже можно было быть одиноким, в ссылке. Я это уже описал, как мне удалось получить, благодаря моей хитрости, отпуск от работы на 27 дней. 27 дней в ссылке я был без работы. Я это использовал — я ходил на берег Иртыша, там одиноко, никого нет вокруг, там можно все просмотреть.
В.В.Овсиенко: Там Иртыш?
М.Р.Хейфец: Там Иртыш, да. Ермак — это место, где утонул атаман Ермак, оно поэтому так названо. Оно, конечно, называлось когда-то Воскресенская пристань, но при советской власти его сначала переименовали в очень славный поселок по имени Кагановича, а после 1957 года Каганович стал Ермаком. Но это то самое место, где атаман утонул. Я там ходил на речку, якобы загорать и купаться, прятался в кустах так, что мне все было видно, а меня никто не видел, и там очень быстро по памяти восстановил книгу, потому что она сравнительно недавно была написана, я уже знал, что она потеряна и поэтому в памяти все время восстанавливал все эпизоды...
В.В.Овсиенко: Речь о какой книге?
М.Р.Хейфец: «Русское поле».
В.В.Овсиенко: И вот мне все-таки не совсем понятно. Значит, Вы послали книгу, она пропала — а как же жена установила, что она не дошла?
М.Р.Хейфец: Мама знала, что должно прийти.
В.В.Овсиенко: И что, следов ее до сих пор не обнаружено?
М.Р.Хейфец: Ничего. Я думаю, что этот мастер украл эту посылку — увидел там картинки, а не фотографии. Фотографии никому не нужны, поэтому он их отправил: чужие дети — кого они интересуют? А картинки ему понравились, наверное, и, я думаю, они у него висят дома до сих пор, и он даже не догадывается, что там внутри моя книга лежит спрятанная.
В.В.Овсиенко: Да, если бы ее найти...
М.Р.Хейфец: Так а зачем? Я ее восстановил по памяти и сейчас даже напечатал.
В.В.Овсиенко: А может быть, тот первый вариант интереснее?
М.Р.Хейфец: Главное для зека — научиться терять и чтобы от этого не портилось настроение. Так оно и положено: раз потеряно — значит, оно не заслуживало публикации, значит, надо сделать еще лучше. Вот такая должна быть установка, и тогда все будет в порядке. Без Божьей воли ничего не свершается: раз Бог захотел, чтобы она пропала — значит, правильно было, чтобы она пропала, а вместо нее сделана новая. Значит, новая должна быть лучше.
Конечно, настоящая потеря — это не мои вещи, потому что мои вещи были у меня в голове, я хорошо помнил, и все стоящее, что я записал в интервью Осипова и Солдатова, я, конечно, держал в голове, а если пропало, то какая-нибудь ерунда, какие-нибудь пустяки, которые не стоили внимания, поэтому они и исчезли из памяти. А вот самое тяжелое было с рукописью про Серкова-Сирыка, потому что это же не я брал интервью. Я, естественно, не знал, как там это все было, что-то Боря Пенсон по памяти еще в зоне помог мне восстановить, я это записал и в каком-то виде, в виде конспекта вывез, но, конечно, это было уже не так ярко, как то, что рассказал Сирык. И вообще первый вариант этой повести... Почему я, хоть и написал, что как бы Пенсон взял интервью, теперь его поместил в свою книгу — потому что первый вариант, пенсоновский, был написан от первого лица. Как Сирык ему рассказывал, так он это и записал. А я, естественно, так не мог написать — я не слышал Сирыка, я не помнил, что там было. Поэтому я ее всю переписал.
В.В.Овсиенко: И Вы там все время ссылаетесь на Пенсона как на посредника?
М.Р.Хейфец: Для меня это было важно, чтобы я не выглядел вором, укравшим чужой материал. Я вообще сразу назвал Пенсона, но я его назвал «автор», потому что он еще сидел, и я не мог открыть, кто был мой, так сказать, соавтор, потому что он мог быть покаранным в зоне. Мне-то хорошо, я уже кончил срок, а ему еще сидеть.
И тут уже без всяких особых проблем в ссылке я написал третью книгу, «Путешествие из Дубровлага в Ермак». Там, в ссылке, какая тактика была? Я устроился работать инспектором учебно-курсового комбината по проверке знаний сельских механизаторов, по повышению квалификации сельских механизаторов. Это пикантно, если учесть, что я автомобиль не вожу, не то что трактор — а я был инспектор! (Смеются). Значит, я проверял знания. Все строилось вот на чем. Сельские механизаторы — это люди, которые абсолютно не знают теорию своего дела. Их посадили на трактор, он поездил на тракторе и его загубил. Его посадили на второй трактор. Он поездил на втором тракторе — загубил и второй трактор. На третьем он уже кое-как умеет работать.
Такова была система советского сельского хозяйства, поэтому я совершенно не удивляюсь, что оно развалилось, потому что при таком обращении с техникой, какое там было, вообще странно, что хоть что-то действовало. Представляешь себе, если хозяин загубит собственный трактор, любая ферма разорится, сразу же. А в колхозе разбейте один трактор — выписали второй, и даже всем хорошо, что промышленность каждый год имеет возможность наращивать объемы производства, трактора всегда нужны, и сколько ни выпустишь тракторов, комбайнов, сеялок, веялок — все равно все будет испорчено за год этими начинающими пьяницами, и им дадут новые.
Но теории они не знали совершенно — теории их учат. А теорию, простите, я мог выучить, это-то я знал. То есть я у них проверял теорию, я был для них эдакий гуру, знаток всего на свете, от которого зависели их зарплата, квалификация, тарификация и прочее, и прочее. Моя работа сводилась к тому, что я должен был ездить по совхозам района и проверять, как там поставлены занятия — есть ли классы, проходят ли уроки, что нового читается, какие знания у учеников на уроках, — ну, инспектор!
Значит, я приходил на свою работу, там была стукачка, естественно. Меня без внимания органы, надо отдать им должное, никогда не оставляли, особенно после выхода из зоны. Со временем они уже догадывались, какую сволочь пригрели на своей волосатой груди — девочка, такая хорошенькая, со мной заигрывала немножко, как я понимаю, по заданию, но я изображал верного мужа и был неприступен. И я ей говорю: «Лидочка, я сегодня еду в совхоз». И беру направление. Лидочка записывала, что сегодня я в совхозе. А дома за мной тоже наблюдал стукач — начальник местной пожарной охраны дядя Вася. Дядя Вася хвастался передо мной, что в войну он был командиром батальона [неразборчиво] polizei. Думаю, врет — мог быть рядовым сержантом, я не верю, что немцы могли такому человеку доверить командование батальоном. Ну, неважно. Здесь он работал уже не на товарища Гиммлера, а на товарища Андропова — какая разница? Тоже очень внимательно и нагло за мной наблюдал. Дядя Вася видел, что я утром ухожу на работу — значит, его вахта кончилась, там за мной другой человек должен наблюдать — и он уходил себе пьянствовать или на службу, я не знаю, куда он уходил. Лидочка записывала, что я уехал в совхоз.
В.В.Овсиенко: Тоже сдала пост?
М.Р.Хейфец: Тоже сдала. А я возвращался домой, и восемь часов я мог спокойно писать все, что я хотел, а в совхоз я ехал вечером, после работы.
Или же я делал вот что. Я брал у Лидочки направление и ехал на следующий день в 6 утра в совхоз. Утром в совхозе все правление — если проблемы какие-то были — все правление вместе сидит. Потом они разъезжаются по полям, никого не найдешь. Это для того, чтобы добиться какого-то решения, надо объехать все поля, по всем местам — это действительно целый день у меня уходил бы. А я догадался: я вышел утром, в 6 утра, пока они сидят все вместе, в правлении, я быстро все дела сделаю — и возвращаюсь к началу рабочего дня на свою службу, говорю Лидочке: вот, я приехал из совхоза, вот решения, вот такие-то дела — все сделано. Ни у кого и мысли не возникало, что я целый день провел дома, а все сделал за час-полтора утром. И таким образом, у меня целые дни бывали, когда я мог сидеть писать.
Но это особая тема, я ее описал, во второй части «Путешествия из Дубровлага в Ермак» я описал историю этой книги, потому что там на самом деле что получилось: эта рукопись до меня не дошла. Она была из двух частей. Первая часть то ушла, первая половина — она была написана в течение первого года ссылки, и я ее отправил на Запад, и она дошла. А вторую я кончил буквально в последние дни ссылки. Вот уже дописываю — и тут они ко мне пришли с обыском.
В.В.Овсиенко: А основание для обыска?
М.Р.Хейфец: А основание очень простое. Я был в переписке с Виктором Некипеловым. Он прочитал «Место и время», оно ему очень понравилось. Он написал мне такое восторженное читательское письмо, я ему ответил, у нас завязалась переписка. И в этот день Виктора Некипелова арестовали. И ко мне пришли как к лицу, связанному с Виктором Некипеловым, но на самом деле они уже знали, что у меня есть рукопись. Они знали это, и они рассчитывали взять меня с рукописью, как бы с уликами — с готовой рукописью меня берут. И уже чистый срок, конечно. Очень они хотели посадить меня по новому заходу. Но эту историю я описал в «Путешествии из Дубровлага в Ермак», во второй части. Потому что тогда, конечно, я не мог ее описать — я был ее участником. Но Бог меня спас. Это было точно так, как я написал: они меня посадили на кровать, обыскали все, я отсидел на кровати все, встал, расписался, они ушли. А я сидел на этой рукописи. Они не догадались, что рукопись под моим задом — они все обыскали!
В.В.Овсиенко: Ну, потрясающие вещи!
М.Р.Хейфец: Вот прочти, это «Путешествие..».
В.В.Овсиенко: Я этого еще не читал.
М.Р.Хейфец: Да-да, ты еще не читал. И вот я вез ее в Ленинград, и они знали, что она есть. Они у меня, естественно, заранее провели оперативный обыск, как всегда в таких случаях, они знали, что она есть, и явились уже просто меня с ней брать — и не нашли. Они знали, что она есть, они ее искали, они столько раз делали тайные обыски по дороге! Наконец, они меня сняли в самом Ленинграде уже с самолета как угонщика самолета.
В.В.Овсиенко: Вы собирались угнать самолет?
М.Р.Хейфец: Да, я хотел угонять самолет. Потому что, как я понимаю, когда человек угоняет самолет, его имеют право задержать и обыскать без санкции прокурора. А им не хотелось просить у прокурора санкции, потому что один раз они уже не нашли рукопись, в другой раз прокурор спросит: «А какие у вас основания думать, что вы на этот раз что-то найдете?» А у них никаких оснований нет, просто они шарят ощупью. А тут — никаких оснований. Угоняю самолет, меня хватают — и тоже не находят.
В.В.Овсиенко: А где это — в самолете?
М.Р.Хейфец: Это в Ленинграде, при посадке.
В.В.Овсиенко: Уже на земле?
М.Р.Хейфец: На земле, да. Самолет приземлился, всех выпускают, меня оставляют в самолете и увозят отдельно на обыск. Они не учли того, что я ехал с женой. Я просто отдал ее жене, жена вышла с рукописью, а меня отдельно задержали. Фантастическая история была.
И вот надо же, что так вот все получилось, что я ее благополучно довез до места, и вот тут в Ленинграде я узнаю, что мой канал на Запад «сгорел». Тот человек, который ее передавал на Запад, поссорился со своим западным товарищем, который возил — девушка там у него была, студентка, какая-то романтическая связь была у моего друга с этой девушкой, и она для него вывозила — а тут они поссорились. Любовная ссора — и все, у меня нет каналов связи на Запад. Конечно, можно было бы попробовать московские диссидентские связи, но как раз в эти дни Сахарова выслали в Горький. И за ними всеми тоже ходили очень плотно, то есть любой мой контакт опасен — тем более, они знают, что я везу рукопись, что у меня она есть.
И тогда я использовал такой контакт: я пошел, как мне посоветовали, к Мишке Мейлаху — есть такой диссидент в Ленинграде, сын профессора Мейлаха. Я с ним не был до этого знаком. Я пошел к нему — меня свели, мне сказали, что у него есть канал. Он взял рукопись, вторую часть «Путешествия из Дубровлага в Ермак», сказал: «Я перешлю». Ну, я ждал, ждал ее и не дождался. Письмо от него получил, что получите осенью — ничего не получил. А потом я узнал, что самого Мишку арестовали, он получил пять лет. Я решил, что рукопись попала к ним и «сгорела» вместе с ним. Я даже переживал: вот, думаю, подставил человека, дал ему рукопись — может быть, из-за этого его посадили. Но потом, через много лет, я встретил Мейлаха, он приехал в Израиль, я его спросил — он говорит: «Нет, там человек, который вез твою рукопись на Запад, испугался, и на границе он ее сжег». Так что вот с такими приключениями я ее доставил в Ленинград, а дальше она не прошла.
Но и так у меня оставалась только первая часть, я куски из нее опубликовал где-то через несколько лет. Мне казалось уже, что интерес к лагерной теме потерян, и никого это не волнует. А вот тут, когда у меня появился Женя Захаров в прошлом году — нет, в этом году, в начале этого года, где-то весной — и предложил мне издать книгу в его издательстве, в «Фолио», то я предложил ему. «Путешествие из Дубровлага в Ермак», потому что она еще ни разу не публиковалась. Но вижу, что у меня второй половины-то нету. Что делать? Попробовать восстановить по памяти — но это будет новое дело, это не интересно. Я вместо этого написал вторую часть — воспоминание о том, как пропала книга, то есть вот та история, которую я сейчас рассказываю — я написал в этой форме, что было с этой книгой, какова ее судьба. Поскольку на самом деле она не очень интересная, потому что «Путешествие из Дубровлага в Ермак» была посвящена прежде всего «бытовикам». Когда я шел этапом, там из интересных встреч была только встреча с Балисом Гаяускасом. Его я встретил в Рузаевке, мы неделю провели вместе в камере, потому что с 1 по 9 мая, как известно, этапов нету — это два праздника.
В.В.Овсиенко: Это 1978 год, да?
М.Р.Хейфец: 1978 год. Балис шел этапом на особый режим к нам в Мордовию, и его доставили, по-моему, из Казани к нам, в мою камеру. С 1 до 9 мая этапов не было, и мы с ним больше недели провели вместе. Это была единственная интересная встреча. А больше я ни одного политзэка на этапе не встретил, я в основном описывал бытовиков. Поэтому что-то там потерять мне казалось неважным — это такие бытовые зарисовки жизни. Кто такой бытовик? Бытовик есть, как правило, не профессиональный преступник, а обыкновенный парень, который или подрался, или там спьяну ларек грабанул, так сказать. Никакой не профессионал. Подвернулся ему ларек, пить захотелось водки — взломал замок, вытащил бутылку водки — вот оформлен на срок, на три свои года. Я как бы описывал жизнь, которую я не видел. Четыре года меня не было, на четыре года я был вынут из жизни. Вот я начинаю узнавать советскую жизнь, а там что — ну, я встретил Васю Корупкина (?) — был у нас такой военный преступник, на Потьме я его встретил — вот я описал военных преступников в его лице. Такие вот были встречи, а так ничего особенно интересного не было. Поэтому я не очень жалел, что пропала вторая часть, а зато описал во второй части приключения этой книги.
И я написал, дописал ее для Жени, и вот она сейчас вышла в свет, благодаря его трудам. Не придумай он это, она бы и не появилась. Он вообще очень много для меня сделал в этом смысле, что он явился инициатором. Я человек довольно равнодушный к судьбам своих книг. Мне очень важно, когда она пишется — тогда я действительно весь в книге, я думаю над ней, сочиняю. А в тот момент, когда книга написана, я теряю к ней всякий интерес — вот я ее закончил, и я фактически даже забываю, о чем там написано, я совсем не помню, для меня эта тема закрыта, как будто я никогда об этом и не думал, и не писал. Написано — сделано. И она бы так и лежала, может быть, до моих наследников, чтобы внуки и правнуки читали про жизнь деда и прадеда. А появился Женя — и он это вытащил на свет, потому что я вспомнил: лежат у меня неопубликованные книги.
То же самое с «Русским полем». «Русское поле» было заброшено сначала моим отцом. Ко мне в ссылку в Ермак приехали родители. Я за лето успел написать «Русское поле». Ко мне сразу мои родители приехали — жена с детьми и родители. Жена с детьми вернулись в Ленинград — это я потребовал. Я сказал: «Знаете, вас не будет полгода — вас выпишут, вы уже никогда в Ленинграде не будете прописаны. Полгода на месте прописки нет — человек подлежит выписке из Ленинграда. Поэтому возвращайтесь, чтобы мне было куда к вам вернуться». А мама с отцом сказали, что нет, — мама решительно, — мы будем с Мишей. Ну, с мамой у нас не положено было спорить, то есть спорить можно было, но это было абсолютно бесполезно. Отец вообще никогда не спорил, но он сказал: «Нужны же теплые вещи». — «Съездишь — возьмешь», — сказала она. И вот он собрался в Ленинград, и я ему дал рукопись «Русского поля», и он ее на теле вывез. Мы тоже конспирировались, чтоб они не узнали, что он едет, и по дороге его не обыскали. Дядя Вася был в таком гневе, что я ему не сказал, что отец уезжает — он внезапно уехал, и они его не успели проверить. Я ему дал адресок один, такой Натальи Владимировны Гессе — она жила на Пушкинской, дом 18, кв. 61 — это я запомнил, потому что я запомнил этот как 1861 год — год освобождения крестьян, крестьянская реформа. И она была связана с Еленой Боннэр.
И вот, по-видимому, по этим каналам «Русское поле» достигло Запада. Ну, там книга как книга, меня не было, это же хлопотать надо. Видимо, у Володи Марамзина, моего подельника, которому я направлял ее, не хватило связей тогда опубликовать это отдельным изданием — может быть, уже исчез особый интерес к зекам, — короче говоря, книгу растащили по главам. Одну главу, про Солдатова, взял в альманах «Третья волна» Глезера, и у него сколько влезало — столько влезало. Он начало обрубил, конец обрубил. Осипов появился в «Континенте», а Серкова взял сам Марамзин в свой журнал — у него тогда журнал «Эхо» выходил. Так она по журналам растаскана была, и никто не знал, что это отдельная книга.
В.В.Овсиенко: Так это она в Харькове впервые собрана?
М.Р.Хейфец: В Харькове впервые. В сущности, в этом трехтомнике две книги собраны впервые, которые до сих пор не появлялись в печати. (Михаил Хейфец. Избранное. В трех томах. Харьковская правозащитная группа. – Харьков: Фолио, 2000. – Т. 1: Место и время. Русское поле. – 272 с. Т. 2: Путешествие из Дубровлага в Ермак, 1979-1987. – 228 с. Т. 3: Украинские силуэты. Военнопленный секретарь. – 296 с.). На самом деле, тут, действительно, очень много нового, не говоря уже о том, что тут новая моя статья, за которую меня посадили и которая тоже никогда не была опубликована. Это целиком заслуга Жени Захарова — он настоял, я сопротивлялся как мог, говорил: мне не надо, ну что ты... «Я хочу!» Ну, ты Женю знаешь. «Я хочу — и все!» С ним спорить трудно — еще и обидится. Поэтому я решил не обижать его, сделал ему доверенность и думал: ну, какое-то барахло — ну что я там мог написать? И когда я прочитал статью, я сам обалдел — я, оказывается, хорошо написал! Какой Женя молодец, что меня заставил эту статью вытащить из архива ГБ! Видимо, я себя недооценивал в молодости.
На самом деле, когда я думаю про свое поколение, я думаю, что самая главная трагедия нашей жизни была вот в чем — что мы ведь не жили в таких ужасных условиях, как те, которые были до нас, те жители Соловков, обитатели Соловков. А в наше время ничего такого не было, и вполне можно было спокойно жить и быть богатенькими. Во всяком случае, мне — точно. Это я знаю, потому что я мог писать приключенческие книги, историко-приключенческие. Спрос на это был громадный, и Пикуль — тому доказательство. Писать такие книжки, издаваться большими тиражами, занимать всякие советские должности... Меня, например, за полгода до ареста пригласили заведовать отделом в журнал «Знание – сила» в Москву. То есть я мог быть зав отделом в очень популярном всесоюзном журнале в Москве. Свою квартиру я мог спокойно обменять на московскую, стал бы московский товарищ со связями в издательствах, со своим положением, и вполне мог бы иметь и деньги, и водку, и баб, и все прочие советские удовольствия.
Но в человеке все-таки заложено желание не быть только животным. Животное, какое бы оно ни было хорошее — оно умерло, и оно исчезло, его нет, от него ничего не осталось. Все. А человек хочет, чтобы у него был выход в вечное, во время. И этим он отличается от самого лучшего животного. От самого замечательного животного человек отличается желанием жить не только для своих земных нужд — чтобы желудок был удовлетворен, чтобы сексуальные чувства были удовлетворены и что там еще, — а он хочет в вечное выйти, в том, чтобы его жизнь длилась не только во времени, чтобы он вышел в ту сферу, которая сохраняется. Вот чем он отличается от животных. А мы были на уровне животных — мы могли вполне все свои житейские чувства удовлетворять, это было нам под силу, ничего страшного и особого не было, но это была не человеческая жизнь.
И поэтому все время были попытки отказаться от соблазнов, которыми нас одаряла советская власть, а остаться людьми. В конце концов, я был окружен очень талантливыми людьми. Скажем, Бродскому удалось прорваться, Шемякину удалось, Стругацкому удалось прорваться. Но сколько вокруг них было талантливых людей, которым не удалось прорваться? Я не знаю — может быть, те были не менее талантливы, но у них характера не хватило.
В.В.Овсиенко: Да, это очень важно.
М.Р.Хейфец: И характера для того, чтобы отказаться от радостей своей плоти, для того чтобы получить вознаграждение, я бы сказал, радость публичной жизни, радость общественной жизни, выхода в то, что за счет ущерба для твоей плоти у тебя есть выход в какую-то общественную жизнь.
Мысль моя сводилась к тому, что мы не верили в себя, мы не ценили себя. Живя в таком обществе, какое тогда было, мы не знали, плохо мы пишем или хорошо мы пишем, плохо мы творим или хорошо творим. Мы просто себя защищали, мы себя выражали для будущего в надежде, что, может быть, когда-нибудь... Собственно, зачем мы занимались с этим Бродским, с этими сочинениями? Мы понимали: вот это стихи, которые от нас останутся, от всех нас — что мы жили, и нас будут помнить, потому что о нас рассказал этот человек в своих стихах, и их надо сберечь. Мы же тогда не знали, что Бродский при жизни будет нобелевским лауреатом, получит все регалии — мы знали, что это для будущих поколений. Когда мы защищали Мишку Шемякина, нам опять-таки в голову никому не приходило, что это такой большой талант — мы знали одно: что это хорошие картины, и надо, чтобы они уцелели, чтоб они сохранились, чтоб они спаслись. Но что это имеет какое-то большое значение — в голову не приходило никому. И я сам — мне в голову не приходило, что я написал хорошую статью! Мы себя совершенно не ценили.
В.В.Овсиенко: В Вашей книге про Васыля Стуса тоже есть этот момент, что будто бы окружающие не понимали ценности его стихов, ценности личности Стуса. Знаете, я не согласен, что не понимали — по-моему, понимали. Когда Зорян Попадюк принес из карцера — может быть, по памяти он записал несколько стихотворений, а до этих пор, до посадки, я в самиздате, может, только два или три стиха Стуса читал. Но когда я прочитал то, что принес Зорян из карцера — а он сидел со Стусом, — там «Сто років, як сконала Січ» и еще несколько, я сразу понял, что это такое.
М.Р.Хейфец: Конечно. Но знаешь, когда я написал свой очерк о Стусе, я не помню, кто-то из украинских исследователей, очень толковый человек, написал, что я буду очень удивлен, если узнаю, что стихи Стуса читало больше ста человек. То есть те, кто прочитали — те, конечно, ценили, те поняли. Но сто человек! И поэтому сам Васыль, конечно, догадывался — когда у человека такой талант, он догадывался, но он этого точно не знал. Понимаешь, это догадка, это надежда. И я видел, что он с некоторой робостью мне давал читать свои стихи, потому что... ну, они как бы не политические стихи, даже в его глазах, в его собственных!
В.В.Овсиенко: А тут нужны политические.
М.Р.Хейфец: Понимаешь, он как бы даже просил у меня некоего прощения, что они — чистая лирика.
В.В.Овсиенко: Я тогда тоже переписал их — у него была такая белая тетрадь, там где-то стихов 60 или чуть больше было, я их все переписал. Кстати, я переписал также содой между журнальных строк. Но это мне не понадобилось, не пришлось списывать — я две тетради со стихами вывез, в клеточку, обыкновенные, и как-то их у меня не забрали. Это было очень странно.
М.Р.Хейфец: Нет, это не странно. Вот тут, ты знаешь, я все равно благодарен полковнику Дротенко, при всех его грехах. Я, видимо, его где-то обманул, что ли — я внушил ему, что это стихи не политические, это к политике отношения не имеет, это любовная лирика. Это на свидании. Поскольку это была оперативная информация — я говорил это своей жене, а они слушали, — и скандала и шума может быть много, а добыча-то какая? Подумаешь — лирические стихи, про любовь к жене и прочее. Ну, и про любовь к Украине — так что, Украину, в общем, не запрещено любить, в принципе. Можно было написать, что люблю Украину... [помехи, звонок].
В.В.Овсиенко: В 12 часов пришёл Ярослав Тынченко.
В.В.Овсиенко: А когда Вы уехали?
М.Р.Хейфец: Я кончил срок 18 января 1980 года — я запомнил хорошо, потому что это был день моего рождения.
В.В.Овсиенко: Это Вы уже ссылку кончили?
М.Р.Хейфец: Ссылку, да. Это был день моего рождения. Я специально подогнал свои этапы под день своего рождения. Я в этот день кончил ссылку и отправился. Где-то 21 или 22 января я был в Питере. И они меня тут же стали выдворять, мгновенно, со страшным давлением, потому что скоро освобождался Герман Ушаков, и они не хотели, чтобы я с ним встретился, чтобы я получил какую-то новую информацию о зоне. И выгоняли нагло, я не успел собраться. Я, собственно, ничего против не имел, чтобы уехать, но я никак не успевал собраться — вещи же, то-се, это надо же массу документов...
О, я тогда расскажу для тебя тоже ту историю, которой нет в книгах — ты это просил. Меня выдал один человек в свое время, стукач в нашей среде писательской. Здесь я для тебя его назову, но вообще публиковать не надо — я его жалею, пусть живет. Зовут его Валерий Воскобойников, он довольно известный писатель. Я только что видел какой-то его детективный роман на полках, продается — Марина Семенова, Валерий Воскобойников, какой-то детектив. Он жил в нашем доме, был моим соседом и был одним из моих приятелей. Я дал ему почитать мою статью, о чем он незамедлительно сообщил. На следствии я его вычислил довольно быстро. Собственно, удача моего следствия — то, что мне удалось, на самом деле, переиграть гебуху, прямо скажем, не буду скромничать. Объясняю это тем, что нечаянно следователь проговорился — он дал одну информацию, которую знали только я и Воскобойников, а больше никто. И таким образом, я понял, что именно он тот человек, который дал им информацию.
Следовательно, я уже, соответственно, точно знал, что им известно и что неизвестно, и поэтому я сам начинал все разговоры — как бы я болтливый такой, ну интеллигент, добряк, простак, что не понимает опасности и болтает сам. Им это очень нравится, потому что когда сам болтаешь, он может тебе не задавать вопросы, не проявлять свое знание. Следователь понимает, что всякий допрос — это допрос двоих: он спрашивает меня, что я знаю, а я по системе его вопросов понимаю, что знает он, и вытаскиваю из него информацию. Поэтому ему очень нравится, когда я сам говорю, как бы не понимая, что это допрос. А я в тех пределах, что знал Валерка об этом деле, говорил правду, а в тех пределах, что он не знал, я, соответственно, трепался ту версию, которую я ему хотел продать, и она автоматически шла за правдивую. И таким образом мне удалось от них отбиться и, так сказать, выиграть следствие. Но я его вычислил и, больше того, мне удалось предупредить наш дом — он же в нашем писательском доме, — кто у нас стукач.
Это было на очной ставке. Мне дали очную ставку с Машей Эткинд, дочкой Эткинда, и когда кончилась очная ставка, следователь говорит: «Ну, сейчас я запишу все, что вы тут говорили, а вы можете побеседовать». И углубился в печатание — а у самого, конечно, ушки на макушке, он слушает, о чем мы говорим: вот сейчас эти интеллигенты начнут болтать, а он усечет новую информацию. Ну, я ее спрашиваю: «Как в доме?» Она говорит: «Все в порядке». Я спрашиваю, как там такой-то — все хорошо. А как такой-то — у них тоже все в порядке. Я говорю: «Как Валера?» Она говорит, что он уехал в Париж. Я говорю: «Гонорар получил?» — «Да». Вот такой обычный разговор, следователь не обращает внимания — он не видит, что в этот момент, когда я говорю, что гонорар получил, тычу пальцем в себя, а она кивает и говорит: «Да». То есть она поняла, что я хочу сказать. Таким образом, в тот же день в доме стало известно, кто меня продал. Естественно, я понимал, что они не поверят, может быть, мало ли откуда, но я знаю писателей — уж во всяком случае распускать при нем язык больше никто не будет: береженого Бог бережет, и незачем трепаться, если про человека есть такая информация. То есть, я как бы оберегал людей.
В.В.Овсиенко: Он за Вас гонорар получил?
М.Р.Хейфец: Ну конечно. Нет, я понимал, во-первых — уже и это для меня было доказательством, — только что следователь мне сказал, что Боря Стругацкий не поехал в запланированную поездку в Польшу, он сказал: «Как же он поедет — а вдруг будет ваш суд? Он же свидетель на суде. Если он уедет, он не сможет дать показания, и мы его не выпустили». То есть в Польшу выехать нельзя, а другому свидетелю в Париж можно выехать — это же тоже понятно!
В.В.Овсиенко: А Стругацкий проходил по Вашему делу?
М.Р.Хейфец: Он по моему делу был свидетелем. Он был моим самым близким другом. Кстати, у него есть роман, как же он называется... Под псевдонимом Витицкий выпущен — «Этика предопределённости» или как-то так. И там моё дело описано. Если Вам попадётся этот роман... или «Тридцать седьмая теорема Спинозы» — кажется, так он называется, «Этика предопределённости, или Тридцать седьмая теорема Спинозы». Там я выведен под псевдонимом Семён Мирлин, можете почитать.
Так вот, кто на самом деле не поверил этому сообщению — это моя жена. Моя жена говорила: «Вот ты увидишь — вот ты вернёшься домой, и тебе будет стыдно, ты попросишь у него прощения». Я ей говорю: «Рая, когда я вернусь домой, Валерки в доме не будет — ему будет стыдно посмотреть мне в глаза!»
И действительно, я вернулся домой через 6 лет и спрашиваю, где Воскобойников — «А его вчера в Афганистан забрали!» Я отпал от смеха и говорю: «Слушайте, я же был его близкий приятель, я же знаю, что он белобилетник — какой Афганистан?! Я уже не говорю о возрасте». Ладно. Действительно, через некоторое время — там были ещё разные манёвры, это долго на магнитофон говорить, — я вынудил их выпустить его из кармана, и он вернулся домой. Кидается ко мне: «Здравствуй, Миша!» Я руку спрятал и говорю: «Здравствуй, Валера».
Всё, кончено. И вот как-то жена ушла куда-то в магазин или ещё куда-то, я сижу дома — звонок: «Миша, это Валера Воскобойников. Мне бы надо с тобой поговорить». — «Заходи». Он приходит и говорит: «Миша, я слышал, что ты рассказываешь, что я тебя заложил — это правда?» Я говорю: «Это правда, Валера». — «Ты ошибаешься». — «Нет, я думаю, что я не ошибаюсь». — «Я бы хотел тогда узнать у тебя основания — на каком основании ты меня обвиняешь?» Я говорю: «Валера, ты должен меня понять. С одной стороны, я понимаю, что ты прав: когда обвиняешь человека в таком серьёзном деле, ты должен что-то сказать. Но с другой стороны, ты пойми меня. Тебя выдали три следователя. Если я тебе буду рассказывать, на чём они прокололись, я преподнесу некий урок органам госбезопасности, где они делают ошибки. А в мои служебные обязанности вовсе не входит обучение следователей органов КГБ их работе. Поэтому мне не хочется это делать. Давай договоримся так. Тебя выдали трое следователей. Вот я тебе расскажу первый их прокол, а ты дашь свою версию. Если я сочту, что она правильная, хорошая версия, что ты оправдался, я тебе расскажу второй случай. Если ты и в этом случае выдашь свою версию, я тебе расскажу третий. Если и в этом случае ты оправдаешься, я собираю всех наших знакомых и при всех приношу тебе публичное извинение, говорю, что я ошибся и несправедливо тебя обвинил. Договорились?» — «Договорились».
Я ему говорю: «Валера, помнишь, после обыска у меня, но до ареста, мы с тобой встретились вон там, за окном, вот у того дерева? И ты мне сказал, что у тебя есть какая-то баба, жена крупного гэбиста, который рассказал ей, как они разочарованы результатами обыска у меня — что всё старый самиздат, никаких новых вещей, и что они бы с удовольствием это дело закрыли, но не могут, потому что начнётся большая шумиха и им уже заднего хода не сделать. Я тебе честно скажу, Валера: я не поверил, что так просто. Возможно, у тебя какая-то любовница есть и она рассказала тебе — ладно. Но я тебе сказал тогда, что я лично ни в какой шумихе не заинтересован, я против того, чтобы об этом шумели за границей. Ты помнишь это?» — «Конечно, помню. Ты сомневаешься, что такая женщина есть? Я тебя могу познакомить с ней». — «Нет, Валера, я не сомневаюсь — просто я тебе должен покаяться. Я тебя тогда обманул — я на самом деле просил Володю Марамзина поднять как можно больше шума за границей по этому делу. А тебе сказал, что я против всякой шумихи, поскольку мне это было выгодно в их глазах. И вот когда меня арестовали, один из допросов был у начальника следственного отдела полковника Баркова». Он так повторил: «Барков». — «Да, говорю, Леонида Ивановича Баркова. И вот Леонид Иванович Барков при мне в какой-то связи произнёс слово заграница. И я решил: дай-ка я тебя, Валера, проверю. И говорю: Леонид Иванович, но Вы же должны знать, что я был против всякой шумихи за границей. И Леонид Иванович важно кивнул головой и сказал: Да, мы это знаем. Так вот, объясни мне, Валера, пожалуйста, каким образом Леонид Иванович Барков узнал ту туфту, то враньё, которое я сказал тебе для него? Я мог бы поверить, что они это вычислили — всё бывает. Но вычислить что-то в мою пользу против себя они вряд ли могли — это совершенно не в их духе». Он говорит: «Ты знаешь, когда мы с тобой говорили, там проезжали мимо машины, одна остановилась — может быть, там были микрофоны дальнего действия?» — Я говорю: «Валера, вот когда ты будешь писать сценарий для Ленфильма, там ты такой эпизод, пожалуйста, вставь, а на меня микрофон дальнего действия не действует. Я считаю, что твоё объяснение неудовлетворительно, тем более что это один случай, а там ещё второй и третий, в которых никакие микрофоны дальнего действия действовать не могли, но я их тебе раскрывать уже не буду».
А там было что на самом деле? Такой важный мой следователь, когда составлял список, кому я показывал свою статью, он сказал: «Иванов, дальше Емельянов, после этого Воскобойников». Я подумал: откуда же он знает — я же ему этого не говорил, что Лёньке Емельянову я показал рукопись статьи раньше, чем Валере Воскобойникову? Это я один знаю. И вдруг я вспомнил, что когда Воскобойников сказал мне, что статья ему не понравилась, я ему сказал, что Лёнька Емельянов тоже мне сказал, что надо всю политику выбросить. То есть только мы вдвоём знали, что Емельянов читал до Воскобойникова. Это было на лестничной площадке, и там явно никаких микрофонов дальнего действия не могло быть.
Там был ещё третий случай, Рябчук, проговорился — там уже другое дело: они проверяли добросовестность работы самого Воскобойникова.
Короче говоря, я ему сказал: «Дальше, Валера, считай, что разговор наш не состоялся, и ты по-прежнему состоишь под обвинением. Больше того, — говорю, — Валера, меня самого столько раз продавали в зоне, раз десять как минимум, поэтому я всю методику знаю. Я могу тебе сказать, как тебя завербовали — хочешь?» Он говорит: «Ну, я слушаю». Я говорю: «Помнишь тот случай, когда ты с делегацией писателей ездил в Швецию? А на обратном пути тебя застукали с порнографическими журналами на таможне, и был большой шум, но ты отделался тем, что тебе объявили строгий выговор по линии Союза писателей. Валера, я ж теперь уже зек, и Уголовный Кодекс читал, и Комментарии читал. Мне их случайно, по ошибке выдали в тюремной библиотеке — не должны были, но просто ушло в отпуск начальство, я попросил, и контролёр, который в этих делах не разбирается, мне принёс. Я прочитал Комментарий к Закону: за контрабанду порнографии полагается от 3 до 10 лет. Ты должен был получить срок. Поэтому я понимаю — тебя застукали с этим, и дальше с тобой говорили так: Валерий Михайлович, ведь мы же не заставляли вас совершать преступление, вы совершили его сами, вы сами повезли — и вы идёте под обычный советский закон, мы вмешиваться не будем, а просто как закон захочет, так он и поступает, это ваша вина мы можем вам помочь, мы не скрываем — но тогда и вы нам помогите. И перед тобой стоял вопрос. Ты должен был получить лет пять, и ты это понимал. Идти в уголовный лагерь за контрабанду порнографических журналов, где за тебя никто заступаться не будет с твоим порезанным желудком и с твоим отцом, который сидел — ты с детских лет помнишь, что такое семья, в которой сидит отец. А с другой стороны, у тебя такие возможности, и тебе говорили, что, конечно, никого не арестуют, что органы просто собирают информацию, что вы же видите — ну кого мы из писателей арестовали? никого не арестовали, мы просто орган сбора политической информации, мы должны давать это начальству, чтобы оно принимало правильные решения — что вы против этого имеете? Короче говоря, тебе идти в зону на пять лет, а с другой стороны, ты как бы ничего особо плохого и делать-то не будешь. И я же тебя не очень осуждаю, что ты человек слабый, я это знаю. Ну, ты и согласился. И я даже верю, что для тебя это было большим потрясением, когда меня арестовали. Они тебя как бы даже и обманули — но что делать, такова твоя судьба».
Он вздыхает, поднимается и говорит: «Ну, спасибо, Миша, что ты на меня не сердишься, но ты ошибаешься». — «Нет, Валера, я всё-таки не думаю, что я ошибаюсь». — «А что ты сейчас собираешься делать?» — «Да я вообще собираюсь ехать в Израиль, но ты же знаешь эту процедуру, это собирание массы документов... Огромное количество документов надо было собрать. И вот сейчас я послал в Свердловск к Раиным родителям просить разрешения. Неделю письмо идёт туда, неделю обратно, и там это надо не просто написать, а заверить в ЖЭКе. И когда это родители пойдут в этот ЖЭК — это займёт, наверно, месяц, и я должен этот месяц сидеть и ждать здесь».
Он говорит: «Ну, до свидания». Уходит. Приходит моя жена, я говорю: «Валера Воскобойников приходил». — «Ну и как?» Я рассказываю вот то, что я только что вам сейчас рассказал. Она, такая изумлённая, говорит: «Значит, это правда?» — «Что правда?» — «Что он стукач». Ребята, вот тут я первый раз понял разницу между мужским восприятием жизни и женским. Я ей говорю: «Ну, как же, я же тебе сто раз раньше объяснял все эти логические выкладки». Которые я вам тоже рассказал. Оказывается, она мне не верила. Она говорит: «Миша, если бы он был невиновен, узнав, в чём ты его обвиняешь, он должен был набить тебе морду! Я бы сейчас видела тебя с разбитым носом и с синяками. Если он этого не сделал — значит, он действительно стукач».
В.В.Овсиенко: Это было бы доказательство, да?
М.Р.Хейфец: Женщина исходит из житейской ситуации. Её логика не убеждает, а вот то, что человек, обвинённый в том, что он стукач, не начистил мне рыло — значит, он действительно стукач.
Ладно. Пошли мы в кино. Как сейчас помню, «Гараж» Рязанова смотрели. Возвращаемся из кино — старшая дочка говорит: «Звонили, папа, тебе из милиции. Сказали, чтобы ты в ОВИР приходил с теми документами, какие есть, других не нужно». Но я, подлое существо, — я, конечно, наутро позвонил в милицию, проверяю, говорю: «Вы мне звонили вчера, что я могу не собирать нужные для ОВИРа документы, а идти с теми, которые есть?» Они говорят: «Да нет, ну что Вы, как это можно? ОВИР есть ОВИР, Вы должны выполнить все их условия». Ладно, я иду в ОВИР, вхожу — «Да, никаких документов не нужно, Вы едете сразу». То есть он, видимо, к ним пришёл, попросил их, чтобы я скорей из дому умотался, и они тут же дали разрешение. Единственное, что они у меня потребовали — чтобы я тут же отдал справку об освобождении, потому что на ней была зэковская фотография. Но они не учли: я фотографию-то, второй экземпляр, сохранил.
Я.Тинченко: Зэковская фотография?
М.Р.Хейфец: Да, зэковская фотография. Она есть в этом трёхтомнике. Я один экземпляр себе всё равно сохранил.
Я.Тинченко: А Вам дали какое-то время на то, чтобы Вы выбирались? В какой это форме было?
М.Р.Хейфец: Это было в такой форме, что на меня всё время давили в ОВИРе: мгновенно собирайтесь и уезжайте! Это было то время, когда уже на самом деле перекрыли весь выезд. И они мне говорили, что всё, если Вы вот сейчас не уедете, Вы уже больше никогда не уедете. И моя жена была в дикой панике, говорила: «Мишка, бросай всё, зачем нам это барахло, зачем нам эти вещи, мы наживём снова — пока выпускают, уедем!» А я говорю: «Рая, кто с органами госбезопасности имел дело — ты или я? Я их знаю — чтобы меня выдворить, есть виза большого начальника: выдворить Хейфеца за границу. И для того, чтобы эту визу отменить, нужно чрезвычайное событие, то есть я должен совершить новое преступление, чтобы пришёл кто-то на доклад и сказал, что вот вы распорядились Хейфеца выдворить, а он уже совершил новое преступление — нет ли нового решения? И тогда он может принять новое решение, а пока ничего такого нет, старое решение остаётся в силе, что бы ни произошло. Поэтому, раз начальник распорядился, пока я не совершил нового преступления...». — «Мишка, ну ты слышишь, что они там говорят — тебя не выпустят!» Я говорю: «Всё, ладно, чтобы тебя успокоить, я сделаю это». Я пошёл в КГБ и опустил им заявление, что раз органы КГБ настаивают, чтобы я уехал, я уезжаю. Но я хочу уехать с тем имуществом, которое я заработал. Ничего антисоветского в этом моём желании нет, поэтому я уеду тогда, когда я соберусь, и не раньше. Прошу мне не мешать. Я бросил им это заявление и был уже спокоен. Единственное, что я узнал потом, — кто-то слышал, как они давали распоряжения во все инстанции, чтобы максимально ускорить отправку багажа и прочее, лишь бы я скорее убирался.
Но они очень боялись, что я вывезу свою рукопись — уж так меня обыскивали на выезде! Но я всегда выигрывал у них, потому что огромная очередь на отъезд, вот уже последняя, все ждут, часами надо стоять, пока всех обшмонают там в таможне, всё. И вот меня: «Хейфец тут?» — «Тут». — «Выходи». Я выхожу со всей семьёй, и нас вне очереди проводят на обыск. Таким образом, я не должен был ни стоять, ни ждать, ни нервничать, ничего. Меня обыскали. Самое главное, очень внимательно обыскивали моих девочек — оголили и водили по телу всякими штуками.
В.В.Овсиенко: А какими?
М.Р.Хейфец: Штука запищала, детки обрадовались — это было такое развлечение! Он мне прямо сказал: «Где бумаги, выдавай сразу». Я сказал бы, но я был уже не тот дурачок, который разговаривал на темы, я сказал: «Ищите».
Я.Тинченко: А как Вы их провезли?
М.Р.Хейфец: А я не провёз, к сожалению, вот я Васылю рассказывал до этого. Я нашёл человека, который должен был их переправить, а этот человек — вернее, его человек — на границе струсил и сжёг рукопись. Так что рукопись я не получил, а я её восстановил по памяти уже в Иерусалиме. Вернее, не восстановил по памяти, это неправда. Я просто написал — это «Путешествие из Дубровлага в Ермак», это второй том вот этого трёхтомника — там это описано, что я эту рукопись... Я просто написал, что рукопись пропала, и когда появился Евгений Захаров и предложил мне эту книжку издать, я подумал, что вместо того, чтобы восстанавливать ту рукопись, я просто написал заново историю самой рукописи — историю, как она пропадала, как её сжигали и всё прочее.
В.В.Овсиенко: Ясно. Пожалуйста, ваши вопросы.
Я.Тинченко: «Лёгкая ссылка» — почему она была лёгкой?
М.Р.Хейфец: Лёгкая ссылка у меня была не случайно. Она возникла в некой полемике с Васылем Стусом. У Стуса, как известно, ссылка была очень тяжёлая, гораздо тяжелее, чем лагерь, чем зона. И он об этом написал мне — и мне написал, и моей жене написал. Я там где-то пишу, что он письмо Рае начал так: «Я тот самый Васыль, который высватал Вашу дочку за своего Мытрыка». Он очень хорошие письма мне писал, жаль, что они пропали, меня же выпускали без бумаг. Письма с подробным описанием этапа, ссылки, что его может ждать. И я уже понимал: мне, конечно, не хотелось такую ссылку, мне хотелось пожить немножко и поберечь своё здоровье. Поэтому я, зная, что передо мной враги и что враг ничего хорошего тебе сделать не может, враг должен тебе сделать только плохое, — я ходил по зоне, собирал стукачей — известных стукачей — и говорил им, что вот, знаете, я вот написал про зону книгу. И всё в порядке, теперь у меня другая задача: теперь мне нужно попасть в тяжёлую ссылку, чтоб хорошая книга получилась, как мучают людей в ссылках. Главное, чтобы была тяжёлая. Я очень боюсь, вдруг они мне дадут лёгкую ссылку, и все мои литературные планы будут поломаны. И мне дали самую лёгкую ссылку из всех, какие только возможно. Потому что враг, он...
Я.Тинченко: А ссылка где?
М.Р.Хейфец: В Ермаке, в Павлодарской области.
Я.Тинченко: Казахстан?
М.Р.Хейфец: Казахстан. Во-первых, это хороший климат, резко континентальный: суровая зима, но зато тёплое, жаркое лето. На берегу Иртыша — купаться можно. Хорошее место, что там говорить. Мои девки ко мне приехали, моя семья, и девицы так провели лето, что когда они вернулись в Ленинград, к жене приходили и говорили: «Слушайте, а какая хорошая дача у вас была? Скажите, где это, мы бы туда поехали отдыхать». Действительно, хорошее всё это: место, работа у меня была хорошая — всё было хорошее.
Я.Тинченко: Кем Вы работали?
М.Р.Хейфец: А вот место работы тоже, вот понимаете? Я приехал. Самое тяжёлое в ссылке — это этап. Этап — очень тяжёлое дело, действительно, выматывающее дело этап. Васыль может подтвердить. А Стус мне писал, какой там этап, какие страшные места пересылок и всё прочее. Поэтому я приехал, конечно, очень усталый. Убыл на этап я 18 апреля, а, по-моему, 7 или 8 июня, я уже не помню точно, я прибыл на место. То есть 12 дней апреля, 31 день мая и ещё там сколько — в общем, 50 с чем-то суток я шёл этапом. Усталый. Сразу ты должен идти на работу. Самый страшный день в моей лагерной жизни — это был день, когда меня освободили. Потому что в незнакомом городе тебя выпускают из тюрьмы. У тебя нет ни копейки денег, все твои деньги остались на лагерном счету. Ты должен сообщить в лагерь, где ты находишься, и они тебе деньги переведут. А на какие деньги я им сообщу, где я нахожусь — у меня же денег нет даже на открытку, не говоря уже о том, что открытка должна туда прийти, перевод должен пройти. Я не могу сообщить своей семье, где я. Я попробовал заказать телефонный разговор за счёт вызываемого лица — мне сказали, что такой услуги они тут не знают.
И поэтому — вот так получилось у Васыля — ты в полном распоряжении начальства. Тебя направляют на работу, тебя направляют в общежитие, и ты должен там жить, и как Васыль жил, вы знаете — вся компания там уголовная. Тебя посылают на ту работу, которая им нужна, то есть где уже оборудовано стукачами со всех сторон и всё прочее, и ты должен делать то, что им надо.
В.В.Овсиенко: Знаете, что зэки делали? Покупали конверты с марками или марки, и вот на почте договаривались, что я за марки даю телеграмму. Это единственная валюта, за которую можно было дать телеграмму.
М.Р.Хейфец: Может быть, но на самом деле я первый раз в жизни унизился — я у них что-то попросил, попросил у той милиционерши, которая мной ведала, чтобы она за свой счёт послала телеграмму моей семье, где я нахожусь, чтобы перевели телеграфом деньги. Действительно, на следующий день пришли деньги, я ей тут же отдал, и всё. Первый раз я воспользовался услугами МВД.
Но вначале было очень тяжело, в первый день. Квартиру ты не снимешь — у тебя нет денег. Я на первую ночь попросился обратно в КПЗ — куда деваться-то?
Но что дальше с работой делается? Всё, я сообразил. Как только у меня оказались деньги, я как бы более или менее свободен, я тут же подаю заявление в горком партии. Заявление такое, что я прибыл в Ермак не по своей воле, я не сам этот вопрос решал, поэтому, раз я не сам решил свою судьбу, обязанностью власти является меня здесь трудоустроить прошу райком партии найти мне место работы в городе Ермаке.
Логика тут какая? Первое: горком партии знает, что я поступаю правильно. Они — власть, и я обращаюсь к власти с просьбой решить политический вопрос. Так, в принципе, если бы я не написал это заявление, это дело милиции, и никто в дела милиции вмешиваться не будет. Но раз уж я обратился в политическую инстанцию с просьбой решить политический вопрос, с их точки зрения, я поступаю правильно — я обращаюсь к тем, кто и должен этим заниматься. Значит, отказывать они мне не могут.
Дальше. Горком партии — не милиция, он вопросы решать быстро не привык. С другой стороны, милиция меня больше беспокоить не будет: вопрос в горкоме, и не их собачье дело решать за горком партии, где я должен работать. И вдобавок, я стал ходить по разным местам, искал работы по своему диплому, чтобы устроиться на работу человека с высшим образованием. Мне всюду говорили: да, люди нужны, но нам нужна рекомендация. А в горком я написал, что у меня есть высшее образование, у меня есть диплом, меня без вашей рекомендации не принимают — прошу вашего содействия. Им тоже лестно было, что я прошу содействия горкома партии.
И вот меня принимает секретарь горкома партии — это я как раз описал в «Путешествии из Дубровлага в Ермак». И тут я неплохо сыграл. Я разговариваю с секретарём горкома партии. Он говорит: «За что Вас...». Он искал слово: «За что Вас... взяли». Я ему подсказал: «Изъяли из общества?» Он обрадовался, что я ему подсказал. «Ну, как Вам сказать? Я не буду врать — я Вам скажу честно: я считаю, что России не надо вмешиваться в чужие дела. Вот за это меня взяли». — «А, Вы считаете, что нам Куба не нужна, Ангола не нужна?» Я вижу, что он сам так считает, я для него сразу становлюсь хорошим человеком. И тут я развиваю успех. Я ему говорю: «Да нет, я буду ухудшать Ваше мнение о себе, гражданин начальник». Он сразу обижается: «Почему гражданин — товарищ начальник!»
В.В.Овсиенко: Сразу товарищем стал?
М.Р.Хейфец: Нет, он не знал этого — он считал вообще, что это оскорбление некое, что я его по-человечески не хочу называть. Я ему говорю: «Я Вам честно скажу: я считаю, что России и в Казахстане делать нечего. Понимаете, я вовсе не какой-то принципиальный враг империализма — я знаю, что империи сыграли свою роль в истории человечества, что они принесли массу достижений цивилизации во многие колонии, в частности, в Казахстан, что они принесли сюда очень много культуры. Но всё — выросло новое поколение, культурность казахов, вы уже можете разбираться в своих делах сами. С какой стати Россия должна посылать сюда свои кадры, своих людей, вкладывать свои инвестиции? Вот я походил по Ермаку, я видел огромный завод ферросплавов — Вы же не будете говорить, что этот завод построен на средства республиканского бюджета? Завод построен на средства союзного бюджета, Россия вложила в вас свои деньги. Вот построили вам дороги — это же тоже не Казахстан? Я понимаю, что это стратегические дороги — их тоже не Казахстан строил? С какой стати Россия должна тратить на вас свои деньги, своих людей, свои кадры? Люди сюда к вам приезжают — почему они приезжают из Москвы, из Ленинграда? Потому что здесь им платят больше, чем в Москве или Ленинграде, иначе бы они здесь не удержались. С какой стати Россия терять свои средства на Казахстан? Живите сами, гражданин начальник, и перестаньте обирать Россию».
Говорю, как какой-то диссидент, но понимаю, что я ему маслом по сердцу — он мечтает жить сам, чтобы над ним не было русских начальников! Поэтому он говорит: «Михаил Рувимович, я не буду от Вас скрывать: мы знали, что Вы прибыли в наш город. Наша цель — чтобы Вы как можно более незаметно влились в число жителей нашего города. Наши условия: чтобы Вы никому не говорили, за что Вас сюда отправили. Что Вы политический ссыльный, никто не должен знать, кроме нас с Вами. И тогда мы Вам поможем. Идите, устраивайтесь на работу — мы Вас поддержим».
Я от него сразу выхожу и иду к завгороно. Прихожу и говорю, что я учитель с высшим образованием и хочу работать в школе. «Образование высшее?» — «Да». — «Диплом есть?» — «Есть». — «Квартиры у меня нет». — «Квартира мне не нужна». — «Сколько лет педстажа?» Я говорю, сколько было — 11 или 15, не помню. Это был 1980 год — значит, 14 лет. Он говорит: «Тогда я Вас пошлю на курсы усовершенствования в Павлодар». — «Ну ладно». А сам думаю: а можно ли мне в Павлодар-то со ссылки? Ну ладно, думаю, чего я буду спорить? А объяснить ему я не могу — мне же только что в горкоме запретили. Он женщине, которая напротив него сидит, говорит: «Запиши его в приказ. Это ваш будущий директор», — объясняет. Но, видимо, ему тоже что-то говорили, и вдруг он сказал: «А почему у Вас такой большой перерыв в стаже?» — «Ну, хорошо, гражданин начальник, я Вам скажу, хотя мне не разрешено это: я политический ссыльный. Но я к Вам не просто так пришёл — я пришёл из горкома партии. Мне сказали, что там меня поддержат. Я был на приёме у Кекембетова. Он поворачивается к ней и говорит: Записывай его в приказ. Так я был в учителя средней школы зачислен. В отличие от Васыля, которого послали в шахту, мне, пожалуйста, работа по специальности.
Другое дело, что я так и не работал по специальности, потому что в это время как раз был процесс Алика Гинзбурга, и я написал его жене Арине, что, Арина, если понадобятся какие-то выступления в защиту Алика или что-то ещё — этот солженицынский фонд все годы помогал моей семье, — то даю тебе право: располагай моей подписью на любых документах, как хочешь. Ну, конечно, после этого мне уже запретили работать по специальности — я как бы нарушил хорошие отношения с начальством.
Я ещё на что рассчитывал? Меня будет устраивать горком партии. Горком партии — номенклатурная организация, они меня должны устроить не рабочим на рыбный завод, скажем, на очистку рыбы — у них таких мест нет. Это милиция меня туда может поставить, а у горкома партии своя номенклатура, они будут искать место. Кроме того, это место надо оборудовать — чтобы был стукач рядом и всё прочее. Горком партии есть бюрократическая структура, она быстро не действует.
Я.Тинченко: Можно, я Вам задам те вопросы, которые у меня есть?
М.Р.Хейфец: Да.
Я.Тинченко: В принципе, как я понимаю, Вас посадили за статью о Бродском?
М.Р.Хейфец: Да.
Я.Тинченко: В каких Вы тогда были отношениях с Бродским, насколько Вы его хорошо знали? И почему такая нелепость, что Вас посадили за статью, которую видели всего несколько человек?
М.Р.Хейфец: На самом деле я с Бродским был в довольно далёких отношениях. Я не был его другом — я был, что называется, приятелем, ещё точнее, я был поклонник. Потому что это сейчас мы кажемся все одного возраста, но я был старше Бродского на 6 лет, и для него я был другое поколение, я был «стариком». Я крутился вокруг редакции «Звезды» тогда и печатался. И там был такой великолепный организатор литературных сил, который очень рано умер, такой журналист Владимир Травинский. Он меня познакомил буквально со всеми, кого я узнал потом из интересных людей. В частности, принёс он стихи Бродского. У меня такое ощущение вообще, что это были автографы. Я прочитал и сразу сказал, что это большой поэт, я сразу влюбился в его творчество очень сильно. И так стал его обожателем.
Я.Тинченко: А стихи напечатали?
М.Р.Хейфец: Нет, Бродского в Союзе вообще не печатали — это были самиздатские стихи.
Я.Тинченко: То есть он принёс не как сотрудник «Звезды»?
М.Р.Хейфец: Да, так просто. Вокруг него всё время вертелись люди.
Я.Тинченко: Да, я понял.
М.Р.Хейфец: Нет, даже мысли не было, что это можно напечатать: там стихи без упоминания имени Владимира Ильича Ленина — кто их будет печатать? Но я сразу понял. Там были какие-то такие стихи даже детские, но и они меня поразили. Я до сих пор помню стихотворение, которое Бродский нигде не печатал — такое детское стихотворение, но мне оно очень понравилось, так что я до сих пор помню:
Прощай, позабудь и не обессудь,
А письма сожги, как мост.
Да будет мужественным твой путь,
Да будет он прям и прост!
Да будет во мгле для тебя гореть
Звёздная мишура!
Да будет надежда ладони греть
У твоего костра!
Да будет жесток и прекрасен бой,
Гремящий в твоей груди!
Я счастлив за тех, которым с тобой,
Может быть, по пути.
Как видите, это совсем детское стихотворение какое-то, но оно сразу было... «а письма — сожги, как мост» — совершенно необычные сравнения, непривычные для нас. И непривычные отношения — обычно возлюбленный, который расстаётся, он либо проклинает свою возлюбленную, либо надеется на встречу, т.е. он говорит о себе только, а тут «я счастлив за тех, которым с тобой, может быть, по пути». Он думает о ней и о её будущем пути. То есть он сразу был не таким, как все остальные поэты, хотя и ясно было, что это детское стихотворение.
И я полюбил очень-очень его стихи, но встречался с ним редко — я его боялся.
Я.Тинченко: А когда Вы в первый раз с ним встретились?
М.Р.Хейфец: Тогда же, ему было лет 20, я думаю. Наверно, был 1960-й год. Я его побаивался — надо вам сказать, что я как-то сразу понял, что это большой человек, большая личность. А у меня есть комплекс — я боюсь встречаться со знаменитыми людьми. Боюсь потому, что у меня такое ощущение, что когда к ним кто-то приближается, они начинают думать: что этому человеку от меня нужно? А мне никогда ни от кого ничего не было нужно. И поэтому, опасаясь быть неправильно понятым, я... Вот если меня звали — тогда другое дело, я тогда приходил с удовольствием. Но сам кому-то набиваться на встречу я боялся. И Иосифа я побаивался, потому что я чувствовал внутреннюю напряжённость и такое некоторое отстранение. Я просто очень любил его стихи и сразу понимал, что это большой человек и большой поэт.
И вот была одна такая ситуация, когда, по-моему, так мне видится, я его отпугнул от себя. У меня тогда вышел мой первый фильм на «Леннаучфильме», где я был сценаристом, естественно, — «Николай Кибальчич», о народовольцах. Это тогда моя тема была — народники, народовольцы, я этим занимался. Фильм получил хорошую прессу, первую категорию, то-сё, и я как бы был большой человек на «Леннаучфильме».
И вот мой редактор, Виктор Тернарский такой, приглашает меня на студию и говорит: «Миша, тут у нас старый режиссёр-ветеран, он говорит, что ему надоело со старыми сценаристами работать — он хочет работать с новыми именами. И он хочет, чтобы ты ему рассказал об интересных людях в Ленинграде, с кем можно работать». Встречаюсь я с таким-то старым человеком, начинаю ему рассказывать, что тот-то талантливый над тем-то работает, тот-то талантливый — над тем-то. И кончаю каждый раз: адрес, телефон, адрес и телефон. И в самом конце говорю: «Но самый талантливый человек в сегодняшнем Ленинграде — это Иосиф Бродский. Если бы Вам удалось помочь ему, Вы сделали бы святое дело. Потому что парень не окончил даже среднюю школу, Вы же понимаете, что такое там — еврейская семья, мальчик не кончил даже среднюю школу, не хочет думать об институте, они считают его пропащим таким, непутёвым ребёнком, блудное дитя. А человек невероятно талантливый. Если бы Вам удалось его привлечь на студию в каком-то качестве, это было бы для его семьи каким-то знаком, что с ним всё в порядке. Это бы ему очень помогло». Он говорит: «Вы в этом уверены?» Я говорю: «Совершенно уверен». Он говорит: «Знаете что — адрес и телефон не нужно мне давать. Дело в том, что это мой племянник. И Вы действительно совершенно правильно охарактеризовали ситуацию в нашей семье — действительно, мы считали, что у нас пропавший ребёнок, блудное дитя. И если такой человек, как Вы, рассказывает про него так, то, наверное, мы действительно не оценили нашего Иосифа. Что ж, — говорит, — ладно».
Мы расстались, и я забыл эту историю совсем. И только заметил, что Иосиф стал от меня немножко отдалённо так, это всё чувствуется. Но я тоже самолюбив и не лезу к людям, когда им не нужен. И только через много лет, когда мне попался этот пятитомник, я там увидел этот текст, сценарий фильма «Сады города Павловска» или что-то в этом роде. Причём, там описано в комментариях (это собрание сочинений с комментариями, как положено), там было написано, что Бродский написал текст, фильм был снят, фильм получил первую категорию и признан выдающимся в Москве в главке, но при условии: изменить текст. Вот какие были талантливые люди, как они чувствовали, что это не их! Ведь они же не знали, тогда Иосифа никто не знал, это было для них имя, которое ничего не говорило. Они ощутили, что это чужое. Какой-то Павловский парк — ну что там вообще, там никакой ни политики, ничего. Они ощутили, что это талантливо, и это им не нужно.
Я.Тинченко: То есть, по сути, до появления Вашей статьи Вы уже были знакомы почти 13 лет?
М.Р.Хейфец: Да. И тут ещё что — я должен сказать, что у меня есть некое мистическое представление о том, за что я угодил в тюрьму. Дело в том, что на самом деле я человек — как мне видится сейчас, а раньше я этого не понимал, — видимо, физиологически лишённый чувства страха. Во мне его нет, и я не говорю это как комплимент себе, а наоборот, как минус свой, потому что, следовательно, нет чутья опасности.
Дважды в моей жизни было, что я струсил. Первый раз это было, когда Иосифа посадили в первый раз — в 1963 году где-то в марте, по-моему, или в апреле был его суд, а я в феврале женился. Я очень люблю жену, а тогда уж, тем более, я был новобрачный, я был от неё совершенно без ума. Я понимал, что если я пойду на суд к Иосифу, то уж я с этого суда не вернусь — не знаю, что будет с Иосифом, а я уж точно туда попаду. Поэтому я не пошёл на суд Иосифа, и я точно знал, что я струсил. Хотя никто вообще не заметил, что меня нет — я не был близким другом, я был один из многих приятелей. Мало ли — кто-то из приятелей не пришёл на суд, какая тут проблема. Это первое.
И второй раз я струсил, конечно, в 1968 году, когда ввели войска в Чехословакию. Конечно, я везде и всем вслух говорил, что я по этому поводу думаю — это я не стеснялся. Но нормальный человек, конечно, должен был поступить, как те, что вышли на площадь к Лобному месту с открытым публичным протестом. Я этого не сделал и ощущал как некую свою трусость.
И то, что я струсил два раза — из-за Бродского и из-за Чехословакии, — это где-то и скомпенсировалось в этой моей статье. То, что я не сделал тогда, я сделал сейчас. И получил то вознаграждение, которое должен был получить за то тогда — я получил в этот раз и как бы расквитался с судьбой.
Поэтому мы с ним были давно знакомы, но как-то не близко были знакомы. И статью я писал не потому, что это был знакомый человек, а потому что я уже где-то понимал его роль и значение. Надо вам сказать, что когда его выслали, мы были уверены, что с Бродским как с поэтом кончено. Ну, как может быть русский поэт на Западе, когда нет стихии языка, нет читателей? Потому что поэт — это же всё-таки поэт, это не публицист. Это должны быть люди, понимающие все культурные ассоциации — а кто же на Западе поймёт все тонкости поэтических ассоциаций? То есть всё, поэта загубили. И мы, в самом деле, работали, когда собирали сочинения, на вечность — мы думали, что всё равно вот нас не будет, но от нашего поколения вот это останется. И я, на самом деле, работал на вечность: знаете, вот был человек, который от нашего поколения сказал потомкам, кем мы были и что из нас могло получиться, если бы нас не заперли в эту клетку.
Я.Тинченко: А что это был за проект самиздатовского собрания сочинений Бродского, к которому Вы написали свою статью?
М.Р.Хейфец: Он возник так. Бродского выслали без единой строчки. Его, как и меня, когда я выезжал, тоже без единой строчки выслали. И мы понимали, что всё пропадёт, пропадут стихи. И поскольку мы понимали, что перед нами большой поэт, мы должны сохранить его для будущего. И вот группа людей во главе с Владимиром Марамзиным, ленинградским прозаиком, решила это спасти. Они пошли по всем знакомым Бродского, у кого есть автографы, и собирали их. А от них узнавали, кто ещё — люди же связаны друг с другом. И действительно, собрали практически всё. Мне сказали, что сейчас во всех собраниях сочинений Бродского сам Бродский опирается вот на этот пятитомник. Потому что все варианты собрали, все комментарии расшифровали, т.е. кому посвящено, какого числа и по какому поводу — полный академический комментарий был сделан. Это было на будущее, и в самиздате. Ну, Regimer берёт четыре копии — и всё, этого достаточно. Пять экземпляров.
Я.Тинченко: Пять экземпляров, и с Вашей статьёй?
М.Р.Хейфец: Нет. А никто не брался за статью. Причём, как мне сказал Марамзин, не потому что боятся, а боятся ответственности. Действительно, мы представления не имели, что об Иосифе знают уже всерьёз за границей. То есть знали, что он туда отдавал свои стихи и что их там печатали — это доходило. Но что он получил такую известность, что это не просто поэт, чьи стихи мы передали, а что это Оден им заинтересовался, великий английский поэт, что он уже согласился написать к сборнику Бродского предисловие — этого мы ничего не знали. Для нас он был самиздатский поэт, наш парень в нашем кругу, которого мы ценим и знаем, а больше никто не знает. И хотелось это просто сохранить для будущего. Но в то же время все понимали, что это большое явление, и никто не взялся. А я по легкомыслию и по дерзости своей, которая во мне, видимо, есть, когда мне предложили... Мне не предложили, на самом деле — Марамзин сказал, что никто не берётся, и так выжидающе на меня посмотрел. И я сказал: «Да, я возьмусь. Я сделаю».
И написал статью, принёс Марамзину. Он прочитал и сказал: «Мишка, но за это же посадят — всех. Культурное начинание будет погублено! Переделай». Вот я стал переделывать и... То есть, на самом деле, не буду вам врать — я не стал переделывать. Я прочитал, стал думать, как и что, но ничего не получается. Написал, как мог. И я тогда стал показывать статью знакомым. Ну, труд двойной. Конечно, в одном органы были правы: что я показывал не только, чтобы получить совет. Формально это всё выглядело именно так: вот, Марамзин отказался печатать, говорит, что слишком много политики — посмотри, что тут можно сделать. Но, конечно же, в душе я понимаю, что мне ещё хотелось похвастать, что вот я статью написал не буду врать уж теперь — чего. Но я так ничего и не сделал.
И вдруг мне сообщили, что Марамзин заказал другую статью — видимо, потеряв надежду, что я что-то сделаю, он заказал другую статью, чисто литературоведческую.
Я.Тинченко: Вам?
М.Р.Хейфец: Нет-нет, другому человеку — забыл его фамилию, поэт ленинградский один. И тот ему написал. А среди тех, кому я показал, был Воскобойников, и она стала известна в органах. Они поняли, что у них есть материал. Но тут, самое главное, было не во мне дело — тут я подхожу к ответу на Ваш вопрос. Дело в том, что среди тех, кому я показал статью, был Ефим Григорьевич Эткинд — профессор, известный литературовед, которому моя статья так понравилась, что не просто высказал своё мнение, а написал рецензию, по-профессорски сделал рецензию. Явно я его провоцировал на собственную статью о Бродском, я это понимаю. Теперь, перечитывая её, я понял это. И я не удержался — я позвонил Марамзину. Всё-таки люди есть люди — меня тоже немножко задело, что мою работу отвергли. Я позвонил Марамзину и сказал ему: «Володя, а статью читал Машкин отец, и она ему понравилась!»
А телефон Марамзина в это время, видимо, был уже «на кнопке», и они уже узнали, что Эткинд читал статью и она ему понравилась. А вот Эткинд — это уже была очень нужная добыча! Потому что только что прошло дело Солженицына с «Архипелагом ГУЛАГ», а Эткинд помогал, он нашёл Солженицыну машинистку, через него была передана машинистке рукопись, и эту рукопись он же отвозил Солженицыну обратно, т.е. он участвовал в этом деле. И они Солженицына не посадили — этого гада они не посадили, но уж тех, кто ему помогал, они всех хотели посадить. И вдруг у них такая подставка! Они хотели меня посадить за мою статью, а Эткинд у них шёл... «ваш интеллектуальный соавтор», так это называлось.
В.В.Овсиенко: Интересно!
М.Р.Хейфец: И поэтому ещё этому делу было придано такое большое значение. За мной-то наблюдали уже много лет к тому времени, но это особая история, я её рассказывать не буду.
Я.Тинченко: Хорошо. Ещё один вопрос из моих обязательных: Вы, уже будучи в Израиле, имели какие-то контакты с Бродским?
М.Р.Хейфец: Вы знаете, один раз. То есть, телефоны какие-то были, а я был в 1988 году в Америке, приехал в Нью-Йорк, позвонил Иосифу. Он говорит: «Миша, я так рад, что ты приехал, но мы не можем встретиться — ты меня застал на пороге. Я ухожу из дома — я же работаю, и работаю не в Нью-Йорке, а в Амхерсте в университете, на севере. Я сегодня уезжаю туда на чтение лекций, вот сейчас прямо. Ты меня чудом застал». Ну нет — нет, ничего не получилось. Бывает, я же его не предупредил о том, что я еду.
А потом я на север поехал в университет. У меня приятели жили — там Лёша Лосев был в Даркнитском университете, а Юза Лешковский — в Лидл-таунском [название неразборчиво]. И вот я сижу с Юзом, и он меня тоже спрашивает: «А ты с Иосифом виделся?» Говорю нет. «О, ты должен с ним увидеться!» Юз такой решительный, моторный человек, тут же набирает номер: «Иосиф, у меня тут Миша сидит. Можно, мы к тебе вечером приедем?» — «Конечно, с удовольствием». Он мне говорит: «У меня есть машина — это я тебе сделаю, ты должен Иосифа повидать!» Сели мы в машину, там час с лишним езды в тот университет от Юза. И мы провели вечерок.
Что из этого вечера мне запомнилось? Мне запомнилось два момента. Во-первых, Иосиф со мной рассчитался за то моё непрошеное вмешательство в его жизнь с этим сценарием. Он меня спросил: «Миша, ты что-нибудь привёз, какую-нибудь рукопись в Америку?» Я говорю, что привёз — это было это самое «Путешествие из Дубровлага в Ермак». Он говорит: «А ты не хочешь предложить в издательство?» — «Почему же». — «В моё издательство, я дам рекомендацию». Так он со мной рассчитался, и всё, он был удовлетворён. У меня было ощущение, что Иосиф принадлежал к людям, которые не любили людей, которые оказывали ему добро — вот есть такой комплекс, я его называю «комплексом Вагнера». Рихард Вагнер, как известно, мучительно не любил, ненавидел тех людей, которые делали ему добро. Видимо, ему казалось, что этим его как бы унижают — покровительством, помощью какой-то и т.д.
Я.Тинченко: Вы знакомы с этим последним, якобы последним стихом Бродского об Украине? У нас сейчас...
М.Р.Хейфец: Нет, не читал его, не знаю даже, о чём идёт речь.
В.В.Овсиенко: Я не знаю текста, но там что-то такое оскорбительное по отношению к Украине и даже, знаете, такое пренебрежение, что вот, мол, те хохлы хотят независимости — такое что-то.
М.Р.Хейфец: Ну, глупость написал.
Я.Тинченко: Похоже, да?
М.Р.Хейфец: Я не знаю, не буду врать. Я просто не знаю. Я вам скажу честно: мне поздний Бродский — чужой поэт. Это не моя поэзия. Я понимаю: Бродский хотел сделать такую, как бы вам сказать, английскую прививку к русской поэзии, т.е., как бы сказать, неэмоциональную поэзию, а поэзию чистой логики, чистого размышления. Так построена, во всяком случае, вся современная английская поэзия, американская тоже, и он хотел сделать такую прививку к русской поэзии, которая на самом деле рождалась из французской поэзии, т.е. поэзии эмоциональной, страстной и прочее. Я понимаю, что это какое-то новое слово, новое направление, но мне это не близко. Я это даже понимаю, но мне это не близко. В конце концов, поэзия должна, быть может, быть созвучной или нет. Я понимаю, что это произведение мастера, над которым я должен работать — а я не хочу работать над поэзией, я хочу её чувствовать.
Что касается «имперскости» Бродского — тут тоже очень странно. Он, действительно, поэт имперский, и не российско-имперский, а вообще имперский поэт. При этом очень интересно: он поэт империи в любом случае, даже если он её проклинает, даже если он её ненавидит, как Римскую империю. Он поэт империи — это его область, его сфера. Нравится она ему или не нравится, он в этом кругу вращается.
Я думаю, что именно поэтому, например, он не поехал в Израиль. Второе, о чём мы говорили тогда — я его очень звал в Израиль.
Я.Тинченко: Это в 1988 году?
М.Р.Хейфец: В 1988 году, да. Это была наша встреча, и я говорил (я не понимал его ситуации, я был глупый человек): «Иосиф, только на билет — есть комната, есть холодильник, я тебя накормлю. Приезжай — Господи, посмотришь такую страну!» Он мне говорил: «Миша, я ведь человек невольный — ты же видишь, я работаю зимой, и весь учебный год я читаю лекции. А летом у вас жарко, а у меня больное сердце, я боюсь». Я понимал, что он говорит неправду, но с этим не поспоришь — и боится человек, и работает. На самом деле я думаю, что он не поехал в Израиль, потому что он боялся некоего взрыва, подрывающего это его имперское бесстрастие.
Я.Тинченко: То есть, он боялся быть евреем, другими словами?
М.Р.Хейфец: Я бы не сказал, что он боялся быть евреем. Он боялся быть, как бы это точнее сказать, укоренённым человеком — я бы сказал так. Ведь на самом деле имперская культура всегда вненациональна, всегда состоит из потоков. Причём, она может быть враждебна этим потокам. Скажем, я убеждён, что российская культура и русская культура враждебны друг другу. Скажем, Есенин — это русский поэт, а Мандельштам — это российский поэт, Кольцов — это русский поэт, а Пушкин — это российский поэт. И это разные культуры. Имперская культура состоит из всех потоков, которые в неё входят от всех народов, которые входят в империю. И Иосиф был, конечно, имперский поэт, причём имперский в том смысле, что состоя в русской культуре, он одновременно вливал в неё поток английской и американской поэзии, и негритянской поэзии на английском языке. Он действительно делал эти прививки. Некая укоренённость в местной культуре — а в то же время, я думаю, он понимал силу местной — и он боялся. Это моё личное мнение, мои личные оценки — возможно, я ошибаюсь.
Я.Тинченко: В последний раз Вы его видели в 1988 году — а когда Вы его последний раз слышали?
М.Р.Хейфец: Когда я работал в газете, я ему несколько раз звонил по просьбе газеты. И какое-то интервью я у него брал. Он всегда очень по-дружески относился ко мне, прямо сказать, т.е. никогда ни в чём не отказывал, всегда давал любые разрешения, очень просто держался, на самом деле, что было очень приятно — всё-таки, нобелиант мог бы и зазнаться. Но ничего подобного не было — это был тот же простой хороший парень, которого я знал в Питере. Последний разговор был, когда до нас дошёл слух, что он в Нью-Йорке напечатал какой-то исторический очерк — о Сиднее Рейли или что-то в этом роде, или о Савинкове. И я попросил у него разрешения взять этот текст, перевести на русский язык и напечатать. Он сказал: «Ну, найдите сами — я даю тебе разрешение». Я перелистал «Нью-Йорк», который был у нас, и не нашёл. А на самом деле у меня к этому времени отношение к газете уже было довольно прохладным, и особо стараться, снова ему звонить, снова выяснять я не захотел — обойдутся.
Я.Тинченко: Это «Вести»?
М.Р.Хейфец: «Вести», да.
Я.Тинченко: Так Вы там и сейчас? А с какими Вы ещё газетами там сотрудничаете?
М.Р.Хейфец: Я сотрудник — есть там такая газета «Русский израильтянин». Эта газета принадлежит «Московскому комсомольцу». Они купили эту газету, контрольный пакет акций они купили. И я в ней сотрудничаю, это еженедельник, такая более литературная и более русскоязычная, я бы сказал так. Отличие от «Вестей» и всякой другой газеты — что они стараются быть чисто ивритской, местной газетой, еврейской, что ли, газетой. А все остальные — я не приверженец этого принципа — охотно перепечатывают из московских газет, ленинградских.
Я.Тинченко: Это мы всё очень хорошо знаем. [Выключение диктофона].
М.Р.Хейфец: «Выстрел ада» — это про народника Каракозова, который стрелял в Александра II из Летнего сада, а «Ад» — так называлась его организация. Поэтому «Выстрел ада» — очень даже любопытная история, совершенно поразительная, на самом деле. Но это долго рассказывать. Вот эти две повести я написал. Я тогда работал над повестью о Нечаеве, начал работать, но я только приступил к ней. И видел, что ничего не выходит у меня, ничего не идёт, совершенно. Четыре года я жил очень странной жизнью — я писал повесть, пьесу, сценарий, относил заказчику, по договору. Мне платили сто процентов гонорара — и ничего никуда не шло. Я так жил четыре года. Я не мог понять, в чём дело, что за бред, вообще. Кормят за счёт рабочих и крестьян.
И тогда я решил как бы увернуться [неразборчиво несколько слов] запрещены. Я написал тогда, с одной стороны, повесть из эпохи Петра I, новое название её «Страсти по Меншикову: Хроника любви и власти». Это история дочери князя Меньшикова. Это тоже очень забавная история, я её откопал в архивах. Я не знаю, правда это или нет, но сам сюжет был такой, что отказаться от него было невозможно. У старшей дочери Меньшикова Марии, которую он хотел выдать замуж за царя Петра II, был любимый человек — это был старший сын князей Долгоруких Фёдор. И они решили убежать за границу. Отец поймал, посадил парня в Шлиссельбург и сказал дочери: «Вот в тот день, когда ты выйдешь замуж за царя, твой возлюбленный выйдет из тюрьмы».
То, что я раскопал — оказывается, по местным преданиям, по раскопкам и прочее, Фёдор бежал в Берёзов, там с ней обвенчался, и она умерла в родах, родив ему двойню. А он, по местным преданиям, умер на её могиле через месяц. Это чистый «Ромео и Джульетта» в русских традициях, т.е. обыски, аресты, Сибирь, ссылка, тайный брак и всё прочее. Вот такую повесть я написал — не получилось.
Тогда я стал писать об Александре Ульянове — ленинская тема. Потому что парень оказался исключительно интересным, когда я им занялся всерьёз. Но это уже совсем никуда не шло, потому что, например, я нашёл его фразу, сказанную про брата Володю: «Володя — очень способный человек, но у нас с ним нет ничего общего». Очень любопытная история, это уже с Александром Ульяновым, долго рассказывать.
Я.Тинченко: А Вы это опубликовали?
М.Р.Хейфец: Нет-нет, это никуда не шло!
Я.Тинченко: А потом?
М.Р.Хейфец: Нет, это всё там пропало. Я успел напечатать только одну главу полностью — это была глава, которая называлась «Чёрный кабинет», о том, как работает почтовая цензура, как они вскрывают письма, какова техника всего этого дела. Всю организацию раскрыли потому, что один из членов организации написал в открытую в письме, чем они собираются заниматься. Письмо вскрыли, и их успели задержать в последний момент, они уже вышли на покушение, а в этот момент дошла информация, и их задержали на улице. Вот на день бы опоздать — и, может быть, Александра III они бы убили. Но, понимаете, эта же техника вскрытия писем на почтовой цензуре — она не изменилась. Так я тогда писал, с этим меня взяли.
Потом пошли лагерные книги, потому что я обещал гэбистам по книге за каждый год срока. Я выполнил своё обещание: «Место и время» за первый год, «Украинские силуэты» за второй год, «Военнопленный секретарь» за третий год, «Путешествие из Дубровлага в Ермак» за четвёртый. А за ссылку — я уже считал, что честно день за три надо считать, как положено, — «Русское поле». Я написал пять книг. Я считал, что рассчитался, я вам обещал — я своё слово сдержал, я человек честный, больше вы меня не интересуете.
В.В.Овсиенко: Интересно, а кагэбисты возрадовались, когда узнали, что о них тоже там есть написано?
М.Р.Хейфец: Ну, этого я не знаю. Это такая была стена — я же пытался прорваться в ГБ. Обычно они всех перед отправкой за границу вызывают, беседуют, а у меня наоборот — я пытался к ним прорваться, а они уже понимали, что это я уже хочу их описать, и это была такая стена! Все или уехали, или уволились, в отпуск ушли, никого нет.
Я.Тинченко: Перед Вашим отъездом?
М.Р.Хейфец: Перед отъездом, да. Я звонил туда по всем телефонам, пытался встретиться, поговорить, подвести итоги — ни в какую! Вот такая история была. И гробовое молчание до сих пор. Они понимали, что проиграли, а они не любят проигрывать.
Потом я написал книжку об Израиле, называется «Глядя из Иерусалима». Конечно, это я пародировал «Глядя из Лондона» — передачи Би-Би-Си. Мне показалось интересным показать, как Израиль смотрится, с одной стороны, глазами человека, приехавшего из России, а с другой стороны, человека, который уже прожил довольно долго там, и какие-то вещи понимает, какие посторонние — не понимает. Как бы изнутри увидев эту страну, но и снаружи. Она пользовалась довольно большим успехом, уже даже всё было распродано, а они всё искали ещё экземпляры.
Дальше я написал книгу «Цареубийство в 1918 году» — это такой у меня неудачный ребёнок, я много в неё вложил. Дело в том, что мне попались материалы следственного дела — они же хранятся в Америке — и я по ним постарался восстановить историю той расправы, но не только. На самом деле меня, в основном, интересовала еврейская ситуация в революции — как получилось, что евреи пошли с большевиками. Собственно, книга на самом деле об этом. Это в 1991 году я кончил, и тут произошёл путч — и у всех начисто исчез интерес к истории, к какой бы то ни было, на 2-3 года русские занимались только современностью, и что там с царём было — это уже никого не интересовало. Через несколько лет снова возникло, но книга-то всё уже... Уже вышел Радзинский, уже появились подлинные материалы, которые они нашли в своих архивах. Я, конечно, горжусь тем, что всё, что я вычислил по следственному делу, опираясь на свой опыт зэка — всё оказалось верным: все факты, которые я вычислил, были подтверждены документами. Но, конечно, книга устарела, потому что зачем кому-то мои гипотезы и домыслы, когда уже есть документы. Ну, а показалось мне это интересным, потому что... Вот понимаешь, я скажу: расстреливали 11 человек, из них был один еврей, Юровский. Но все знают, что царскую семью убили евреи — десять остальных вообще не считают, их как бы не существует. При этом Юровский там оказался потому, что он был крещёный. Я говорю, что я нисколько не сомневаюсь, что расстреливали бы царя в Киеве — тут бы все евреи набежали, никаких других бы не было. А в Екатеринбурге евреев просто не было, это был город вне черты оседлости и даже не крупный город — уездный центр Пермской губернии. Их там просто не было — так обошлись без них, Господи.
А почему же евреи попали в [неразборчиво]? Потому что следствие вёл человек, которому дали установку: русский народ в этом подлом деле не участвовал. Это сказал министр, и он должен был найти нерусских людей, это была установка следствия. Он мог найти австрийцев, он мог найти венгров, искали всех, но прежде всего он искал евреев. Поэтому из всех палачей всем известен только один Юровский, хотя на самом деле мало того, что он был крещёный еврей, но ещё и верующий. Очень такая забавная фигура — он был верующий человек.
Я.Тинченко: Ещё раз возвращаясь к Вашей высылке...
М.Р.Хейфец: Ссылке?
Я.Тинченко: Нет, высылке из Союза...
М.Р.Хейфец: Это выдворение.
Я.Тинченко: А Вас не могли просто оставить в Союзе? Зачем Вас обязательно надо было выдворять?
М.Р.Хейфец: Конечно, могли ещё. Я же говорил вам, что я умный? Я ходил по стукачам и говорил, что чего я не хочу — это не хочу выдворения: ну что я, русский писатель, буду делать в Израиле? Да у меня же жизнь будет погублена, я только одного боюсь — как бы меня не выдворили. Нет, на самом деле справиться с ними несложно, когда ты понимаешь, что это враг. В ту минуту, когда ты знаешь, что это враг, что он ничего хорошего тебе не сделает, что враг тебе сделает только плохое, играть становится очень просто. «Я боюсь — ну что, у меня жизнь будет кончена там, ну куда я, к кому?.. По образованию — учитель русского языка и литературы, всю жизнь занимался русской литературой — ну что я, кто я такой?» — «А-а-а, он боится? Вот мы его и выгоним!»
Я.Тинченко: Кстати, Вы из Израиля многим пытались делать вызовы?
М.Р.Хейфец: Я недавно вдруг увидел у себя бумажку с длинным перечнем фамилий — я сам забыл уже. А я когда-то себе для того, чтобы идти в этот... забыл, как организация эта называется, типа «Сохнута», ОВИР тамошний как бы... я составил себе список [неразборчиво].
Я.Тинченко: А как «Сохнут» на это реагировал, что в списке практически не было евреев?
М.Р.Хейфец: Ну, придумывал я чего-то. В конце концов, уж если ты умеешь обманывать советскую власть, то обманывать евреев...
Я.Тинченко: Так Ваши попытки ни разу не увенчались успехом?
М.Р.Хейфец: Нет, увенчались, очень многие люди выехали.
Я.Тинченко: А кого Вы вытащили?
М.Р.Хейфец: Я забыл фамилии. Какая-то семья религиозных людей, типа сектантов, выехала из Сибири откуда-то — такие крепкие, здоровые ребята, они мне фотографию потом прислали — богатыри просто! Я был ужасно доволен, что они выехали. Иногда я не мог. Вот, скажем, Виктору Ивановичу Бескровных мне не удалось... Или Вайль...
В.В.Овсиенко: Саранчуку Петру не удалось тоже.
М.Р.Хейфец: Да, Саранчуку не удалось, ну никак. Я пошёл к Кузнецову просить. Он говорит: «Миша, ну ты что-то сделай, а я поддержу». Я стал искать какие-то пути, надо было что-то придумать. И я не успел — его уже забрали…
В.В.Овсиенко: Пожалуйста, о книге «Суд над Иисусом»…
М.Р.Хейфец: Потом я написал книгу «Суд над Иисусом: Еврейские версии и гипотезы». Это была очень интересная работа для меня, потому что на самом деле я смотрел на это дело глазами зэка. То есть мой опыт зэка помогал мне понять те тонкости поведения и Иисуса, и его судей, и его обвинителей, которые раньше были совершенно непонятны и, может, непонятны другим людям, которые смотрят на это дело чисто юридически, даже специалистам-юристам. У нас особый взгляд — мы знаем, и потом это близкие темы для нас, потому что от нас требуют того же, что от него — от нас требовали раскаяния. И он отказался раскаяться. И мы все, на самом деле, вполне могли получить намного меньше сроки, если бы мы согласились раскаяться. Мне было интересно это. Конечно, тут толчком был миллениум, и на самом деле это идея моего давнего замысла. Это был задуман телевизионный сериал, что вот стол, за столом сидят люди разных религий, перед ними папки с делами. Они открывают папку — дело, там фраза какая-то из «Евангелия». И сразу на экран, потому что все Евангелия экранизированы, — показывают этот эпизод, и люди начинают обсуждать, с точки зрения разных религий, как это выглядит [неразборчиво]. Они выносят решение, и потом это идёт на зрителя, а зритель — присяжный. Это вот юристы, а зрители — присяжные. Но телесериала не получилось, а получилась книжка.
А сейчас я собираюсь писать новую книжку, она будет называться «Ханна Арендт для чайников».
В.В.Овсиенко: А что это такое?
М.Р.Хейфец: Есть такая философиня на Западе — Ханна Арендт. Её мало знают в России по одной простой причине — ещё в 1950 году она выпустила книгу, которая называется «Истоки тоталитаризма», где она доказывала, что структурно нацизм и коммунизм — это одно и то же. И причём, не критикуя, не обличая, а просто выявляя общие структуры, общие свойства того или другого режима. Поэтому в России о ней не говорили потому, что ни при каких условиях они не хотели этого родства признавать, естественно. А на Западе она, в общем, культовая фигура — её все знают, но её мало читают, потому что она немецкий философ. Она любимая ученица Ясперса и возлюбленная Хайдеггера. Она пишет так, как положено немецким философам, то есть темно и вяло. Читать каждую фразу — пробираешься... Как Гегеля читаешь, как Канта читаешь. То есть, это невозможно читать.
На Западе люди не привыкли читать такие книжки. Это мы, воспитанные в марксистско-ленинской школе, через это всё пробираемся. Но, на самом деле, она необыкновенно интересный философ, очень важный для нашего времени, потому что она удивительно поняла суть тоталитарного строя, но не только его — суть тех процессов, которые происходят в человечестве в XX веке. Это почти никто не читал на Западе, потому что это сложно написано, а в России потому, что её просто упорно замалчивали. А я её прочитал, и мне показалось, что это очень важное открытие для всего человечества, на самом деле, которое не знают просто потому, что это написано слишком сложно. В своё время, в XVIII в., все читали Гегеля, а сейчас Гегеля уже никто не стал бы читать. И вот Ханна Арендт пишет в таком духе классической немецкой философии [неразборчиво]. Я решил изложить её мысли так, чтобы любые нормальные люди могли это прочесть и оценить. Поэтому и это название, «Ханна Арендт для чайников».
В.В.Овсиенко: Хорошо, прочитаем, если выйдет.
М.Р.Хейфец: Я её обязательно в следующем году напишу.
Переслушал и вычитал Василий Овсиенко 31 января – 1 февраля 2010 года. Харьковская правозащитная группа.
На фото В.Овсиенко: Ярослав Тинченко, Василий Овсиенко и Михаил Хейфец 9.12.2000 г.