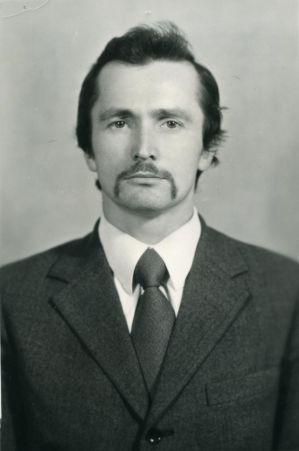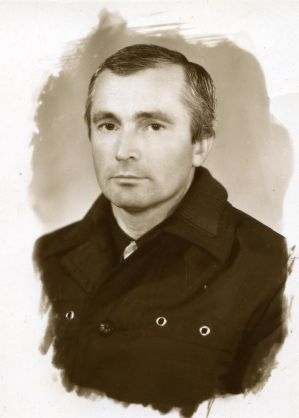
МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ
Интервью с Василием Овсиенко для Харьковской правозащитной группы в конце марта 1997 года взял Борис Захаров. С дополнениями в феврале 2004 года.
Бо мене хоч били
Добре били, а багато
Дечого навчили:
Тму, мну знаю, а оксію
Не втну таки й досі.
Т. Шевченко
ПЕРВЫЕ УРОКИ
Борис Евгеньевич Захаров: Расскажите, пожалуйста, в какой семье Вы родились, какие нравственные ценности исповедовала эта семья, о Вашем детстве.
В.В.Овсиенко: Я — Василий Овсиенко, отца моего тоже звали Василием, его отца — Трофимом. Отец мой родился 7 марта 1904 года, умер 8 мая 1976 года. Мать — Ефросиния Фёдоровна, в девичестве Подсуха, родилась на Крещение, 19 января 1910 года. (Умерла 29 января 1998 года). Они простые крестьяне, родом из села Ставки Радомышльского (у нас говорят Радомыского) района на Житомирщине, где и прожили свой век. Отец, как говорят, из «гречкосеев», имел два класса образования. А мать хоть и неграмотная, но их род отличался в селе какой-то врождённой интеллигентностью. Наверное, они были из давно обедневшей шляхты, может, и полонизированной в своё время. Мать говорила (у нас в семье к родителям обращались только на «Вы», и за глаза о родителях говорили так же, по-старинному: «Мать говорила...»), что их прадед был католиком по фамилии Варшавский, но, вступая в брак, принял православие и фамилию жены Подсуха. У нас от него есть древняя икона Матери Божьей Ченстоховской. Он якобы привозил эти католические иконы на территорию Российской империи и был за это арестован. Материн отец Фёдор Талимонович Подсуха был знаменитый столяр, но без своей хаты. Как сапожник без сапог. Перед революцией строил дом для пана Севрука на месте, которое называется Замок. Это действительно бывшее замчище: с востока крутой склон к реке Тетерев, с юга и севера овраги, а с запада выкопан ров. Наверное, и мостик был, который поднимался. «Строй, строй, Фёдор, хату, она тебе достанется», — говорил пан Севрук. Он умер в революцию, а панская хата, высокая, на помосте, всё-таки досталась деду Фёдору и бабке Елизавете (из рода Новиченко). В такой хате — несмотря на лихолетье — должны были вырастать высокие духом люди, тем более что в ней было много древних икон. Дед умер, когда немцы отступили, а бабка упокоилась в 1965 году в возрасте 92 лет. Мамин брат Лука был талантливым столяром и мастером на все руки (сделал сёстрам всю ткацкую утварь, а матери ручную мельницу, которая спасала нас и соседей в голод 1946–47 годов), тётки Анна и Антоська до начала 60-х годов ткали рядна и полотна, дядя Филипп был огородником и пасечником (в колхозе, конечно). Все хорошо пели, тётка Антоська ещё и играла на струнных инструментах. Семья была сводная: дед овдовел с семью детьми, бабка с двумя, а ещё прижили четверо общих. Моя мать Ефросиния (называли Хрусинька) из общих.
Родители мои поженились в 1930 году и записались в колхоз. Год жили у родителей отца, затем купили старую хатку на Хомовке и за несколько лет построили на усадьбе свою. Как на то время, большую. Недаром во время войны немцы заняли именно её, а семья некоторое время ютилась в землянке. Хотя матери разрешали готовить в печи.
Отец служил в 30-х годах в некадровых войсках (его брали на несколько зим). Когда приближался немец, его послали гнать колхозный скот на восток. Но немец разбомбил переправы на Днепре: миллионы скота и лошадей бродили по Правобережью... Пока отец вернулся домой, в селе уже были немцы. 6 ноября 1943 года красные взяли Киев и с ходу нашу местность. Тогда наших парней и молодых мужчин поголовно мобилизовали. Большинство из них Жуков безоружными, в домашних куфайках, бросил под немецкие пулемёты в Новоград-Волынском районе. За то, что были под немецкой оккупацией. Теперь в селе стоит памятная доска (я её писал): погибло 220 ставчан. Отец был ранен и так «искупил вину кровью». Дальше служил в артиллерии, подальше от пуль, так что ему уже было легче.
Тогда немец быстро вернулся: танковая армия Гудериана отбила Житомир, Радомышль, дошла до самого Ирпеня под Киевом. Но на новый 1944 год (немцы даже ёлку поставили было в нашей хате) красные ударили и уже окончательно заняли наш край. Не говорю освободили, потому что вернулось колхозное крепостничество и снова голод 1946–47. При немцах по крайней мере голода не было.
А голод 1933 года перед тем унёс в Ставках 346 жизней (это треть села). Эту цифру назвал мне в 1977 году Василий Степанович Бацук, по-уличному Галивей (наверное, имелся в виду Галилей, потому что это был очень мудрый и хитрый дядька, Царство ему Небесное). Некоторые теперь сомневаются в этой цифре. Конечно: учёта умерших от голода не вели, а кладбище затоптали, как варвары, дорогу по нему проложили, кресты на дрова растащили, надгробные камни растащили... Одним словом, впали в дикость. Мать рассказывала, как во время коллективизации вывезли из села 50 семей. Не все это были «кулаки». Пришла бумага: выслать 50 семей. Кого? Сельское начальство определило: этот мне в борщ наплевал, этот межу перепахал, а этот не нужен в селе. В 1937 году в одну ночь арестовали 19 человек — бухгалтера, агронома, всех грамотных людей. Ещё в детстве я иногда затаённо слушал, как старшие говорили о коллективизации, как из села выселяли «кулаков», о голоде 1933 года, о войне. Под домами валялись раковины речных моллюсков: это ими люди спасались от голода. Ещё и нас учили, что можно есть лебеду, щавельники, лопухи, козляки, заячий щавель и заячий чеснок, цвет акации...
Церковь была в Ставках на всю округу славная. В 1935 году её разобрали, дерево разворовали (на некоторых колхозных постройках и хатах, помню, долго из-под побелки проступали лики святых). А из оставшегося дерева построили клуб.
А ещё за селом стояла часовня с целебной водой. У меня есть её снимок. Ту часовню сожгли перед Маковеем, храмовым у нас праздником, двое коммунистов: Каламольцев, который работал в санатории, директор школы Товстенко и какой-то Захар из Марьяновки.
Наше село было цивилизованное: здесь в большом и когда-то культурном парке до сих пор стоит дворец польских панов XVIII века, очень изуродованный в XX веке. Его приобрёл в конце XIX в. Пихно, который женился на Ольге Петровне Вангенгейм, голландского происхождения. Та Ольга Петровна в 1895 году построила рядом с дворцом двухэтажную деревянную школу и каменное помещение для учителей на несколько квартир. В них до сих пор работает школа. Отец говорил, что обучение было бесплатное: идя в школу, надо было брать только ложку, потому что там ещё и есть давали. Ольга Петровна умерла в 1909 году, а её племянник, профессор Алексей Федосеевич Вангенгейм, создал Гидрометеослужбу СССР, был заключён на Соловках в 1934 году и расстрелян в Сандармохе 3 ноября 1937 года по списку «украинских буржуазных националистов». (См. о Вангенгеймах отдельную мою статью). А Пихно завёл во дворце агрошколу, которую завещал приёмному сыну Шульгину, депутату Госдумы России. Шульгин в 1917 году так и не приехал принять наследство. Но появился в селе аж в 1961 году, побывав по европейским столицам и во Владимирской тюрьме. Где-то вышли его воспоминания, на которые в работе «Интернационализм или русификация?» ссылается Иван Дзюба: Шульгин радуется, что большевики всё-таки сохранили Российскую империю от распада — под названием СССР. В том дворце до 1934 года действовал агротехникум, а потом был детский санаторий. Несколько лет назад его закрыли, помещение разграбили, теперь оно разрушается.
Ещё в 1924 году несколько большевиков, никого не спрашивая, переименовали Ставки в Ленино — и до сих пор не удаётся вернуть ему старое название. Теперь надо собирать общее собрание большинства граждан, на собрании большинство должно было бы проголосовать «за» смену названия. Да кто их соберёт, эти собрания? Чувствую себя грешным за свой род, потому что к переименованию якобы причастен и материн брат Василий Подсуха — большевик. А может он был укапист-боротьбист, потому что мать, услышав уже при независимости гимн «Ще не вмерла Україна», вспомнила: «Эту песню Василий пел». Он был репрессирован в 1937 году, но, как мы узнали только в начале 1980-х годов от его дочери Наталки Литвиненко из Тюмени, погиб Василий Подсуха не в неволе, а на фронте, под Ленинградом.
Семья наша была большая. У родителей было десятеро детей. Я был девятый, самый младший, потому что сестричка после меня родилась мёртвой. Сейчас нас шестеро: Надежда (Силенко, 1934), Анатолий (1940), Николай (1942), Люба (Коротенко, 1945), Владимир (1946) и я — 8 апреля 1949 года. Самый старший брат Александр, 1931 года, умер в 62 года, Константин в 26, Сергей в 12 лет. Сергея я и не знал. Рассказывали, как отец спасал семью в 1946–47 годах. Перепродавал какие-то вещи, покупал и резал телят и возил в Киев, ездил на заработки в Галичину.
Ні корови, ні свині,
Тільки Сталін на стіні.
Він показує рукою,
Куди їхать за мукою.
О политике в доме не говорили, но кто-то научил меня на вопрос: «Кто твой отец?» вылезать на скамейку и показывать на портрет Сталина. Он был на зелёной картонке настенного календаря. Я не чувствовал идеологических расхождений с собой, когда сидел на заборе и пел: «Серп і молот — смерть і голод». Тогда мать разбила мне губу. Мать била рушником, это было не очень больно. А отец иногда напивался и жестоко бил моих старших братьев. А бывало, что и мать. Те ужасные картины я до сих пор не могу постичь и забыть, хоть христианину полагалось бы всё прощать. Я ровно молюсь за отца и за мать, а Господь пусть там разбирается. Может, это было от отчаяния: отец был очень трудолюбивым человеком. Если бы не «реальный социализм», то из него был бы крепкий хозяин. Хоть семья была большая, но мы и при социализме бедствовали меньше, чем соседи. Днём отец работал конюхом в колхозе, ночами пас тех лошадей и никогда не высыпался. Его обсыпали чирьи от простуды. На него нападал волк на лугу. Когда братья подрастали, он посылал их в ночное, а сам ездил куда-то, торговал чем-то (это называлось страшным словом «спекуляция»). Он приносил что-то с поля в мешке или вязанкой, но нас никогда воровать колхозное не посылал. Я не скажу лучше, чем это сказано в гениальном пассаже Левко Лукьяненко из выступления на Верховной Раде в качестве кандидата на пост её Председателя: «Испокон веков у нас, в той же Хриповке, в которой я родился, не было воров. Один-два человека были, которые иногда воровали где-то кувшин сметаны. Никто ничего не воровал — и вдруг всё население вынуждено было воровать. Это был огромный моральный удар по нашему народу. Так вот, когда мой отец прятался от меня, когда нёс вязку соломы, он не хотел, чтобы я видел, что он берёт чужое, так я уже потом ту вязку брал спокойно. И можно себе представить, как легко наши сыновья уже берут эту вязку». (Газета «Радянська Україна», 31.05. 1990 г.)
Мы не смели сказать кому-то кривое слово или взять чужое, мы не лазили по чужим садам. У нас было несколько яблонь, за которые взимался продналог. Я ещё помню, как по саду с отцом ходил чужой человек, которого называли страшным словом «финагент» (с ударением на «а»), считал деревья и кусты смородины. Заглядывал в хлев, не больше ли там одной коровы и одной свиньи. Видно было, что такой твёрдый с нами отец боится этого «финагента», и тот страх передавался нам. В доме о власти не говорили, но страх перед ней всегда висел. Власть была чужой и враждебной: «они» и «мы».
Как только пали железные путы сталинщины, отец в первый же год (1954-й) насадил сад и завёл пчёл. Их отцу прислали по почте из Синельникова двоюродные братья — это было большое диво на всё село: пчёл прислали по почте! Они покусали отца так, что он совсем опух. А потом кусали — и ничего. А ещё отец насадил смородины, вишен, садовой земляники (у нас говорили просто: ягоды). Вот так каждое моё лето проходило на тех вишнях (они росли огромные, как вербы) и в кустах. А ещё мы с братом Владимиром каждое лето поочерёдно пасли корову. Когда заканчивалась учёба в школе, отец забирал корову из стада, чтобы мы не гуляли. Но гулянка была именно там, где собиралось несколько пастушков. Со временем я брал с собой книги.
Я учился в Ленинской средней школе с 1956 по 1966 год. Имел неплохие успехи, иногда был отличником, закончил школу с серебряной медалью: была четвёрка по химии, потому что на эксперименты Анны Юрьевны Гнидой с пробирками сказал: «Переливание из пустого в порожнее». С малых лет увлекался рисованием, которому научили меня братья Николай и Владимир, потом меня заинтересовало слово: написал несколько тетрадей стихов, из которых можно было бы теперь выбрать несколько неплохих. Первый написал по предложению учительницы Ольги Александровны Иващенко 21 февраля 1962 года, о Лесе Украинке. Последний — в 29 лет в Житомирской тюрьме. А потом, наверное, состарился. Потому что стихи пишут молодые люди или талантливые. Так что это влечение к словесному творчеству, и, может, именно осознание того, что украинское слово в Украине находится в ненормальном положении, и подтолкнуло меня к мыслям, что в этом обществе вообще что-то очень неладно. Я прочитал весь доклад Хрущёва на XXII съезде (тогда спрашивали: «Какой самый длинный анекдот?» — «Доклад Хрущёва на XXII съезде». — «А самый короткий?» — «Коммунизм»). Я знал, кажется, всех украинских писателей, всех президентов и королей (например, король Непала назывался Махендра Бир Бикрам Шах Дева, его королева Ратна Раджья Лакшми Деви Шах), все столицы государств, сколько там населения. Но с подросткового возраста я знал, что мне надо идти на украинскую филологию, и именно в красный Киевский университет. Так мне подсказал старший сосед Василий Сницаренко, который там заочно учился. Он сам писал стихи и научил меня читать «Літературну Україну». С 9-го класса по сей день я выписываю её, хоть она уже не такая интересная, как тогда. Василий был природный правдолюб: будучи комсоргом колхоза, он на районной конференции рассказал, как на полях переставили таблички, потому что у звеньевого механизированного звена Касьяна Лякьянова выросла лучшая кукуруза, чем у депутата Верховного Совета СССР и делегата XXII съезда КПСС, знатной звеньевой, прославленного маяка Анны Саввичны Оладько. (Кстати, она была совсем неграмотная. Вроде бы и на том съезде выступала на украинском языке. Что там было выступать: хвали нашего дорогого Никиту Сергеевича...). После того выступления опубликовали большую критическую статью на Василия в межобластной комсомольской газете «Молодая гвардия». Прославили на весь экономический район — Киевскую, Житомирскую, Черкасскую и Черниговскую области. Боясь, чтобы не посадили, Василий поехал на Донбасс и спрятался в шахту, потому что другого способа вырваться из колхозного крепостничества не было. Через два года вернулся и уже чесал по-русски, но скоро оправился, поступил заочно на украинскую филологию Киевского университета, но никакой общественной активности уже не проявлял. И меня не поощрял.
В школе на меня никто особо не влиял. Я сам много читал. Сельская библиотекарша Раиса Павловна Стефанович пускала меня рыться в книгах не просто так: я участвовал в её мероприятиях, рисовал что-то там для библиотеки. Учителя мои не были какими-то значительными личностями, но были порядочными, нелукавыми людьми. Первая учительница, Анна Амвросиевна Полищук, водила нас в соседнее село Городское показывать городище начала II тысячелетия до н.э. («городская культура»). Учительница украинской литературы Мария Васильевна Сизон и русской — Елена Филипповна Литвинчук давали кое-что из литературы и поощряли стихосложение.
Я ни с кем не дрался, потому что не был физически сильнее среди ребят, но почувствовал себя взрослым где-то с 9-го класса, когда начал активно писать в районную газету «Зоря Полісся». Меня зауважали ровесники и старшие. В районной газете работал тогда (1964–66 гг.) Василий Тимофеевич Скуратовский. Он теперь хорошо известный этнограф, издал несколько очень хороших книг по народоведению. Их, кстати, выдвигали на Шевченковскую премию, жаль, что до сих пор её Скуратовскому не присудили. Я с ним познакомился в литературной студии «Світанок» при редакции. Он кое-что рассказывал мне о движении шестидесятников (тогда ещё оно так не называлось). От Скуратовского я впервые услышал о книге Ивана Дзюбы «Интернационализм или русификация?», что эта книга имеет большую популярность среди интеллигенции. Не знаю, читал ли он сам её.
Окончив школу, я в 1966 году пытался поступить в Киевский университет на украинскую филологию, но эта попытка была неудачной. Если бы сочинение по украинской литературе написал на пятёрку, то, как отличник, не сдавал бы остальные экзамены. Но мне поставили тройку, по истории 5, а за английский — двойку. В том 1966 году школы выпустили вместе 11-й и 10-й классы, а детей послевоенного бума рождаемости было очень много. Из нашей школы вышел 91 выпускник — ни один в том году не поступил в вуз. Я тяжело переживал своё поражение, которое совпало с другой драмой: девочка, за которой я наблюдал с раннего детства, вынесла мне первый приговор: «Не нужна мне твоя любовь».
ШКОЛА ЖУРНАЛИСТИКИ
Полгода я работал в колхозе «Заповіт Ілліча» на разных работах: сушил хмель, грузил на машину и возил картошку в Коростышев, зимой рисовал колхозную агитацию в клубе, понемногу тупел, но водки в рот не брал. Затем в конце 1966 года меня пригласили в городок Народичи литсотрудником в редакцию газеты «Жовтневі зорі» (это теперь в Чернобыльской зоне). Там в 1967 году восстановили район и, соответственно, районную газету, а заместителя редактора Радомышльской районной газеты Дмитрия Фёдоровича Баранчука назначили туда редактором. Он оттуда родом. Вот он и забрал меня в Народичи. Относился ко мне очень доброжелательно, многому научил. Я весь Народичский район за полгода обошёл пешком, потому что машины в редакции не было, так что насмотрелся по сёлам, как люди живут при развитом социализме. Кстати, жил я в Народичах незаконно. Председатель колхоза Миненко не дал справки, что отпускает меня из колхоза. Пошёл я к прокурору Л. Ситенко — не дают. Тогда Баранчук выхлопотал мне паспорт в Народичах. Начальник паспортного стола послушал члена бюро райкома, незаконно выписал паспорт, прописал меня и сказал: «Видел я тебя в белых тапочках».
Б. Захаров: Какие взгляды у вас тогда были и как вы относились к власти, к тому, что происходило вокруг?
В. Овсиенко: Да уж конечно, был я комсомольцем, может, даже искренним. С 14 лет. Даже думал, что в партию когда-нибудь вступлю. Но когда походил по тем убогим полесским хатам, то закрались во мне серьёзные сомнения: что-то не так в нашем обществе. Слишком много лжи. И вроде бы и сам уже заврался... Действительно: вот недавно дотошный мой приятель Вахтанг Кипиани пересмотрел мои заметки в подшивке тех «Жовтневих зір» да и в шутку подтрунивает надо мной, что я в них — искренний комсомолец и даже атеист. Чего же вы хотите: на редактора были возложены обязанности цензора. Один экземпляр газеты обязательно отправлялся областному цензору, а оттуда иногда приходили замечания. Редактор их нам, работникам редакции, «доводил до сведения». Но и сам себя не уберёг: где-то через пару лет написал было статью против пьянства и по памяти процитировал в ней Маркса. Оказалось, что неправильно процитировал коммунистического святого — и такого добросовестного Баранчука не пощадили, уволили с должности редактора. Помню, как он, член бюро райкома партии, унизительно согласовывал по телефону некоторые вопросы с первым секретарём Букшей. Это был такой надменный коммуняка, что уже перерос украинский язык и созрел до «советского человека»: Баранчук должен был подстраиваться под него, говорить с ним «на великом русском языке». Тогда «первые» все были такие «образцово-показательные»: в Радомышльском районе «первой» была некая Фомина: руководила только на русском языке и материла мужиков в поле (сам слышал).
КИЕВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
К счастью, в 1967 году мне удалось поступить на украинскую филологию Киевского университета. Здесь я познакомился со способными молодыми людьми, в студенческом кругу велись критические по отношению к действительности разговоры. Быть украинским филологом, да просто украинцем в Киеве — это означало постоянно находиться в состоянии конфронтации с окружением. «Ты из Западной? Из Закарпатья? Колхозник! А я не понимаю! Да говори ты на человеческом языке!». Впервые едем с однокурсником Иосифом Федасом на вечер в Союз писателей. Вышли из метро, спрашиваем у прохожего «коренного киевлянина», где Союз писателей. «Спелка письменников? Это на Короленко, 33». То есть там, где КГБ.
Кто-то повёл меня в этнографический музей Ивана Гончара на Печерске. Первым из самиздата попал мне в руки дневник Василия Симоненко, со стихами, которые не публиковались. Это та машинопись, которую запустил в мир Иван Светличный. Потом кто-то мне дал прочитать фотокопию машинописи статьи Михаила Брайчевского «Воссоединение или присоединение?». Потом дали мне фотоотпечаток книги заграничного издания «Истории русов» неизвестного автора конца XVIII века. Эти зёрна падали на благодатную почву. Мне открывались глаза на наше прошлое. Да и сама студенческая атмосфера, посещение различных вечеров — это побуждало к размышлениям. А весной 1968 года преподаватель английского языка Слюсаренко Феодосий Маркович решился дать мне фотокопию работы Ивана Дзюбы «Интернационализм или русификация?». Два отпечатка и фотоплёнку. Эта работа произвела на меня решающее впечатление. Я давал её читать нескольким своим друзьям. Разумеется, конспирируя такую работу, потому что было известно, что тот, кто распространяет самиздат, долго в университете не держится. Я был осторожен. Я не появлялся, скажем, у памятника Шевченко 22 мая, потому что знал, что все студенты, которые там бывают, — это кандидаты на исключение. Поскольку мне открылась возможность доставать самиздат, я решил, что надо делать это дело, не очень «засвечиваясь», чтобы как можно дольше протянуть.
Тогда студентов каждую осень посылали на сбор урожая в колхозы и совхозы. А в 1968 году набрали группу ребят на строительство дома на Лыбедской площади (тогда Дзержинского). На август. Я взял с собой в Киев братову старенькую фотоаппаратуру и в квартире сестры Надежды, где жил тот месяц, сделал, кажется, шесть отпечатков работы Ивана Дзюбы. Наверное, в два захода. Было у меня две плёнки: одна на 126 страниц, а вторая на 181. Я уже не помню, какого отпечатка сколько сделал, но это немалый труд. И стоил он целую стипендию, если не больше. Я раздал эти отпечатки своим знакомым, они разошлись. У меня ни одного, к сожалению, не сохранилось: тайники мои почему-то пусты. Так что в 1968 году я уже полностью определился. Я полностью разделял взгляды Ивана Дзюбы и круга шестидесятников.
Можно сказать, что это было критическое отношение к существующей действительности, ведь формально работа Ивана Дзюбы является неокоммунистической, национал-коммунистической. Он критикует так называемую ленинскую национальную политику, руководствуясь тем же учением. Это был, как пишет теперь Георгий Касьянов, «своеобразный манифест большинства критически мыслящей украинской интеллигенции, которая надеялась решить национальные, а следовательно, и социальные проблемы своей родины в рамках существующей системы». (Касьянов Георгий. Несогласные: украинская интеллигенция в движении сопротивления 1960-80-х годов. — Киев, Лыбидь, 1995. С. 97). Я был абсолютно уверен, что круг людей Ивана Дзюбы, Ивана Светличного, Евгения Сверстюка, Вячеслава Чорновила имеет несколько иные взгляды, чем изложенные в этой работе, то есть более критичные к существующему строю. Но, очевидно, такая тактика была выбрана умышленно.
В 1968 году, будучи уже на втором курсе университета, я ближе сошёлся с Василием Семёновичем Лисовым. Он тогда был аспирантом философии, читал нам лекции по логике на первом курсе. До этого он окончил Киевский университет и пять лет преподавал философию в Тернопольском медицинском институте. Я неоднократно с ним беседовал. Он обратил на меня внимание и стал регулярно давать мне самиздат. Как я позже узнал, он был в близких отношениях с Евгением Пронюком. Они были знакомы с Иваном Светличным, с Василием Стусом, с Иваном Дзюбой, с Евгением Сверстюком, Юрием Бадзьо, собственно, со всем кругом шестидесятников. Лисовой избрал правильную тактику, не став меня сводить с этими людьми напрямую, потому что это грозило бы мне исключением, а значит, и самиздат распространять на филологическом факультете было бы некому.
Этот источник самиздата был постоянным. Скажем, с 1970 года через мои руки прошли все номера «Украинского вестника», от первого до пятого. Что касается шестого — это уже отдельная история. Я тогда ещё не знал, кто издаёт этот журнал. Значительно позже стало известно, что его редактировал Вячеслав Чорновил. Была книга Михаила Осадчего «Бельмо» — об аресте и заключении. Это была вещь чрезвычайная по форме и содержанию. Была глубокая аналитическая работа Евгения Сверстюка «Собор в лесах» — по поводу романа Олеся Гончара «Собор». Меньшие статьи Сверстюка «На мамин праздник», «Последняя слеза» — о Шевченко. Большая статья «Иван Котляревский смеётся».
Между прочим, позже Оксана Яковлевна Мешко рассказала мне, как эта последняя вещь была написана. В 1969 году приближался юбилей Ивана Котляревского. Оксана Яковлевна захотела устроить вечер. Ей для этого нужен был сценарий. Она обратилась к Сверстюку. Сверстюк написал эту большую статью. Оксана Яковлевна прочитала и говорит: «Немного не так, как я хотела, но именно то, что надо». Эта статья ходила по рукам, у меня даже был свой собственный экземпляр, я передал через Лисового 5 рублей тем людям, которые напечатали его на машинке.
Одна вещь была подписана Антоном Ковалём — «Письмо избирателя». Это о так называемой социалистической демократии на выборах. Только теперь Василий Лисовой признаётся, что он является её автором. Тогда он этого не говорил. Была в моих руках статья «По поводу процесса над Погружальским» (без автора, но теперь известно, что её написал Сверстюк, а редактировал, чтобы нельзя было узнать стиль автора, В. Чорновил). Читал я «Что и как отстаивает Б. Стенчук, или 66 ответов интернационалисту» Вячеслава Чорновила. Известно, что в ответ на работу Ивана Дзюбы «Интернационализм или русификация?» ЦК КПУ скомпоновал брошюру под названием «Что и как защищает Иван Дзюба?», чтобы распространить её за границей. Но этот ответ был такой неуклюжий, что его постыдились издавать большим тиражом, распространили только среди своих цэковских «товарищей», секретарей обкомов. Кроме того, «стенчук» на английском означает «смрад»... Была у меня в руках целая машинописная книга В. Чорновила с наклеенными фотографиями «Горе от ума, или Портреты двадцати „преступников“». Это об арестованных в 1965 году шестидесятниках.
В студенческие годы я вычитал в статье Михаила Драгоманова «Ответ» (1895 год) такое:
«Лишь тогда, когда мы покажем свою силу хотя бы на части своей земли, обратит на нас внимание и Европа. Наивно ждать, чтобы масса людей, даже самых гуманных, беспокоилась о других только потому, что их бьют. Мало ли кого бьют на земном шаре?! Люди интересуются обычно лишь теми, кто отбивается — и таким лишь обычно и помогают». (Литературно-публицистические работы в двух томах. Том второй, К.: Наукова думка. — 1970. — с. 441).
Я захотел примкнуть к тем, кто отбивался. В моё время это были шестидесятники. На шестидесятников я тогда смотрел снизу вверх. Как, кстати, и теперь не стесняюсь на них смотреть. Моя причастность к шестидесятничеству справедливо измерена одной строкой на с. 94 очень добросовестной книги доктора Георгия Касьянова «Несогласные: украинская интеллигенция в движении сопротивления 1960-80-х годов. — К.: Лыбидь, 1995: «...самиздатовские статьи среди студентов распространял В. Овсиенко». Только я знаю, что стоит за этой одной строкой, но поскольку гордость, гордыня, согласно Катехизису, есть грех, то я позволяю себе разве что тихо радоваться этому упоминанию. Потому что почти все свои студенческие годы я носил в портфеле украинский самиздат, написанный шестидесятниками, давал его читать своим друзьям и знакомым, хорошо зная, что плата за это чётко определена Уголовным кодексом: 7 лет заключения и 5 лет ссылки.
Одно дело идти в бой в составе полка, целой армии («На миру и смерть красна») — а совсем другое (не говорю, что тяжелее, а что психологически совсем другое дело!) высовываться одному из миллиона — против целой Империи Зла. Я не люблю никакого пафоса, особенно «фальшивого патоса», но, положа руку на сердце, можно сказать: надо же было иметь за душой «искру огня великого» (Т. Шевченко). Всегда было достаточно тех, кто гасил эти искры, кто и выражение А. Пушкина «Мой друг, отчизне посвятим Души прекрасные порывы!» понимал так, что прекрасные порывы надо душить. Душителей всегда хватало.
Эти «искры огня великого», «души прекрасные порывы» — они всегда тлели в народе, большие или меньшие. Иногда возникали восстания, национально-освободительные войны. Моё время — когда нация была истощена войнами, восстаниями, репрессиями. В такое время надо было выстоять, окончательно не сдаться на милость врага. И формировать новое поколение, которое способно было бы взять на себя ответственность за судьбу нации. Ситуацию моего времени точно очертил Василий Стус: «Мало нас. Дрібнесенька щопта. Лише для молитов і всечекання». Но важно, что та «дрібнесенька щопта» была, чтобы ниточка сопротивления не оборвалась на нашем поколении. Чтобы мы не были худшим поколением. Чтобы мы не посрамили казацкого рода.
Каждый раз, получив какую-нибудь статью, я пытался прочитать её как можно быстрее и дать прочитать как можно большему числу своих друзей. Я относился к этому делу очень ответственно, чтобы не «завалить» ни себя, ни Василия Лисового или других людей, которые давали мне самиздат. Тут было твёрдое самосознание: если попадёшься, то не скажешь, где ты его взял. Или по крайней мере придумаешь версию, что это тебе досталось случайно. Я к своим приятелям относился очень серьёзно и выбирал только тех, кто ведёт себя порядочно в быту, кто порядочен в мелком. Такой, очевидно, не предаст тебя и в чём-то большем. Наверное, я имел какое-то чутьё на людей, потому что никто меня не «сдал» на протяжении пяти лет.
Я догадывался, что Василий Лисовой является одним из организаторов печати самиздата, но никогда об этом не расспрашивал. Было, что Лисовой просил меня передать что-то не известным мне людям. Узнавал я их по условленным признакам. Перевозил какую-то печатную машинку и оставил её на вокзале в камере хранения. До сих пор помню код: К507. Что-то завозил в Кагарлык врачу Николаю Зеленчуку. Перевозил в Киеве с квартиры на квартиру какие-то валики. Очевидно, это были детали печатной машины. Но типографского самиздата мне не попадалось, только машинописный и в фотокопиях. Но у меня в руках были заграничные издания: «Собор в лесах» Евгения Сверстюка, «Современная литература в УССР» Ивана Кошеливца, II том «Возрождения нации» Владимира Винниченко, «Вывод прав Украины» — статьи Костомарова, Грушевского, Франко и других. Мне вещь давалась на определённое время. Каждый раз я старался охватить как можно больше людей. Давал не каждому сам, а цепочкой. Было, что запущенную мной вещь доверчиво давали и мне прочитать. Я не выдавал себя. Настоящее подполье. Как-то Юрко Скачок, мой друг из Донбасса (но с русского отделения), спросил, а есть ли какая-то подпольная организация. Я уверенно отвечал, что нет. Есть круг близких между собой людей, которые доверяют друг другу. «Так это так по блату и революцию можно сделать?» — остроумно заметил Юрко.
Распространять самиздат я начал с дневника Василия Симоненко, ещё где-то в конце 1967 года, а с 1968 года — это уже вовсю, начиная с работы Ивана Дзюбы. Давал читать буквально десяткам людей. Конечно, практически все студенты, как и я, были комсомольцы, а некоторые даже члены КПСС. Были и намного старше меня люди, и преподаватели. У себя на родине я давал его работникам районной газеты Анатолию Борисовичу Пилипенко и Марии Гордиенко, родственникам. Распространение самиздата я ставил среди своих дел на первое место. В моём портфеле всегда что-то было, и это знал мой ближайший друг Иосиф Федас (родом с Ровенщины). Мы были в одной группе и года три жили в одной комнате. Когда я выходил из аудитории, Иосиф держал мой портфель в поле зрения, чтобы в него случайно кто-нибудь не заглянул. На IV–V курсах мы жили в 60-й комнате. Это Иосиф, Юрко, Иван Бондаренко с Полтавщины, первокурсник Михаил Якубовский с Житомирщины. Это уже был проверенный круг. Остряк Юрко взял напрокат печатную машинку и основал комнатную газету «Satur venter» («Пустой живот» по-латыни), потом «Futurum secundum» («Будущее предпрошедшее время»). Немного и я был к этому причастен: мы писали коллективный роман об Иване Бондаренко. Иван подходил как прообраз: с ним случалось множество забавных историй. Он старше нас лет на 6. Шесть раз поступал в КГУ, и таки поступил. Он был горбатый: в раннем детстве у него была какая-то болезнь, а у матери-вдовы не было денег на лечение. «Приходили сборщики налогов, так мать бросила меня им под ноги: „Нате, съешьте его!“ А я ползаю по полу и реву...» — рассказывал Иван. Он без моего разрешения дал первокурснику Михаилу Якубовскому работу Ивана Дзюбы «Интернационализм или русификация?» — и это имело для парня тяжёлые последствия. Но об этом чуть позже.
Был у 60-й комнаты гимн, текст которого написал поэт-романтик начала XIX века Константин Думитрашко. У гимна было две мелодии — легальная и нелегальная. Легальная — «Мы кузнецы, и дух наш молод, куём мы счастия ключи...», нелегальная мелодия — «Интернационала»:
Як прийде ніч, сушу онучі,
Зарившись на печі в пашню,
Або курю тютюн смердючий,
Або залатую матню.
За время моей учёбы нескольких коллег исключили за малейшие прикосновения к самиздату. Одним из первых «вылетел» Николай Рачук — вслед за Николаем Воробьёвым. Славу Чернилевского «выжили» через военную кафедру. Надю Кирьян исключили. Гале Паламарчук устроили судилище в виде комсомольского собрания — мы с трудом её отстояли. Мы тяжело переживали историю с «Собором» Олеся Гончара, гибель Аллы Горской, заключение Валентина Мороза.
ОБВАЛ (ПОКОС)
14 января 1972 года мой однокурсник Валентин Лисица (родом из Борисполя) позвал меня в комнату своей девушки Гали и сказал, что в Киеве уже третий день идут аресты и обыски. Что арестованы Иван Светличный, Вячеслав Чорновил, Евгений Сверстюк, Василий Стус, во Львове — Стефания Шабатура, Ирина и Игорь Калынцы и ещё многие другие.
– Так что ж это получается... — отчаянно проговорил я.
А завтра, 15 января, газета «Радянська Україна» коротенько сообщила об аресте гражданина Бельгии Ярослава Добоша за проведение подрывной антисоветской деятельности.
Валентин знал, кому это говорит. Он видел моё общение с Лисовым и догадывался, что за этим стоит. Самиздата я ему не давал, потому что из разговоров с ним можно было понять, что у него и самого есть какой-то источник. Кроме того, Валентин Лисица был на несколько лет старше нас и единственный на курсе член партии, хотя по мировоззрению национал-коммунист. Лисовой мне советовал не раскрываться перед ним. Его разговоры порой казались подозрительными. Названные же им имена были хорошо мне известны как из прессы, так и из самиздата, я читал некоторые произведения этих людей, в частности, в «Украинском вестнике». Они были на устах нашего круга — как имена каких-то почти небожителей. И вот они за чёрным горизонтом... Эта весть меня очень тяжело поразила.
Поскольку в этом интервью речь идёт о становлении меня как личности, то опять же должен сказать, что это драматическое общественное событие совпало с моей личной драмой: вторая девушка, которая неожиданно явилась мне на четвёртом курсе, тоже проигнорировала меня. Это банальная в этом несовершенном мире история, и её не годится выносить на люди, но без этого момента трудно будет объяснить моё дальнейшее поведение. Ведь я на протяжении дальнейшего заключения имел не связанные руки, но и был лишён «тыла». Скажем, когда Василия Стуса исключили из аспирантуры, кто-то спросил его: «Что же ты теперь будешь делать?» — «Прежде всего женюсь». Так же поступил и Василий Лисовой, ожидая ареста. Но Валентина Попелюх и Вера Гриценко знали, на что шли. Быть женой политзаключённого тяжелее, чем политзаключённым. Так что мне остаётся радоваться, как Тарасу, который, увидев во дворе Петропавловской крепости мать Николая Костомарова (а Костомаров был арестован, только обручившись!), написал:
Молюся, Господи, молюсь!
Хвалить Тебе не перестану,
Що я ні з ким не розділю
Мою тюрму, мої кайдани.
В моей драме, безусловно, главную роль играл личностный момент. Что тут особенного: мне тоже некоторые девушки не нравились, и я их избегал, так и я кому-то не пригодился. Надо это пережить и надеяться на другую. Но этой девушке я давал читать самиздат и не скрывал, какой может быть моя перспектива. Она видела, что я немного не от мира сего, что в моём поведении преобладают не личностные, а гражданские мотивы. Она же, говоря словами Лины Костенко, ходила ногами по земле, так что, наверное, решила, что с таким лучше всерьёз не связываться. Тем более что за мной не было никаких материальных активов, кроме будущего диплома и голого энтузиазма: жил я, можно сказать, впроголодь. Как это у Довженко отец говорил, чтобы не называть себя бедным? «Мои достатки мне не позволяют». Мои достатки тоже мне мало что позволяли.
Мы ещё вместе прошли в сентябре и октябре педагогическую практику в селе Львово на Херсонщине, под Бериславом, хотя очевидным было, что «всё это — одно прощанье чрезмерное», как написал позже Василий Стус. Я был уверен, что отныне буду жить лишь половиной своего естества, что моя судьба уже сломалась, и притом окончательно. Что это самая большая в моей жизни потеря. Отныне передо мной оставался один путь: это дело (слово «борьба» я не люблю к себе применять: я просто стараюсь каждый раз поступать так, как велит совесть).
До педагогической практики осенью 1971 года я побаивался школы, а тут почувствовал, что мог бы быть хорошим учителем. В нормальном обществе я должен был бы учить детей Слову. То есть родному языку, которым передаётся потомкам опыт и которым оформляется мировосприятие. Который формирует сознание. И это очень важное дело: быть добросовестным учителем-просветителем и воспитывать следующее поколение украинцев. Потому что советская действительность убедила меня, что вместе со Словом Украина теряет почву под ногами. Я увидел, что человеческая масса, оторванная от родного языка, лишается национального самосознания и дрейфует в историческое небытие. А моя профессия украиниста в Украине оказывается неперспективной, ненужной, более того, нежелательной и даже опасной для власти, потому что она становилась на пути провозглашённой «исторической необходимости» превращения украинского народа в составную часть «новой исторической общности» — «советского народа», которая должна была говорить на «языке интернационального единения» — русском. Это было драматическое открытие. Значит, надо защищаться.
В такие критические моменты Господь подаёт знаки: где-то в декабре 1971 года мне приснился пророческий сон. Иду с матерью по Бессарабской площади в Киеве. Она вся залита водой по вторые окна и замёрзла. Вдруг лёд подо мной трещит. Я отталкиваю от себя мать, а сам проваливаюсь...
Где-то в те дни я встал однажды вечером за штору у окна в коридоре общежития и записал слова, которые невесть откуда пришли:
Уже на білім румовищі світу
Не бути дню, білішому за цей.
Вже й сам Перун, вдоволений і ситий,
Сидить, не годен розіплющити очей.
Цей жирний день, неначе гуска, ґелґа.
(Де він, той мент, що відділя від нього ніч?).
Сім кольорів – розміняна веселка
(Зі світла білого утворена, сиріч).
Сім кольорів на білім покривалі
Твоєї цноти й недоторкности твоєї,
І вже натурі зібраній і сталій
Не осягнути білизни лілеї.
…Як біла білизна на білім тлі біліла,
Біліла і боліла білим болем,
Як біла птаха з вуст твоїх злетіла
І під барיєром болю впала кволо,
І ти сміялась білозубо-любо,
І сміх твій білий був, неначе блискавиця, –
То я конав, знайшовши свою згубу, –
Як больовий барיєр здолала біла птиця…
Всё это называлось «Синтез радуги. Цвет белый». Конечно же, это юношеский максимализм, который при необходимости можно было подвести под диагноз советской карательной психиатрии. Я тогда ещё об этом не догадывался.
Иосиф и Юрко видели, что я слишком переживаю свою драму, пробовали меня убедить, что «клин клином вышибают», но это на меня мало влияло, хотя интерес к науке не пропал, а, казалось, я стал ещё ожесточённее. Тогда мои друзья охладели ко мне. Деревянным голосом я сообщил им об арестах и сказал, что они могут зацепить и нас. А Иосиф уже кандидат в члены КПСС. Волыняку, отец которого подписал заявление в колхоз, только когда ему зажали пальцы дверью, решиться на вступление в КПСС было нелегко, но очень уж хотелось в аспирантуру, ведь у него был талант к фольклористической науке. По этому поводу я сказал Иосифу почти ленинскими словами: «Если события будут развиваться дальше в этом направлении, то мы с тобой окажемся по разные стороны баррикад». Конечно, такие откровения не укрепляют дружбу. Но тем временем сдаём зимнюю сессию, пишем дипломные работы, устраиваем последний звонок, проводим заседание Литературной студии имени Василия Чумака, где Юрко Скачок председательствует, а я редактирую газету «Вир».
11 февраля в газетах «Радянська Україна», «Правда Украины» и «Вечірній Київ» было опубликовано коротенькое сообщение, что (помню почти дословно) «в связи с делом Добоша, а также за проведение на Украине антисоветской агитации и пропаганды, арестованы И. Светличный, Е. Сверстюк, В. Чорновил (было написано: «Черновол») и др.». За «и др.» стояли десятки людей, сотни обысков, тысячи вызовов в КГБ. Где-то в феврале или марте 1972 года Валентин Лисица сказал мне, что нашу однокурсницу Анну Коцур, лемкиню из Словакии, тоже вызывали в КГБ и допрашивали об арестованных, в частности, о Ярославе Добоше. Сказал, что она под Новый год ездила в Прагу и там встречалась с Добошем. Действительно, она не появлялась на лекциях, не сдавала сессию. Был слух, что её задержал КГБ, что её держали под арестом несколько дней или даже недель, потом выпустили. Помню, как она приходила в университет, плакала, что её исключают. Потом скрывалась в чехословацком консульстве. Странно, как можно было скрываться в чехословацком консульстве в Киеве? Но она действительно несколько дней там сидела. В конце концов её выслали в Чехословакию. Вызывали и Марию Гостову (она писала и произносила своё имя через «ы»), её коллегу из Лемковщины. Мария плача рассказывала об этом нам и клялась-божилась, что она совсем ни при чём.
Позже, перед своим судом, знакомясь с материалами дела, я читал показания Ярослава Добоша и пришёл к мысли, что это, видимо, был человек случайный. Я не уверен, был ли он завербован КГБ, или по своей наивности интересовался украинскими делами, или действительно как член СУМ (Союза Украинской Молодёжи) имел какое-то задание от Омеляна Коваля — руководителя ЗЧ (Закордонных Частин) ОУН. Бог его знает. Но КГБ использовал его довольно удачно. Добош рассказал, что знал и чего не знал. Что по телефону в Киеве позвонил Светличному, встречался с ним, разговаривал о преследованиях украинской интеллигенции, но, как заметил Иван Светличный, ничего нового он не сказал и вообще производил впечатление мало осведомлённого в украинских делах. Что встречался с Александром Селезненко и Зиновией Франко в Киеве, а во Львове со Стефанией Гулык. Что Зиновия Франко через Анну Коцур дала ему фотоплёнку со «Словарём украинских рифм» Святослава Караванского. 2 июня Добош выступил с покаянным заявлением перед тщательно подобранными журналистами и по телевидению. Я не видел той телепередачи, но то его заявление (не полностью!) было опубликовано в прессе, в частности, в «Літературній Україні» 6 июня. Поскольку «Словарь украинских рифм» обывателю трудно связать со шпионажем в пользу ЗЧ ОУН, то его в газетном тексте замаскировали под таинственный «один антисоветский документ».
Добоша отпустили домой в Бельгию, но «дело Добоша» осталось. Никому из арестованных никакого шпионажа не инкриминировали — это отпало само собой. Осталась только «антисоветская агитация и пропаганда». Но названные газеты до сих пор за клевету не извинились.
Ситуация начала 1972 года частично описана в моей книге «Свет людей», в очерке о Василии Стусе. Я сейчас не расскажу так, как там написал, но было такое ощущение, что что-то оборвалось, обвалилось, что ты остался на свете один-одинёшенек, что весь Киев опустел. На воле из близких мне людей остался разве что Василий Лисовой. Он ходил аж чёрный. Где-то в феврале 1972 года он сказал мне, что собирается написать открытое письмо в защиту арестованных. Мотивировал это так: нельзя, чтобы все промолчали. Кто-то должен запротестовать. Пусть они себе не думают, что полностью «вычистили» Украину.
Позже, на наших судах, прокурор Макаренко издевался: «Это были великие вожди малого движения». Знаете, он был прав: движение действительно было небольшое, но «вожди» — это действительно были личности. Эти люди способны были развернуть большую национально-освободительную борьбу. Для этого им нужно было немного времени, несколько лет. Так что, с точки зрения КГБ, удар был нанесён очень вовремя. Евгений Сверстюк как-то сказал, что это не была ни организация, ни какая-то партия, ни подполье, но когда вместе сходится так много таких славных людей, то что-то из этого будет. Действительно, в Украине должно было возникнуть что-то значительное. Это понимали и в КГБ, и удар нанесли очень вовремя. Правда, они думали, что будут иметь покой с украинским движением лет на 10–15, но они ошиблись. Уже в 1976 году появилась Украинская Хельсинкская группа, совсем для них неожиданно.
Помню, ещё где-то в 1969 году Василий Лисовой сказал мне, что в условиях колониализма любая деятельность может быть использована против нас. Вот, говорит, например, ты будешь филологом, досконально опишешь фонему, а специалист по радиотехнике воспользуется твоим исследованием и сделает совершенный аппарат для подслушивания. Таким образом, ты будешь работать против самого себя. Или вот, скажем, Сергей Королёв, украинец родом, сделал ракету. Против кого она используется? Против нас — в пользу империи. А ещё говорил, что пока народ не решил свой национальный вопрос, все его лучшие силы будет отвлекать это дело.
Василий Лисовой был для меня живым примером национально сознательного человека. Казалось бы, не ему, кабинетном учёному, браться за политические дела. Но он за них берётся, потому что больше некому. Весной 1972-го Лисовой сказал мне: «Конечно, мы могли бы вдвоём с тобой устроить демонстрацию протеста против арестов. Она продлится одну или две минуты. Будет ли это эффективно? Кто увидит? Кто поддержит? Вот 5 ноября 1968 года на Крещатике сжёг себя Василий Макух — об этом почти никто не знает. Очевидно, что надо распространять какие-то тексты, которые имели бы определённое влияние на общественное мнение».
Взялся он это письмо писать, давал мне на хранение первый вариант. Некоторое время я хранил его у себя, потом он был у моего приятеля Петра Ромка, который жил в селе Скибин Жашковского района на Черкасщине. Так вот, Пётр без моего ведома и разрешения переписал это письмо. Эта рукопись у Петра и осталась, а оригинал я вернул Лисовому. Он его дорабатывал. Как мне теперь известно, помогали ему Юрий Бадзьо и Евгений Пронюк (прочитали и сделали некоторые замечания, которые Лисовой учёл). Он и меня просил сделать замечания, но я заметил разве что-то стилистическое.
У Лисового был список значительных личностей в области литературы, науки, культуры, а также политики — людей, которые имеют более-менее либеральные и демократические взгляды. Мы должны были это письмо размножить и разослать им.
В самом конце письма чёрным по белому было написано:
«Учитывая условия, в которых подаётся это письмо, мне трудно верить в конструктивную реакцию на него. Хотя я не выступаю ни в роли ответственного, ни в роли свидетеля, ни в роли каким-либо образом причастного к тому делу, которое ныне именуется «делом Добоша», после подачи этого письма я бесспорно окажусь в числе «врагов». Наверное, это и правильно, потому что Добош освобождён, а «дело Добоша» — это уже просто дело, обращённое против живого украинского народа и живой украинской культуры. Такое «дело» действительно объединяет всех арестованных. Но я считаю себя тоже причастным к такому делу — вот почему прошу меня также арестовать и судить». (Василий Лисовой. Открытое письмо членам ЦК КПСС и ЦК КП Украины, «Зона», 1984 г., ч. 8, с. 148).
На следующий день его «просьба» была удовлетворена.
Я помогал Василию Лисовому изготовить это письмо.
Тогда же, в феврале 1972 года, Василий Лисовой и Евгений Пронюк, который тоже работал в Институте философии, решили сделать шестой номер «Украинского вестника». Потому что на пятом номере его издание прервалось. Издатели остановили его в середине 1971 года, потому что пошли слухи о том, что вот-вот будут аресты, будто бы сам председатель КГБ УССР Никитченко имел беседу с Иваном Светличным и сказал: «Пока вы не были организованы, мы вас терпели. Затем, когда у вас появился журнал, мы вас терпеть не будем». Поэтому издание «Украинского вестника» летом Вячеслав Чорновил остановил, но было уже поздно. Мы теперь знаем, что 27 июня 1971 года ЦК КПСС принял тайное постановление «О мерах по противодействию нелегальному распространению антисоветских и других политически вредных материалов», а 30 декабря Политбюро ЦК КПСС постановило начать всесоюзную кампанию против самиздата. (Касьянов Георгий. Несогласные: украинская интеллигенция в движении сопротивления 1960–80-х годов. — Киев, Лыбидь, 1995. С. 119, 121).
Так что когда издатели журнала арестованы, то, конечно, теперь их и обвиняют в издании. Журнал — это признак организации. Шестидесятники очень старались избежать обвинений в создании какой-либо организации. Значит, надо отвести от них обвинение в издании журнала.
Поэтому Василий Лисовой и Евгений Пронюк составили тексты об арестованных — небольшие биографические справки. Был у них текст письма Бориса Ковгара (тогда работника «Музея под открытым небом» в Пирогове) майору КГБ Даниленко. Это было убийственное для КГБ письмо! Борис Ковгар там рассказывает, как КГБ засылало его в качестве шпиона в среду шестидесятников. Но когда он увидел, с какими людьми общается, то фактически перешёл на их сторону. Поэтому кагэбисты ему тяжело отомстили за предательство их доверия. Несколько раз вызывали на допросы, а потом упрятали в психушку и закололи галоперидолом.
Я выполнял технические операции — купить бумагу, отвезти её к машинистке, разложить напечатанный текст. Я отчётливо помню свои чувства, когда получил из рук Ивана Гайдука в парке Шевченко, за спиной Тараса, те девять или десять экземпляров шестого номера «Украинского вестника» (кажется, он почему-то был назван 9-м). Я тогда остро почувствовал, что вот это в моих руках сейчас самое важное, что есть в Украине. Это было в марте или апреле 1972 года.
Тем временем продолжается забота с письмом Лисового. Текст письма я отвёз к машинистке Рае (Сидоренко) в Немешаево. Это железнодорожная станция электрички в тетеревском направлении. Завёз я к ней также бумагу, копировальную бумагу. Она должна была напечатать письмо к 6 июля. Тем временем я уже заканчиваю университет, должен 2 июля выбраться из общежития. Говорю Лисовому: «Может, я поеду домой на Житомирщину, а 6 июля приеду в Немешаево, заберу оттиски в село, разложу их, вложу в конверты, подпишу адреса, привезу в Киев и разошлю?». Но Лисовой сказал мне: «Не надо. Езжай себе домой, ты своё дело сделал, а мы уж сами».
Как мне позже стало известно из материалов дела, Василий Лисовой поступил вот как. Ещё до печати тиража, 5 июля, один экземпляр своей машинописи (напечатал одну закладку сам) он подал в экспедицию ЦК КПУ. Это то здание, где теперь сидит господин Президент. А второй подал директору Института философии, где работал (ул. Грушевского, 4). Почему он это сделал? Он видел, что за ним уже ходят, что он просто может не успеть подать письмо официально. А ему было важно именно подать его.
Вот тут и вкралась ошибка. Поехал 6 июля в Немешаево забирать письмо Евгений Пронюк. А за ним давно ходили по пятам. В дороге, на станции Святошин, его задержали с кипой бумаги — там было семьдесят экземпляров письма, напечатанного на тоненькой бумаге, ещё не разложенного. Завели его в «ленинскую комнату» завода «Большевик», обыскали, составили протокол и арестовали.
А Василия Лисового шестого же июля вызвали на работу. Он поехал. А уже вернулся домой с кагэбистами. Делают обыск. Всё. Вера Павловна Гриценко-Лисовая, его жена, была на последних днях беременности. Она родила сына Оксена 22 июля. Представьте себе, в каком она была положении. Первой её дочери, Мирославе, лет 9.
Меня в те дни телеграммой из деканата филологического факультета позвали в Киев, якобы чтобы я подавал документы в аспирантуру. Хотя я знал, что не имею права на аспирантуру: мне поставили «тройку» на государственном экзамене по «научному коммунизму». Наверное, догадывались, что я ненадёжный, так чтобы я не претендовал на аспирантуру кафедры украинского языка — мне поставили «тройку». А с «тройкой» нельзя поступать в аспирантуру, разве что набрав два года рабочего стажа. А тут меня вызывает декан Михаил Грицай. Это же явно для того, чтобы я к кому-то пошёл, а они чтобы увидели, куда я пойду. Приехал я в Киев 7 июля. Кроме деканата и сестры, пошёл я только к одной женщине, Людмиле Стогноте, на улице Шолом-Алейхема. Так мне заранее посоветовал Лисовой: она была немного в стороне от этих дел. Она-то мне и рассказала, что Лисового и Пронюка вчера арестовали, и сказала, что ни к кому больше не надо ходить.
Декан Михаил Грицай послал меня на место назначения, где я должен был работать — в Переяслав-Хмельницкий район, село Ташань, не будут ли там возражать, чтобы я поступал в аспирантуру. Да как они могут возражать? Однако я поехал в Переяслав. В районо удивились моему вопросу, не возражали против поступления. Сказали, что директор Ташанской школы Коломиец Родион Васильевич живёт в Переяславе. Пошёл я к нему. А там жена директора школы встретила меня со слезами: «Ой, да это же вас КГБ разыскивает!». Это было, наверное, 8 июля. Только позавчера арестовали Лисового, а в Переяславе знают, что и меня разыскивает КГБ... Странная вещь: я же не скрываюсь. Думаю себе: на всякий случай дай-ка я хоть немного перед арестом отдохну. И из Переяслава поехал на «ракете» не домой, а на Черкасщину, к тёще брата. Даже встретились с братом Анатолием на той «ракете». Просидел я там несколько дней. КГБ действительно не знало, где я. Возвращаюсь на Житомирщину, осторожно прихожу домой, спрашиваю сестру Любу, не спрашивал ли меня кто-нибудь. Никто меня не ищет.
Но по дороге домой я заехал к Петру Ромко в село Скибин Жашковского района. Узнав, что Пётр самовольно, без моего разрешения, переписал письмо Василия Лисового, я решил, что письмо надо спасать. Мы вдвоём ночью переписываем его, а дома я переписываю начисто под копирку, Петрову часть рукописи уничтожаю. Один экземпляр дал Екатерине Высоцкой в Киеве, один Ивану Гайдуку в Борисполе, чтобы просто сохранили. Размножать на печатной машинке и распространять — я уже не знал, к кому обращаться.
Настала середина августа. Поехал я работать учителем в село Ташань. Этот период был для меня довольно тяжёл. Первый год в школе каждому молодому учителю тяжёл, а тут это постоянное ожидание ареста...
Об этом периоде я по просьбе моего бывшего школьника Николая Левченко в 1996 году написал целый отдельный очерк.
Николай Левченко, из соседнего села Шевченково, был в 1972–73 учебном году учеником выпускного 10-го класса Ташанской школы. Я в 10-х классах преподавал украинскую литературу месяца полтора, когда их учительница Анна Саввична Гальчук была на курсах. Николай был со всех сторон талантливым учеником. Незадолго до моего ареста я дал ему прочитать роман «Собор» Олеся Гончара в журнале «Вітчизна», № 1 1968 года, и сборник стихов Ивана Драча «Балади буднів» (1967 г.). Так они у него и остались. Николай лишь несколько лет назад разыскал меня и вернул эти издания. Теперь мы с Николаем приятели: чуть ли не каждого 5 марта на его машине ездим в Ташанскую школу и Переяславский педуниверситет, проводим уроки и лекции о Василии Стусе и о правозащитном движении.
20-Я ГОДОВЩИНА СМЕРТИ ВЕЛИКОГО ДЕСПОТА
Вся зима 1972–73 года на Переяславщине была бесснежная, но под конец немного припорошило. Так что хоть в понедельник утром 5 марта после вчерашних странствий в Киев вставалось неохотно, но снежок подбадривал. По дороге в школу думалось: надо было спрятать в погребок рукопись, над которой сидел допоздна. Поленился. Да неужели именно сегодня и придут? А, Бог с ним, вечером всё равно доставать — чего след оставлять к тайнику.
Снежок поскрипывал, и хорошо думалось о вчерашних приключениях. Почему это меня, учителя, вот так посреди учебного года надумали брать на месячную военную переподготовку, а директор не отстаивает меня? Кто же будет вести мои уроки? Как-то странно: в военкомате на днях сказали, что меня возьмут в Киев. Если так, рассудил я, то надо заранее отвезти свои рукописи в Киев, чтобы потом дать их кому-нибудь надёжному или при случае отвезти оттуда к родителям на Житомирщину: только там можно надёжно спрятать. Поэтому поспешил начисто переписать статью «Добош и опришки, или Конец шестидесятничества» и отвёз вот вчера сестре Надежде, спрятал под ящиком в столе, где до сих пор хранятся мои книги. Сестра и не знает об этом.
Тревожило одно: когда в субботу на автостанции в Переяславе брал билет в кассе, то мне достался последний. А тот пожилой мужчина, что стоял в очереди за мной (в добротном тулупе), на хорошем русском языке интересовался, куда я еду, не в Киев ли? Может, ему удастся достать билеты, если не возьму сам. А потом он оказался посреди автобуса. Ещё и оглянулся, когда тронулись, улыбнулся мне, как знакомому. От автостанции «Дарница» в Киеве тоже ехали трамваем вместе (тогда ещё не было станций метро «Черниговская» и «Лесная»). Слишком уж приметный у него, почти белый, тулуп. Да и зачем он заговаривал со мной? На всякий случай, я почти механически, по привычке, приобретённой ещё в студенческие времена, стал у самых дверей и, будто в последний момент что-то вспомнив, выскочил на какой-то станции метро в последний момент, когда уже прозвучало: «Осторожно, двери закрываются». Он стоял у следующих дверей того же вагона. Я ещё успел увидеть его удивлённые глаза за дверями тронувшегося поезда. Хотелось задиристо помахать ему рукой, но сдержался: чего зря собак дразнить. Пусть думает, что это произошло случайно.
Подамся в университет, может, на филологическом факультете увижу кого-нибудь знакомого. В жёлтом корпусе, что на бульваре Тараса Шевченко, встретил Лесю Шевченко (Лесе самиздата я не давал). Оказывается, она сейчас устраивается в аспирантуру на кафедру стилистики, к Алле Петровне Коваль. А меня на кафедру украинского языка не допустили, хотя заведующий профессор Илья Корнеевич Кучеренко хотел взять именно меня. Он был едва ли не единственный беспартийный завкафедрой на весь университет. Мне влепили тройку на государственном экзамене по научному коммунизму, чтобы не совался в аспирантуру по крайней мере ближайшие два года, пока стажа не заработаю. А на это место приняли Ярослава, сына Михаила Стельмаха, хотя он учился не у нас, а в Институте иностранных языков. Где уж мне, крестьянскому сыну, бороться со Стельмахами... Для надёжности рецензенткой моей дипломной работы назначили Ларису Кадомцеву, которая как раз Стельмаху покровительствовала. Лариса Ивановна чувствовала себя передо мной неловко: «Конечно, ваша работа будет оценена на „отлично“, но без отличия, потому что у вас тройка по научному коммунизму. Как это вы так...». А так, что это мои насмешки над научным коммунизмом боком вылезли. Или КГБ уже что-то знало. Например, ещё когда мы были на втором курсе, в коридоре подошёл к нам, группе парней, парторг филологического факультета Мусиенко:
– Пора, ребята, думать о вступлении в партию.
– В какую? – по-дурацки спросил я.
Больше ко мне с такими предложениями не подходили.
Ладно, надо ехать в общежитие, на улицу Ломоносова. В ноябре я передал там Виктору Положию через Фаину Форкун мою рукопись «Открытого письма членам ЦК КПУ и депутатам Верховного Совета» арестованного 6 июля 1972 года Василия Лисового. Надо спросить, всё ли в порядке. Но Виктора снова нет.
– Не надо было давать письмо Виктору. Ему не до того, у него свои проблемы, – сказала Фаина.
– А что это Иван Семьянив так шпарит в коридоре «по-общему»? «Дабы всем было понятно»? – в стиле Прони Прокоповны спросил я Фаину, которая любила когда-то со мной так дразниться, зная мою ревность к чистоте языка.
– А он теперь уже Ваня Семёнов. Перевёлся на русский отдел. Говорит, что украинский язык неперспективен.
Этого парня из Снятина я знал ещё десятиклассником: он был победителем филологического конкурса, который проводила газета «Молодь України», а мы, филологи-старшекурсники, помогали редакции отбирать победителей. Такое прыщавое пареньком был, всё в зелёнке. А теперь вырос и, видишь, «приобщился к великой русской культуре». Недаром я так и не решился дать ему что-то из самиздата. И правильно сделал. У меня был безошибочный тест: если человек непорядочен в малом, то не доверяй ему большого. Пять лет я носил в портфеле самиздат, давал его читать десяткам людей — а никто меня не выдал. С этим Иваном как-то ехал я в автобусе, разговариваем. И вдруг Иван: «Передайте, пожалуйста, на билетик». – «Что, – говорю, – по-украински «какось неудобно»?» – «Да хочу научиться хорошо по-русски разговаривать», – говорит мой Иван. – «Гнильца в тебе», – подумал я тогда, а сказал: – «Что же мы за филологи? На ком же украинский язык будет держаться, если и мы будем считать его только профессией?»
Значит, теперь для Ивана украинский язык уже даже не профессия. И не только в нём была эта гнильца. Быть в Киеве последовательно украиноязычным — это надо быть подвижником. Сколько раз я нарывался на: «Колхозник! Деревня! Да говори же ты по-человечески!»
Фаина:
– Здесь, Василий, такая мертвечина настала, с тех пор как ваш курс выпустили...
– Не в нас дело, Фаина. Знаешь же, что вся верхушка шестидесятничества под арестом. Во всём Киеве не с кем живого слова сказать.
Зашёл ещё в несколько комнат, где жили младшие филологи: ничего нового. Через Валентину Штынько передавал привет кому-то так: «Скажите, что я пока ещё жив».
Ночевал у сестры Надежды на Пражской улице и заложил ту «бомбу», за которую мне до сих пор на душе тоскливо. К Вере Павловне Лисовой на этот раз не пойду: как-нибудь со службы вырвусь, не всё же меня в казарме будут держать. Как же она бедствует с двумя детьми, второй из которых родился через две недели после ареста мужа?
Утром зашёл к куме Галине Клименко, которая жила возле нынешней станции метро «Черниговская» — «хвостов» вроде бы нет. Да и зачем: и так знают, где я ночую, куда пойду, когда выеду из Киева. Хорошо, что вчера «оторвал хвост».
На автостанции «Дарница» первым бросился мне в глаза сын моего завуча Петрашенко Олег. Сидит с каким-то неизвестным мне мужчиной и не знакомит меня с ним. Так что пришлось мне отойти от них и читать себе что-то. И в дороге молчали. А ведь он друг лучшего моего ученика Ивана Стипахно. Раньше никогда не молчал при мне, хотя не был моим учеником: прошлогодний выпускник. Девятикласснику Ивану первому в Ташани я дал кое-что прочитать, рассказывал об арестах в Киеве. А потом дал письмо Василия Лисового. Мой Иванко пришёл как-то вечером бледный, с круглыми от страха серыми глазками под своими шелковыми ресницами. Боже, это я парня до смерти напугал! Зачем было давать ему это письмо, он же ещё ребёнок...
– Что-то случилось?
– Да нет, ничего, – сказал Иван и поспешил уйти.
(Впоследствии оказалось, что Иван показал рукопись письма Лисового завучу Петрашенко, а тот донёс в КГБ).
...Мои воспоминания прервал окрик:
– Василий Васильевич, подождите-ка.
О, это я уже на выгоне. Ко мне приближаются два мужчины лет тридцати. Какие-то неприметно-одинаковые, будто стандартные.
– У нас машина застряла, помогите-ка толкнуть.
Действительно, на той стороне выгона, слева, стоит машина ГАЗ-69. Где бы она застряла: снега и по щиколотку не будет. А лужи замёрзли. Да и стоит машина на высыпанной щебнем дороге. И детей вон сколько идёт в школу. Им только скажи — за милую душу толкнут.
А мужчины в миг стали по обе стороны от меня и уже держат за локти:
– Мы из КГБ. Спокойно.
– Да вижу, что вы из КГБ, – на удивление спокойно отвечаю.
– Что, ждали? Пойдёмте в машину.
Оббиваю снег, прежде чем заходить, а они подталкивают. И это на глазах моих учеников.
Дальше всё как в кино. 30 км из Ташани в Переяслав преодолели за несколько минут. Я пытался что-то говорить им нейтральное, но они отвечали односложно. Видно, что это тупые оперативники, которые свою задачу уже выполнили. Кроме того, вряд ли они умеют говорить по-украински. А светить свою русскость им не велено.
В Переяславе завели меня на верхний этаж райотделения милиции: там оказалась комната КГБ. Обезьяноподобный азиат лет пятидесяти (ходил так мягко, как обезьяна) назвался старшим следователем КГБ УССР полковником Каравановым. Предлагает выдать антисоветскую литературу, которая, как ему известно, у меня есть. Это, мол, облегчит мою судьбу.
– Такой у меня нет, – говорю.
– Поедем, посмотрим, – с трудом подбирая украинские слова, говорит Караванов.
Меня высадили возле школы, и мы с Каравановым пошли к дому Поличей, где я снимал квартиру. Громко здороваюсь со встречными, будто ничего не произошло. Потому что помню, как меня тут однажды отчитала соседка, мимо которой я прошёл не поздоровавшись, когда она возилась в огороде:
– Ишь, гордый какой. И «здравствуйте» не скажет. А ещё учитель...
На душе странное спокойствие. Так, будто всё вдруг встало на свои места. Кончились мои неотступные тревоги, тягостное ожидание, будничные хлопоты. Разрешились все проблемы: со школой, с аспирантурой и самая сложная — с моей... Нет, уже не моей девушкой. Главное же — покончено с этим затяжным ожиданием, которое испепеляло мою душу. Правда, с нового года я уже начал от него отходить, доверив свой душевный кризис бумаге. А теперь вот они всё это заберут, потому что я поленился утром отнести рукопись в погребок... Позже я понял, что творческая натура всегда имеет выход из кризиса: превратить его в творческий замысел, выносить и родить художественное произведение, как мать ребёнка. Останешься опустошённым, но освободишься от своей муки.
Когда мы с Каравановым шли к дому, он всё пускал меня впереди себя — наверное, чтобы я не убежал... Во дворе сновали такие же крепкие безликие мужчины. Стояла — почему-то простоволосая — баба Анна Полич, моя хозяйка. Пристально посмотрела на меня, будто с укором, так, словно я сделал что-то нехорошее. Конечно, беду принёс ей в дом. А она была добра ко мне и доверчива. Даже о голоде 1933 года рассказывала.
Караванов ещё раз предложил мне выдать антисоветские документы. Делать было нечего, я достал из-под кровати чемодан, вынул белую папку:
– Вот это, возможно, вас заинтересует.
Однако они принялись перебирать и трясти мои вещи. Я сидел себе с опустошённой душой и ничего не воспринимал близко к сердцу. Так, будто это происходит не со мной и не всерьёз. Будто в кино. Однако разум подсказывает: надо бы вырвать из маленького блокнота некоторые листочки с адресами и телефонами друзей, чтобы их не трогали. Прошусь в туалет. Пускают... Потом снова сижу во второй комнате и кошу глазом, не найдут ли рукописи статьи «Конец шестидесятников», которые я заклеил в пачку с вермишелью. Не видно. Говорю: «Хочу что-нибудь съесть, потому что утром не завтракал». Пускают меня в первую комнату. Беру два яйца, хлеб и соль. Одно яйцо выпил, второе, чувствую, не пойдёт. Тем временем вижу, что пачки с вермишелью переставляют туда-сюда, но не распечатывают. То ли я такой хитрый, то ли они такие глупые? Здесь, в Ташани, взялся я написать статью о последних событиях под названием «Добош и опришки», другое название «Конец шестидесятников». Хотел осмыслить то, что произошло в 1972 году в нашем обществе. Текст получился довольно примитивный, разве что название хорошее. Правильное. (Эту статью Анатолий Русначенко опубликовал в книге «Національно-визвольний рух в Україні. Середина 1950-х – початок 1990-х років». Киев, изд-во им. Елены Телиги, 1998. С. 543–550. Он переписывал статью из моего уголовного дела и наделал ошибок. Не мог же я написать «шестидесятники» — только «шістдесятники». И дата поставлена «Январь – февраль 1987 г.». А ведь это было в начале 1973 года). Рукопись я прятал в погребке, где у меня было ведро картошки. Но меня вот спугнули, что якобы в армию на переподготовку возьмут, так я отвёз рукопись в Киев и оставил в квартире сестры.
– Вот, – хвалятся обыскивающие, – мы вам книги сложили, а то порядка у вас не было.
Действительно не было, потому что у меня не было шкафа: лежали книги на газетах вдоль стены на полу. Разматывают рулон обоев. Ага, речь идёт о конвертах, которые я намеревался сделать из обоев и разослать в них письмо Лисового... Снимают со стены, скручивают в трубку и упаковывают стенд о Григории Сковороде. И там крамола? Ну, тут уже без директора Родиона Васильевича Коломийца и завуча Виктора Иосифовича Петрашенко не обошлось. Я нарисовал этот стенд на двух склеенных ватманских листах к 250-летию Сковороды, которое отмечалось 2 ноября 1972 года, вывесил его в кабинете литературы, а директор через какое-то время снял стенд. Присылает как-то ко мне вечером школьного сторожа Чуя, чтобы я немедленно пришёл в школу. Чавкаю по грязи. Там оба завуча: Петрашенко и Шевченко Николай Антонович.
– Что это ты тут нарисовал? Вот крест, вот трезубец...
– А как же церковь рисовать, с серпом и молотом? И Библию. А трезубец – где он тут?
Ага, это они трёхсвечник истолковали как трезубец. Я и не думал так, когда рисовал. Видел такой подсвечник у Лисовых, вот и нарисовал. Так же, наверное, и Николай Зеров написал о Киеве с левого берега: «Эта золотом гвозденная лазурь» — да и загремел на Соловки.
Завуч Шевченко пытается защищать меня, но Петрашенко наступает: за колядки и щедровки, которые я перед Новым годом начал разучивать со своими девятиклассниками у себя дома. Всего дважды собрались — и вдруг перестали мои школьники приходить. Вон оно откуда холодный ветер подул... Завуч Петрашенко, в отличие от директора Коломийца, партийный, поэтому проявил большую бдительность. Директора не принимали в партию, потому что он под немецкой оккупацией был. Злые языки, может, и врали, что молоко немцам у людей собирал. Одна женщина не сдавала молоко, говорила, корова не доится. Так он спрятался в яслях под сено (сам невысокий). Вот женщина вошла в хлев: цырк, цырк в доильник. А Родион Васильевич — гульк из яслей, как чёрт из табакерки:
– Ага, ты говорила, что корова не доится! А немецким солдатам молочка надо!
Ей-Богу не вру, говоря, что Родион Васильевич бил себя в грудь:
– Я беспартийный коммунист!
...Пытаюсь защищаться:
– Да что вы мне тут допрос устроили, будто какому-то «врагу народа»?
– Ты не прыгай, не прыгай. Мы тебе добра хотим. Надо учебную программу выполнять, а ты национализм пропагандируешь.
– Колядки – национализм?
– Программой колядки не предусмотрены. Это религия. Надо программу КПСС пропагандировать, а ты колядки. Предложения для грамматического разбора из докладов Леонида Ильича Брежнева брать, а ты из своего Симоненко.
– Каждый делает своё: я учу детей языку, а вы на уроках истории и обществоведения изучайте программу КПСС. Кто что может, то и поднимает: один глыбу, другой соломинку.
Впоследствии по селу пошёл слух, что я нарисовал икону и хотел вывесить её в школе, а директор не дал. И что я учил детей молитвам: «Богородице Дево, радуйся, благодатная Марие...». Наверное, тот сторож Чуй под дверью подслушивал и вот такое выдумал и пустил по селу.
– А чего это ты моих сыновей в оппозицию записал? – спрашивает Коломиец.
Его старший сын Владимир издал несколько книг стихов. А младший, Олег, учился со мной на два курса позже. Мы в литературной студии имени Василия Чумака (СИЧ!) сдружились. Так Олег признался мне, что в селе Ташань Переяслав-Хмельницкого района, которое я уже выбрал на распределении, директором работает его отец. Так кому же это я говорил об оппозиции? Может, говорил о какой-нибудь позиции по какому-нибудь вопросу? С кем же я разговариваю в Ташани — только со своими учениками и учителями. На других людей времени нет.
– Говорил, говорил, не крути. Ивану Ивановичу и Анатолию Николаевичу.
– Кто это? Не знаком с такими.
– Ученики любимые твои, Стипахно и Шевченко, которым ты национализм проповедуешь.
Это меня поразило. Этих парней (второй — сын завуча) я действительно выделял как самых способных, только не перед классом, конечно, но разве это скроешь? Я считал их друзьями, ведь они всего на 8 лет младше меня. Выходит, моих школьников уже допрашивают. Вряд ли по собственной инициативе они это сказали... Вспомнилось, как Иван мне сообщил (испуганные серые глазки): «Петрашенко сказал, что вы у нас уже долго не будете...». Ёкнуло тогда у меня под сердцем, но я не подал вида.
А ещё вспомнил я, как директор однажды вызвал меня в свой кабинет и стал анализировать мой урок, на котором он не был.
– А я под дверью стоял, чтобы не влиять своим присутствием на ход урока.
– Так это у вас такой педагогический метод?
Несколько раз после этого я подходил к двери и резко открывал её — с расчётом ударить подслушивающего. Не удалось. Петрашенко вычитывал мне, что лишнее рассказываю о Владимире Сосюре (ага, таки цитировал я в 10-м классе: «І пішов я тоді до Петлюри, бо у мене штанів не було». Рассказывал, как большевики расстреляли и закопали Сосюру, а он выжил). Что поддерживаю национализм Ивана Нечуя-Левицкого, упоминаю о голоде и репрессиях.
– А разве голода и репрессий не было? По-моему, дурачить детей — это самый тяжкий грех.
– Голод был из-за неурожая, а в 1937 году репрессировано было всего 62 тысячи коммунистов.
– А до 37-го, после 37-го и кроме коммунистов – сколько?
Разговор тогда ни к чему не привёл, разве что к выводу, что тучи надо мной сгущаются. Слава Богу, что никто не донёс, как я вне урока укоротил знаменитое стихотворение Павла Тычины:
– Всех в одну яму партия ведёт!
...Часам к пятнадцати Караванов велел мне раздеться. Призвали соседа осмотреть меня.
– А вы почему тут?
– Это понятой. Так положено.
Велят собираться.
– Что брать?
– Ничего. Вы завтра вернётесь. Можете взять полотенце, мыло, зубную щётку.
На заднем сиденье меня сажают посредине между двумя своими. Чтобы я не выскочил. Остановились на минутку возле школы. Во дворе шум и гам, как возле растревоженного улья. Вот задал я школе хлопот! Теперь достанется «трудовому коллективу», что не воспитал меня. Будет им идеологическая баня. А что хуже всего — теперь будут выбивать из моих школьников — из самых способных в первую очередь, кого больше всего любил, — те зёрнышки добра, которые я сеял полгода. Останется ли после той потолоки хоть что-нибудь в их душах? Прощайте, мои девятиклассники, мои шестиклассники, мои четвероклассники... Первые мои и последние мои ученики.
Почему-то останавливались в Переяславе возле милиции/КГБ, потом помчали меня как большого барина в Киев, в областное КГБ, что на улице Розы Люксембург. (Теперь Пилипа Орлика. Там Фонд культуры, которым ведает Борис Олейник. О такие названия — Розы Люксембург, Карла Либкнехта, Сакко и Ванцетти, Пальмиро Тольятти — вся Украина языки ломает). Долго держали меня в зале с телевизором и надзирателем в гражданском. Показывали какой-то романтический, про море, фильм, аж я заинтересовался. Поздно вечером посадили меня между двух мужчин в чёрную «Волгу», привезли на Владимирскую, 33. С Ирининской улочки открылись ворота — и они охотно проглотили нас.
Большой пустой двор с одинокой яблоней, что сиротой жмётся к стене. Заводят меня в боксик метр на метр, с вмурованной скамейкой. Где-то после полуночи ведут в камеру со столом. Старый рябой надзиратель в чине прапорщика делает обыск. Впечатляет и удивляет его мастерство: вынул шнурки из ботинок, снял металлические наконечники и вывернул шнурки: я бы никогда не додумался, что так можно. Что он там искал? Дал гребешок:
– Расчешись. Продуй нос. Растопырь пальцы.
Заглядывает в уши, в рот, стучит мне по зубам карандашом. Будто цыган лошадь покупает.
– Повернись. Нагнись. Раздвинь ягодицы.
– О, вы как ухо-горло-нос, – вспомнил я шутку Василия Рубана из его самиздатовской повести «Умирал, поражённый подснежником, снег».
– Поговори мне, поговори...
Действительно, лучше помолчать.
– Повернись. Подними яйца. Покажи головку. Одевайся.
Шнурков от ботинок, ремня, галстука не отдаёт. Наверное, чтобы я не повесился на них. Ведут в камеру, побрякивая ключами, искусно и громко щёлкая пальцами. Велят мне держать руки за спиной. Иду как большой барин: передо мной и за мной открывают и закрывают двери. Но изнутри в тех дверях ручек нет. Завели на третий этаж, в крайнюю юго-восточную камеру. Кажется, 52-ю. Холодно, потому что форточка открыта. Нары из металлических полос. В изголовье возвышение. Матрас, бельё, одеяло. В углу большая кастрюля. Наверное, это и есть параша. Укрылся дополнительно своим синим стареньким ещё студенческим пальтишком — и как утонул.
...Слышу как в тумане, что меня кто-то душит! Пока пришёл в себя — из камеры выходит надзиратель, громыхнул дверью, оставив сатанинский перегар табака и водки.
Как завтра выяснилось у начальника тюрьмы подполковника Сапожникова, это надзиратель не мог меня добудиться, так зашёл посмотреть, жив ли я. Спать надо ногами к двери, с открытым лицом, чтобы его «гражданину контролёру» было видно в глазок. Что я жив.
В зарешёченной нише над дверью — две лампочки: сильная на день и слабая — на ночь. Долго я учился спать при свете, бьющем в глаза, пока не догадался складывать платок полоской вчетверо и накрывать им глаза — этого не запрещали.
Такой вот был мне день 20-летия смерти Сталина.
ГРЕХОПАДЕНИЕ
Сначала в камере меня держали с валютчиком Николаем Калашниковым, лет 40. Жили мы мирно, хотя и без приязни. Страдал я от его курения, кашлял, давление у меня поднималось. Аж врач посоветовала мне бросить курить, потому что у меня, мол, хронический фарингит. А я же никогда не курил, только кашлял от чужого курения. Однажды Калашников составил список на 51 человека, которым он сбывал валюту и ценности. Сказал: «50 евреев и только один русский. Некоторые уже в Израиле, а остальные не выедут». Рассказывал мне вульгарные истории из неведомой мне зажиточной, но криминальной жизни. Заметив, что я к этому отношусь негативно, упрекнул меня: «Ты ещё хлеба не наелся!». Что, по сути, было правдой. Но не думаю, что это было главным моим недостатком.
Чувство облегчения, которое наступило с арестом, быстро сменилось всё нарастающим напряжением: следователь Берестовский обставлял меня доказательствами, а я сопротивлялся. Я месяц-полтора упирался, не давал показаний. Разве что-то явное — подтверждал. Я не знал молитв, чтобы гасить тревогу и страх. Взял у библиотекаря-завхоза шевченковского «Кобзаря» и начал учить его наизусть. Не имея хорошей памяти, я за несколько недель выучил где-то четвёртую часть «Кобзаря» и, когда сокамерник был на следствии, ходил, бывало, по камере четыре шага туда-сюда и часа четыре читал себе по памяти Шевченко, изредка подглядывая. Это было вдохновенное чтение. Именно тогда я проникся Шевченко до глубины души. Теперь уже из выученного и на час в голове не осталось, но сейчас я уже старше старого холостяка Тараса Шевченко, поэтому стал ещё глубже понимать сокрушённые его слова: «Якби з ким сісти хліба з’їсти...» и горькую самоиронию: «А в мене діти не кричать І жінка не лає, Тихо, як у раї, Усюди Божа благодать – І в серці, і в хаті».
Через месяц назначили мне другого следователя: Берестовского заменил Цимох Николай Павлович. (Где-то в 1995 году я узнал, что этот Цимох работает в администрации нашего ясновельможного пана Президента Кучмы). Где-то в середине апреля Николай Павлович сказал мне сакраментальную фразу: «Человеку свойственно защищаться, а вы не защищаетесь. Тут кое-кто сомневается в вашей психической полноценности. Придётся проводить психиатрическую экспертизу». Вот тогда я по-настоящему испугался. Я знал, что это означает: упрячут тебя в психушку, заколют тем галоперидолом и ты в свои 24 года станешь человекоподобным скотом... Это показалось мне страшнее смерти. И я начал понемногу уступать. Сперва в том, что, как мне казалось, они уже вроде бы и без меня знают. Я признался, что именно Василий Лисовой давал мне самиздат. Это для них не было новостью, потому что уже в протоколе допроса от 3 ноября 1972 года было упомянуто моё имя (это я выяснил, знакомясь с материалами дела при его закрытии). Лисовой, объясняя, как печаталось его «Открытое письмо», хотел обойтись без имён, но случайно оговорился и назвал настоящее имя машинистки Раи. Это той, из Немешаево, к которой я завозил текст письма и бумагу с копиркой. Оговорился и запнулся, отказался дальше говорить, попросил дать время подумать. Через два-три дня появляется протокол, где расписано (кажется, собственноручно), как печаталось письмо. Машинистка Рая, конечно, всё подтвердила. Значит, я был «на крючке» уже в ноябре 1972-го. Почему же меня не взяли тогда? Даже не вызвали на допрос, не предупредили по Указу Президиума Верховного Совета СССР от 25 декабря 1972 года «о недопустимости дальнейшего совершения преступлений»? Наверное, «преступлений» у меня уже было достаточно для ареста, они лишь собирали на меня и на моё окружение дополнительный материал. Чтобы «искоренить» всех.
Дело Лесового и Пронюка уже закончили и передали в суд, а тут, в связи с моими показаниями, его вернули на дорасследование. Меня присоединили к их делу. Я находился под следствием 9 месяцев, а они, получается, целых 17 месяцев. Вряд ли дополнительные эпизоды распространения самиздата добавили им срока. Думаю, Пронюку с самого начала был запланирован максимум: 7 лет заключения и 5 лет ссылки, а Лесовому — чуть меньше, 7+3. Но не в этом дело. Ведь едва ли не каждый эпизод — это живой человек, который ещё находится на свободе. Может, его и не посадят, но горя он обязательно хлебнёт. К счастью, многие из этих эпизодов «гасили» Лесовой и Пронюк. Они не называли новых имён. Пронюк — тот вообще обошёлся двумя заявлениями, в начале и в конце следствия. А остальные его ответы были такими: «Вопрос мне понятен. Отвечать отказываюсь из этических соображений». Знакомясь с материалами дела после окончания расследования, я восхищался его твёрдостью. И думал про себя: почему я так не смог? Но ведь — психиатричка! Я бы оказался там, если бы не продемонстрировал капитуляцию.
Самое важное, что добавилось к обвинению Пронюка и Лесового из моих показаний, — это 6-й номер «Украинского вестника» (названный на обложке 9-м). Хоть он и всплыл из чьих-то показаний, но это дело больше всего на моей совести. Ведь УВ-6 так и не попал в руки КГБ. Попал другой, параллельный шестой номер УВ — львовский, который ещё до ареста подготовил Вячеслав Черновол, а издали его Михаил Косив, Ярослав Кендзёр и Атена Пашко. Это о нём Черновол писал в записке Атене, официально переданной через следователя: «Тёплых носков больше не передавай, хватит тех, что есть». То есть, чтобы прекратили издание УВ. (См.: Вахтанг Кипиани. «Украинский вестник из подполья». — Украинская правда, 21.08. 2002). По делу же нашего, киевского УВ-6, был на трое суток задержан Иван Гайдук, от которого я где-то в конце апреля или в начале мая 1972 года получил всю машинописную закладку того «Украинского вестника». Ивана, кажется, после этого исключили с факультета журналистики. Это мой грех, потому что это я его выдал, спасаясь от психиатрички.
Набрался я тогда грехов, как овечка репьёв — на всю оставшуюся жизнь... И если искать смысл в наказании, которое я добросовестно отбыл, то это я тринадцать с половиной лет искупал именно эти грехи. И ещё, может, буду искупать их миллион лет в чистилище. Так что пусть господин Президент, нынешний и будущие, знают, что на «Героя Украины» я не претендую. Потому что я не герой. Потому что понемногу-понемногу выжимал из меня Цимох имена моих друзей, которым я давал читать самиздат: Иосиф Федас, Юрий Скачок, Пётр Ромко, Николай Глущенко, Фаина Форкун, Анатолий Пилипенко... А некоторых следователи так шантажировали и обманывали на допросах, что они сами признавались. Следователь Цимох удивлялся: «Кого ни вызови из ваших знакомых — всем вы давали самиздат. Комсомольцам, даже коммунистам! Почему же никто из них не сообщил нам, чтобы мы вас остановили? Я за 10 лет до вас учился в университете на юридическом факультете — почему же мне никто никогда ничего не дал?» — «Потому что я имел дело с порядочными людьми...». На меня пришёл посмотреть Люшенко — кагэбэшный резидент агентов и стукачей всего Киевского университета. У него был кабинет в ректорате. «Как это так, что я вас не знал?» — «А я вас знал...».
С некоторыми «свидетелями» мне устраивали очные ставки — и я постыдно подтверждал, что давал им самиздат. Скажете, это наивное оправдание, что я не умел врать? Но это так. И Лесовой не умел врать. Я не сетовал и не сетую на Василия Семёновича Лесового, что он регулярно давал мне литературу самиздата, а сетую, что никто не научил меня, как вести себя, когда нас арестуют. Не было таких инструкций. Кроме нравственного закона внутри. Во мне этот закон оказался слишком слаб. Эта слабость усугублялась тем, что я не считал свои действия преступными и не переставал удивляться, что следствие расценивает их как преступления. Мне казалось, что кагэбэшники явно переоценивают меня, а уж «украинским буржуазным националистом» называют меня совершенно безосновательно. Потому что какой из меня, деревенского парня, только что окончившего университет, «буржуй»? Да и слова «националист» я тогда избегал, потому что жупел негатива вокруг него тогда был непробиваем.
Так нехотя, под давлением, я выдал преподавателя английского языка Феодосия Марковича Слюсаренко, который весной 1968 года дал мне две копии работы Ивана Дзюбы «Интернационализм или русификация?» и фотоплёнку. Его, видимо, уволили с работы. Я выдал моего деревенского приятеля Николая Глущенко, которому дал на хранение папку самиздата. Я так переживал за Николая, что он мне даже приснился, во сне я сказал ему уничтожить папку. И он её сжёг! Таких удивительных «связей» во время следствия — первого и третьего — у меня было несколько, особенно с родными. В тех экстремальных условиях чувства особенно обостряются. В той папке, что сжёг Николай, были снимки Василия Макуха, который совершил самосожжение в Киеве в ноябре 1968 года. Мой друг Николай Глущенко был талантливым артистом, но до этих событий так и не поступил в Театральный институт. После этого — нечего было и думать о поступлении. Я навредил Василию Тимофеевичу Скуративскому, от которого получил фотокопию «Истории русов» и «Современной литературы в УССР» Ивана Кошеливца. Впрочем, следователи порой могли подвести тебя к мысли, что они это уже знают, что кто-то в этом уже признался и тебе нет смысла отпираться, только усугубишь своё положение. Кагэбэшники же на вранье школу кончали! Конечно, больше греха на том, кто ставил меня перед таким выбором. Но мой грех — на мне.
Я отступал медленно, мои «чистосердечные признания» не раз «горели», потому что выяснялось что-то новое. И всё же от дьявола я откупился: когда меня летом 1973 года всё-таки повезли на психиатрическую экспертизу, я уже не очень боялся, что меня там заколют галоперидолом. Экспертизу вела Наталья Максимовна Винарская. Её знает весь криминальный мир Украины. Это 13-е отделение «Павловки». Я там пробыл 18 суток. Наталье Максимовне, видимо, не давали указания признавать меня психически больным, потому что я уже «раскололся», так она и не старалась. Отнеслась ко мне в целом доброжелательно и написала заключение, что я вменяем. Подозрения, почерпнутые из моих записных книжек (что не хочется жить после своих поражений и ареста шестидесятников), были признаны юношеским преувеличением, довольно распространённым. Кстати, В.С. Лесового тоже провели через психиатрическую экспертизу. Основанием для сомнений в его психической полноценности было, в частности, то, что он ходил на могилу своей матери и долго там сидел.
Досиживал я следствие с 26-летним тогда Леонидом Кобринским, якобы из Харькова, якобы тоже по статье 62-й, якобы за русский самиздат. Позже, в лагерях и после них, я расспрашивал, знал ли кто-нибудь такого диссидента из Харькова — никто не знал. Мы люди разных культур и языков, но друг другу никакого вреда вроде бы не причинили. Только его курение мне досаждало.
«Дело Пронюка, Лесового и Овсиенко» бригада следователей во главе с Каравановым завершила где-то в октябре 1973 года. Знакомясь с его материалами (кажется, 27 томов по 200–300 листов), я имел возможность почитать самиздатовскую и зарубежных изданий литературу, которой до тех пор не читал: она проходила по делу Пронюка или Лесового. В частности, «Вывод прав Украины». Это были отпечатки, сделанные на машине «ЭРА». Нам бы такую машину! А то выстукивали по буквочке на пишущих машинках... Тогда я увидел протоколы допросов Евгения Пронюка: вопрос длиннющий, а ответ на две строчки: «Вопрос мне понятен, отвечать отказываюсь из этических соображений». В 1981 году и я по примеру Пронюка так же провёл всё следствие. А тут я пока что выяснил, как меня «раскручивали» и обманывали, увидел, сколько ошибок я наделал. Читая протокол допроса моей девушки, до которой тоже добрались, и, что особенно обидно, не без моей вины, я вдруг остро ощутил всю глубину потери. Совершенно некстати меня задушили слёзы, это увидел Цимох и сделал такой жест: прикурил сигарету и подал мне. Курильщики считают, что сигарета успокаивает. Я взял, хоть она мне была ни к чему. Между прочим, Цимох во время следствия предлагал устроить с ней очную ставку, хотя никаких расхождений в её и моих показаниях не было. Я категорически отказался: побоялся такой психологической нагрузки в присутствии следователя. Да и она поняла бы, что это «свидание» — по моей просьбе. Я не хотел такого лукавства.
Как-то, заметив, что Цимох делает усилие над собой, подгоняя мои действия под криминал, я сказал ему: «Разве вы не понимаете, что вы делаете?» На что Цимох ответил: «Ничего, наше дело нас переживёт». Не пережило, Николай Павлович... Впрочем, почему же? Никто вас к уголовной ответственности после моей реабилитации не привлёк. Может, у вас уже солидная пенсия от государства, против становления которого вы боролись. А бывшие заключённые — кто 49, кто 71 гривну...
Незадолго до суда следователь показал мне список адвокатов (человек 15), из которых можно было выбрать себе защитника. Никого из них я не знал, так что следователь подсказал: «Вот Гертруда Ивановна Денисенко. Хороший адвокат». — «Пусть будет Гертруда Ивановна, мне всё равно». Тогда у меня на лице высыпали какие-то прыщи, как у подростка. Врач смазала их зелёнкой. И как раз меня вызвала адвокат. Наверное, у меня был жалкий вид. Она посоветовала мне рассказать суду то, в чём я ещё не признался. А главное, что она сказала:
— Конечно, вы понимаете, что ваша деятельность для Советской власти — что комариный укус для слона.
— Конечно. За это комара убивают.
(Но, Гертруда Ивановна! Ваш имперский слон таки сдох. Ещё при моей жизни. И, смею полагать, что в том числе и от моих «комариных укусов»).
На суде, который начался 26 ноября 1973 года и длился с перерывами до 6 декабря, я уже должен был говорить, что признаю за собой вину, что моя «деятельность» (так они величали ознакомление друзей с самиздатом) нанесла вред государству и что я об этом сожалею. Я держал в руках сшитое целой книгой обвинительное заключение страниц на 100 и часа три пересказывал свои «преступления». Лесовой и Пронюк сидели в одной клетке, а я отдельно. Это чтобы они на меня не повлияли. Мне было стыдно, но я сыграл взятую на себя роль до конца спектакля. (Наш суд подробнее описан в очерке о Василии Стусе, первоначальной целостности которого я не посмел нарушить). Тяжело подавленных страхом друзей моих, допросив, выводили из зала. Мне охрана не давала смотреть на публику. Только один знакомый студент-юрист, который не был свидетелем, осмелился поздороваться со мной кивком. Когда выводили «мою девушку», она неподвижно смотрела на меня через плечи надзирателей, пока за ней не закрылась дверь. Наверное, она понимала моё положение и не осуждала меня (потому что ещё и написала мне в неволю одно письмо).
Лесовой занимал твёрдую позицию, хотя и давал некоторые пояснения. Пронюк до конца выдержал свою линию неучастия в следствии и суде, только сделал заявление об этом. Кагэбэшники мне до конца не поверили (ведь приговор на самом деле выносил не суд) и дали 4 года заключения. И спасибо им, что не выпустили меня из зала суда на свободу. Потому что если бы выпустили, это означало бы, что я окончательно сломлен. С моим «обострённым чувством справедливости» (так определила Наталья Винарская) мне оставалось бы разве что повеситься. Или, по меньшей-мере, спиться. Такова судьба сломленных людей. Меня же, спасибо кагэбэшникам, послали в лагерь. На выучку и на реабилитацию.
До сих пор мне горько, что из-за моей нетвёрдости пострадали мои друзья. Исключили из университета Фаину Форкун, Ивана Гайдука, Иосифа Крука, Михаила Якубовского. Уволили с работы Феодосия Марковича Слюсаренко. Подверглись преследованиям Пётр Ромко, Василий Скуративский. Да и каждый, кого вызывали на допрос, — пострадавший. Особенно же тяжело пришлось Михаилу Якубовскому, с которым я год жил в одной комнате общежития и он прочитал работу Ивана Дзюбы «Интернационализм или русификация?». На допросах он не скрывал своих симпатий ко мне. Как я узнал значительно позже, 18 марта 1974 года по отдельному постановлению Киевского областного суда по нашему делу на филологическом факультете состоялось комсомольское собрание, где Якубовского исключили из комсомола. На том собрании профессор Маргарита Карпенко сказала: «Вам нужно было на Василия заявить, тогда бы вы были на коне. А теперь нам надо вести борьбу за чистоту своих рядов!». Профессор Валентина Николаевна Поважная изрекла: «Жить в одной комнате и не знать, что делается в портфеле соседа, — это, извините, не по-комсомольски!». Олесь Иванович Белодед, сын автора теории «двуязычия украинского народа», сказал: «Это паршивая овца, которая никогда не должна быть в нашем университете!». 30 марта М. Якубовского исключили из университета. Мало того, его, отличника и талантливого поэта, упекли в психбольницу. 11 месяцев психушек, более 500 сильнодействующих инъекций-нейролептиков — это страшнее моих 13,5 лет заключения. Это страшнее смерти. И никто за это преступление не отвечает! (См. его блестящий очерк «Фабрика душегубства» в ж. «Зона», ч. 3 1992 г., с. 191–201, а также мою статью «Двадцатипятилетник»).
Часто хожу я теперь мимо «Ивановой хаты» на улице Владимирской, 33. Если стать напротив домика приёмной, где барельеф М. Грушевского, то за деревьями в глубине проглядывает фронтон трёхэтажного здания. Это и был «следственный изолятор КГБ при Совете Министров УССР». Теперь там вроде бы уже нет камер. Где-то там были и три или четыре дворика для прогулки — как в колодце: с одной стороны сама тюрьма, а с остальных трёх — стена в три этажа высотой. Видно разве что надзирателя над головой да клочок неба. Это оттуда Евгений Сверстюк как-то услышал голос Василия Стуса: «Господи, какое небо!». Василий, наверное, тоже сидел на третьем этаже, потому что и ему была видна вершина телебашни, стоявшей тогда на Крещатике, да ещё вершина акации, которую срубили весной 1973 года, потому что начали строить тот дом в глубине: ни одного окна со стороны тюрьмы, а у боковых окон — колонны!
Бальзаку, заздри: ось вона, сутана,
і тиша, і самотність, і пітьма.
Щоправда, кажуть, спати надто рано,
ото й телющиш очі, як відьмак,
на телевежу, видну по рубінах,
розсипаних, мов щастя навісне.
(20 січня 1972)
Меня долго не брали на этап, потому что состоялся ещё кассационный суд, хотя я кассационной жалобы не подавал. Может, подал Пронюк или Лесовой, а задержали-то всех. Я уже попросил коротко постричь меня, потому что до ареста носил немалую гриву. И вот вызвал меня какой-то дородный мужик с хорошо заметным шрамом через всю изрытую оспой щеку, похожую на полесский дерун. Назвался Рубаном. И стал нести что-то такое, что я подумал: «Либо он дурак, либо я схожу с ума». Расспрашивал, не оставил ли я чего-то нерассказанного, чтобы не бередило душу, чтобы не пришлось заново начинать следствие. Что могу рассказать о своём окружении, о преподавателях, о настроениях студентов. Не слышал ли я о каких-нибудь студенческих организациях. А главное: вот поедете в такую среду, где есть люди, у которых руки по локоть в крови. Так будьте осмотрительны, чтобы не втянули вас в новые преступления. Мы же посылаем вас на перевоспитание, вы же наш, советский человек, ну, сбились немного с пути, ошиблись. Как по мне, то, может, надо было бы вас отпустить из зала суда домой. Но срок 4 года может быть и сокращён, если будете себя хорошо вести и помогать нам предотвращать преступления. Тут до меня дошло: да это же меня вербуют в «сексоты»! (Об этом «вербовщике» мне позже рассказывал Пётр Винничук: Юнаки з огненної печі. / Харківська правозахисна група. Упор. В. Овсієнко. — Харків: Фоліо, 2003. — С. 46). Сразу после признания себя на суде виновным мне не очень-то пристало занимать решительную позицию. Я что-то там промычал, так он меня вызвал ещё раз. Что-то я там всё-таки написал. Нет, не согласие сотрудничать, а что-то о настроениях. Но! Когда я буду выдвигаться кандидатом в Президенты или хотя бы в депутаты, пусть мои оппоненты достанут ту бумажку и будут иметь доказательство, что я тоже «сексот». Если в этом постгеноцидном обществе генерал КГБ Евгений Марчук набирает на президентских выборах 8% голосов, то и мне нечего бояться такого компромата. Тем более что я не собираюсь ни в президенты, ни в депутаты.
ПЕРВЫЙ ЭТАП
Все бывшие политзаключённые делятся впечатлениями о первом этапе, так и я расскажу.
Из киевского «кагэбэшника» меня взяли на этап примерно 28 марта 1973 года. Потому что в дороге я был 16 суток, а прибыл в лагерь 12 апреля. Привезли меня на воронке в какой-то закуток вокзала. Начальник конвоя куда-то отошёл, а солдаты-конвоиры стали расспрашивать меня, почему я такой особо опасный, что меня одного возят? Красивый такой солдатик, вылитый украинец (или это я за год отвык от нормальных человеческих лиц?) наивно говорил: «Антисоветская агитация? А ну-ка, сагитируй меня!». Не пристало мне в таком положении агитировать конвой. Завели меня в «столыпинский» вагон, уже набитый уголовниками, в последнюю камеру, в «тройник», рядом с купе для конвоя. В «тройнике» три полки, а я один, как король, когда в других камерах переполнено. Скоро я ощутил преимущества своего «особо опасного» статуса. В соседнем тройнике, слышу, три женщины. Едем долго, почти сутки. Женщины переговариваются с соседними камерами. Я стараюсь отмалчиваться, потому что ко мне особое внимание конвоя, не разрешают. Речь женщин так же щедро пересыпана отборным русским матом, но в специфическом женском варианте. Вот он и есть — «великий, могучий, прекрасный русский язык», губительность которого для своей украинской души я осознал ещё в студенческие годы и сказал себе: «Нет, это не мой язык, не моя культура. Не буду я сквернить свои уста русским матом». Я прошёл этапы и такие помойные ямы, как лагеря в Вольнянске и Коростене, но с моих уст ни при каких обстоятельствах не выскочит матерное слово. Даже если мне что-то тяжёлое на ногу упадёт. Потому что во мне такая гадость не сидит.
Уголовники просят: «Девочки, спойте что-нибудь!». И «девочки» хриплыми голосами заводят на мотив популярной тогда песни о лете:
«Я так хочу, чтобы сало не кончалось,
чтоб оно за мною мчалось,
за мною вслед.
Сало, ах, сало...»
А ещё больше мне понравилась частушка:
«Ах, подружка дорогая, твой сидит и мой сидит.
Давай Брежневу напишем, может, их освободит».
«Ах, подружка дорогая, я ему писала,
А он пишет мне в ответ: «Х... бы ты сосала».
Гениально. Так Брежнев и отвечал.
Ночью один солдат, как теперь в России говорят, «с лицом кавказской национальности», договорился с одной из «девочек» и с разрешения своего лейтенанта залез к ней на нары. Отчётливо слышно характерное чваканье. «Девочка» зарабатывает шанс досрочно освободиться, родив ребёнка в неволе.
Дальше — больше. Привезли в Харьков, на знаменитую Холодную Гору. Баня и прожарка одежды и вещей — от вшей. Меня отделяют и ведут в подвальное помещение. Вместо потолка — полукруглый свод. Двое нар. Нары — это сплошной металлический лист, миллиметров 10 толщиной, в изголовье немного загнутый вверх. На вмурованных железных столбах. Вместо стула — такой же металлический полуметровый куб. В стенах — металлические кольца с цепями. На окнах тройные решётки. Двери тоже, кажется, тройные: одни сплошные, а изнутри и снаружи — решётчатые. Когда приносят баланду — протягиваешь руку за миской или тюлькой далеко-далеко в кормушку, аж по плечо. Я думал, что так и надо. Что на Холодной Горе все камеры такие. Но однажды «баландёр» украдкой спросил: «За что тебя?». Тогда я понял, что нахожусь в камере смертников! И «баландёр» принимает меня за смертника. Я не стал протестовать, потому что боялся оказаться вместе с уголовниками. Впоследствии, слушая в записи воспоминания Оксаны Яковлевны Мешко, я узнал, что она тоже была где-то здесь. (См.: Оксана Мешко. Свідчу. Записав Василь Скрипка. Бібліотека журналу «Республіка». Серія: політичні портрети. ч. 3.— К.: УРП, 1996.— С. 32-34). И ребята из Росохача — тоже. (Юнаки з огненної печі. /Харківська правозахисна група. Упор. В.Овсієнко. – Харків: Фоліо, 2003. – С. 47, 85).
Через два с половиной года я снова побывал здесь и нашёл надпись: «Степан Хмара, ст. 62 ч.1, 7 л.». Значит, вечно переполненная Харьковская пересылка не имела для политзаключённых другого места, кроме камер смертников.
Дальше — вшивая Рузаевка в Мордовии... Нет, это в сентябре 1976 года здесь на меня напали клопы. Только ляжешь на нижние нары — сейчас же прыгают на тебя с верхних. Ляжешь на верхние — прыгают с потолка. Я тогда несколько суток ютился на узенькой скамейке, где клопов было меньше всего. Хоть камеру чем-то покропили (меня часа четыре держали в туалете), хоть вонь была неимоверная — клопов ничто не брало.
Перебросили в Потьму. Здесь, наконец, меня свели с другим заключённым. Кузин из Орла. Статья 70. Аналог нашей 62-й. Русский диссидент. За самиздат. Рассказывает интересные вещи, вспоминает известные имена: Сахаров, Григоренко, Якир, Красин. Но говорит сплошным матом. До тех пор я не слышал такой богатой, красочной матерной речи. Название каждой вещи, каждое действие, оказывается, может быть выражено на этом языке, если, к тому же, ещё умело манипулировать интонацией и жестами. Куда там нашему недоучке Кучме! Удивительная нация, которая воспринимает и осмысливает мир через известные органы и в свете соответствующих отношений.
«МОРДОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
С ним же, с Кузиным, привозят нас днём 12 апреля 1974 года в лагерь ЖХ-385/19, что в посёлке Лесное (посёлок Лесной) Зубово-Полянского района. Первое, что поражает, — большое пространство. Метров 400х300. Нет, это страх пространства! Ведь я более 13 месяцев провёл в камерах. Хочется спрятаться в угол, прижаться к стене, чтобы была надёжная защита хотя бы с одной стороны! (Впоследствии меня так поразил открытый кинозал в Вольнянске, где сидело и толпилось три тысячи заключённых). Нас завели в штаб, прошмонали и пустили в зону — до прихода начальства. Боже, столько людей! И все одинаково серые! Стриженые, как рабы египетские. В бушлатах и шапках. Как я их буду различать? Ага, у каждого бирка с фамилией: «Отряд... Бригада...»
Здесь уже тоже весна. Много деревьев, которые вот-вот зазеленеют. Кто-то влез на дерево и прикрепляет скворечник. Вскоре я его узнал: это был Кузьма Матвиюк. С ним мы подружились.
Пока нет начальства, ко мне подошёл здоровенный дядька, называет фамилию: Николай Кончаковский. Спрашивает, откуда, какой срок. «Ничего, пан Василь, отсидите не хуже людей. Вот я уже двадцать шестой год тяну, всего у меня двадцать девять. Как пошёл в тридцать девятом на польско-немецкую войну — до сих пор воюю». Тогда мои 4 года скукожились и стали такими маленькими...
Никто меня до сих пор не называл паном, а тут все панове, господа, а к литовцам следует обращаться «понас». Оказывается, правду писали в самиздате: здесь половина заключённых — украинцы! Всего заключённых где-то 300–350 человек. Днём большинство в рабочей зоне, а когда после шести сыпанула та масса через вахту в жилую! Тем временем меня переодели в зэковское и отвели в барак первого отряда, где живёт обслуга, и сказали завтра выходить на работу кочегаром ПСХ («паро-силовое хозяйство»). После ужина в честь моего прибытия «заварили чай». По обе стороны длинных столов прямо на улице село человек 20 украинцев и несколько неукраинцев и расспрашивают меня, кто да что. Дали мне «долгоиграющую» конфету, пустили по кругу за солнцем кружку крепкого чая и научили: отхлебнуть два раза и передать дальше. Я начал было рассказывать свою историю, как оно было, да Игорь Кравцив, инженер из Харькова, меня предостерёг: «Пан Василь, покаетесь в другой раз. А сейчас — только то, что есть в приговоре».
Приговора у меня на руках не было. Его за несколько дней до этапа забрал начальник СИЗО КГБ подполковник Сапожников: «Он вам не нужен». Слишком он был информативный. (Поэтому публикую его в этом издании). Впоследствии была возможность передать приговор из зоны на волю, а затем за границу — да не было его у меня.
Здесь треть осуждённых — такие же как я, за антисоветскую агитацию и пропаганду. Некоторые так же неопытны в подобных делах и тоже пережили похожую на мою драму шантажа и лукавого признания вины. Сразу полегчало на душе: не я один такой. Конечно: не имея никакой закалки, в свои 23 года предстать один на один против такой страшной репрессивной махины, которая перед тобой передавила десятки миллионов людей, противостоять ей целый год, не имея с кем посоветоваться, — не каждому под силу...
Меня познакомили со старейшинами. Это украинские повстанцы. Люди редких биографий, твёрдой позиции и высокой морали. Я это говорю очень ответственно. Скажем, Дмитрий Синяк, у которого было 20 лет заключения, или Николай Кончаковский — 29 лет заключения, Роман Семенюк — 28 лет. Был Иван по фамилии Мирон — 25 лет, Михаил Жураковский — 25 лет, двадцатипятилетник отец Денис Лукашевич. Василий Долишний, который в свои 16 лет получил за повстанческое движение 10 лет заключения, а теперь имеет 7+3 за антисоветчину. Я близко с ними сошёлся, они относились ко мне как к сыну, хотя в основном сами они — постаревшие в неволе холостяки. С чистой юношеской психологией, с пиететом к матери, к девушке.
Само собой, подружился я с ребятами помоложе. Ближайшими моими друзьями стали Зорян Попадюк из Самбора, Любомир Старосольский из Стебника. Эти даже немного младше меня, 1953 и 1955 года рождения. Пётр Винничук и Николай Слободян из Росохача. Чуть старше — Кузьма Матвиюк из Умани, Игорь Кравцив из Харькова и Гриць Маковийчук из Кременчуга, Сергей Бабич с Житомирщины (у него два побега, уже побывал на особом режиме).
Треть зоны составляют антисоветчики разных национальностей и оттенков, треть — партизаны украинские, литовские, латышские и эстонские, треть — категория, которую толерантно называли «за войну». Кто виноват, кто не виноват в сотрудничестве с немецкими оккупантами — не нам разбираться, потому что многим те дела откровенно фабриковали, чтобы поддерживать в обществе атмосферу страха: «Никто не забыт, ничто не забыто».
Вот здесь за первый год я прошёл такой курс «мордовского университета», с которым по интенсивности становления как личности можно сравнить разве что первый курс Киевского университета. В этой среде я быстро оправился и уже к концу 1974 года участвовал в акциях протеста, которые там происходили. Режимные условия этого лагеря описаны в книжечке «Свет людей», так что не буду на них останавливаться. Отмечу лишь, что у меня было там одно свидание с отцом на сутки и одно короткое, а также на сутки — с матерью и сестрой Любой. Впервые отец приехал тогда, когда умер маршал Жуков. Отец слушал по радио о похоронах и стал вспоминать, как солдаты уважали Жукова. «Мы воевать, а вы...» — «Ну и что вы мне завоевали? Тюрьму?». Учитывая подслушку, разговор перевели на другое.
Во второй раз отец приехал на короткое свидание. За две тысячи километров — на один час. Свидание через стол, в присутствии прапорщицы Маши. (Позже она меня ошарашила удивительной фразой. Распечатала мою посылку и изрекла: «Здеся вложены неположенные вложения!»). Прапорщица Маша требует говорить «на русском». Я начал спорить, что не буду разговаривать с родным отцом на тюремном языке. Она пригрозила, что прекратит свидание. Отец всё равно по-русски говорить не умеет. Тогда она разрешает отцу говорить, как может, а я всё-таки должен был унизиться, потому что жаль было отца. Мою принципиальность он бы не понял и не одобрил. Больше я отца не увидел. Нет, когда весной 1976 года ему стало очень плохо и съехались прощаться все мои братья и сёстры, то и я там был. Привиделось во сне, что отец лежит на лавке посреди хаты, как обычно кладут покойников, а мы все стоим вокруг. Но отец будто ещё дышит. Тогда он не умер. Где-то через месяц, в ночь на 8 мая, приснилось мне, что выпали все пломбы из зубов, которые мне на днях поставили. Я понял, что это умер отец. Подтверждение получил письмом только 21 мая. То письмо ходило бог знает где.
В 19-й зоне была довольно богатая библиотека, собранная заключёнными. Ведь можно было заказывать литературу через магазин «Книга — почтой» и выписывать советскую прессу. Зарубежную — нет. Получать литературу бандеролями или посылками уже давно было нельзя. В библиотеке есть небольшой зал с несколькими столами, с подшивками газет. Я сидел там по вечерам и по воскресеньям и перелопатил огромную кучу книг. В частности, с полметра «Истории России с древнейших времён» Сергея Соловьёва в 29 томах и чуть поменьше «Курс русской истории» Василия Ключевского. Потом — «Русская история с древнейших времён», «Русская история в самом сжатом очерке» М.Н. Покровского в 4 томах. Ведь нашего «буржуазно-националистического» Михаила Грушевского там не было. К познанию сути Российской империи я пришёл через этих историков. Впоследствии их перелопатил и Василий Стус, после чего написал «О вороже, коли тобі проститься...». Именно так, «о вороже», а не «народе мій», как в основном публикуют, записал он мне, а я выучил позже на Урале. Дальше там было: «Державо напівсонця, напівтьми». Нет! «Державо тьми і тьми, і тьми, і тьми!». Я же, вычитав, что Москва стоит на Кучковом болоте, составил тогда кратчайшую программу для будущей Партии зелёных: «Реставрировать Кучково болото». Только тогда в мире наступит покой. Москва проглотила слишком большие куски и не может их переварить. Её неустоявшаяся кровь будет будоражить мир ещё несколько веков.
Как-то заходит Василий Долишний: «Правильно, пан Василь, учитесь. Вас сюда послали на выучку». Роман Семенюк: «Что, пан Василь, учитесь?» — «Учусь, пан Роман. А вы?» — «Всё, что мне нужно, я уже знаю». Конечно, у пана Романа 28 лет заключения.
Всего о Мордовии здесь не расскажешь. В очерке о Стусе немало написано, также в статье «Мордованный союз» — о союзе украинцев и евреев против общего врага, российской коммунистической империи.
В зону неоднократно приезжала так называемая украинская общественность во главе с кагэбэшниками. Учёные и трактористы. Вызывают нас на «воспитательные беседы». В одной из таких бесед в октябре 1975 года я очень круто с ними поговорил, потому что как раз тогда женщины-политзаключённые на женской зоне в Барашево держали длительную голодовку с требованием лечить Василия Стуса. Голодали поэтесса Ирина Калинец, художница Стефания Шабатура, Надежда Светличная, Ирина Сенык, Оксана Попович, с ними литовка Нийоле Садунайте... Было, что Ирина Калинец держала сорокадневную голодовку. Поэтому когда эти «представители общественности» спросили, какие у меня есть пожелания, я сказал им: «Верните те вещи, которые позабирали у женщин-политзаключённых, чтобы они прекратили голодовку». А у них позабирали стихи, вышивки, рисунки, экслибрисы. — «Ну, а если им нравится голодать?». Я тут взорвался и назвал их фашистами. За это меня 30 октября 1975 года из 19-й зоны перебросили в зону 17-А, в посёлок Умор (по-мордовски), посёлок Озёрный. Это уже Теньгушевский район. А 30 октября — это же как раз День советского политзаключённого. В этот день должна была быть голодовка. Я написал накануне довольно резкое заявление протеста, адресовал «США, Нью-Йорк, ООН, Комитет по правам человека» и бросил в ящик с надписью «Для жалоб и заявлений». То есть, вручил администрации. Впоследствии оно пошло мне в третье обвинение.
Где-то в начале января 1976 года меня свозили из 17-й зоны в 19-ю — в карцер. За что? За невежливость. Лейтенант Улеватый вечером пришёл делать обыск в моих вещах. Я взял зубную щётку и полотенце и демонстративно вышел в коридор к умывальнику. Улеватый за мной. «Где вы взяли такую рубашку?» — «У вас украл». А эта нижняя рубашка действительно была слишком белой, как для зоны: мать недавно прислала. Улеватый вызвал меня на разговор в кабинет. Он молодой и горячий — и я такой же. В разговоре я сказал, что суда он не избежит. Вывод: «угрожал начальнику». А ещё я случайно засиделся у деда Владимира Казновского в санчасти и — «не явился на политзанятие, а пришёл за 5 минут до окончания». 15 суток карцера. Фактически отсидел 14, потому что этапный день там среда. Сидели мы вдвоём с Августом Рейнгольдом, доктором права Тартуского университета. Без постели. Нары отстёгиваются на 8 часов, а так сидеть на столбике диаметром сантиметров 15, или ходить. Без вывода на работу, а это означает на голодном пайке: горячая пища раз в двое суток, без жиров и сахара. Но ежедневно 450 г хлеба, кипяток и соль. Одного вечера открывается «кормушка», и рука надзирателя подаёт два больших куска хлеба. Мы с Рейнгольдом молча переглянулись, взяли и немедленно съели хлеб. Ещё раз едва приоткрылась «кормушка», и на пол упали две конфетки в обёртках. Мы их немедленно съели, а обёртки свернули и в парашу (это была выварка). А они плавают. Открываются двери, надзиратель обыскивает нас, но ничего не находит. Только когда из ПКТ вернулся Паруйр Айрикян, он спросил, передал ли надзиратель хлеб. А конфеты-то он сам бросил, когда его вели по коридору. И приказал нигде никогда и никому об этом не говорить. Думаю, что теперь уже можно.
А 6 февраля 1976 года в 17-ю зону привезли этапом после операции Василия Стуса. В этот день, чтобы я не встретился со Стусом, меня везут в больницу в Барашево, держат там аж до 8 мая 1976 года. Мне там сделали операцию на геморрой — это обычная для зэков болезнь. Так что только 8 мая я вернулся в зону 17-А и встретился с Василием Стусом. Там мы провели вместе несколько месяцев. Правда, меня 9 июля 1976 года взяли на этап в Киев — «на промывку мозгов». Два месяца провёл я в дороге и в КГБ на Владимирской, 33. Кагэбэшники пытались «наставить меня на путь истинный», устроили мне несколько свиданий, в частности, приводили одну преподавательницу из университета, моих родственников привозили, моих учителей Елену Филипповну Литвинчук и Михаила Алексеевича Кравченко, но следствием всего этого было то, что 20 августа 1976 года я подал очень категоричное заявление с отказом от признания вины за собой. Написал я, что моё признание вины на суде было следствием психиатрического шантажа, а на самом деле я не считаю себя никаким преступником. Тогда в камеру ко мне подселили какого-то парня, якобы из криминальной зоны в Белой Церкви, которого «раскручивают» на 62-ю статью. Он пытался говорить по-украински, но то, что он говорил, на 62-ю не тянуло. Я не сомневался, что это подсадной, но что мне до того? Могут подсадить и худшего. Однако, когда я писал то заявление, его трясло, он вот-вот должен был бы броситься на меня. Я не дал повода и замолчал с ним дня на два — обычный способ не развивать конфликт. Дождался пятничного обхода начальника СИЗО подполковника Сапожникова и при сокамернике потребовал, чтобы нас развели. Скоро меня вызвали на разговор. Когда я вернулся, сокамерника уже не было.
Меня вернули в Мордовию обычным этапом. В дороге на перегоне из Харькова в Мордовию попался мне Николай Плахотнюк: его, беднягу, перебрасывали из Днепропетровской психушки в Казань (это же и я там мог быть!). Прибыл я в 19-й концлагерь 11 сентября 1976 года. За день до того умер Мао Цзэ-дун, так что я запомнил эту дату хорошо. Там были Василий Стус, Кузьма Матвиюк, Игорь Кравцив, Кузьма Дасив, Артём Юскевич, названные ранее повстанцы; из неукраинцев были Сергей Солдатов из Эстонии (подельник Артёма Юскевича), Кронид Любарский и Болонкин Александр Александрович из Москвы, в конце 1976 года туда привезли Владимира Осипова. Были армяне Ашот Навасардян, Азат Аршакян, Размик Маркосян, латыш Майгонис Равиньш — молоденький мальчик, 19-и лет, очень болезненный. Литовцев там было больше: Людас Симутис — такая важная особа. Знал я также Пятраса Паулайтиса — он до войны был послом Литвы в Испании, Португалии и Италии. Из молодых литовцев там были Ромас Смайлис, Вильчаускас, Казлаускас, Видмантас Повилионис, с которым мы подружились ещё в больнице. Вот это был наш круг.
Из русских... Вы знаете, русские группировались как-то в своём кругу. В основном это были люди, имевшие монархические взгляды. Они были арестованы в 1967 году в Ленинграде: у нас сидели Аверочкин и Евгений Вагин. На Урале — Садо, Огурцов. Они члены ВСХСОН — «Всероссийский социал-христианский союз освобождения народов». Организация возникла в 1964 году. Также «примкнувший к ним» Капранов. Неомарксист Саша Романов из Саратова, который в лагере сделал крутой вираж через демократию к монархизму. Остальных фамилий русских монархистов не припомню.
Б.Захаров: Были ли с ними какие-то споры?
В.Овсиенко: Когда мы проводили акции — голодовки, заявления подавали, — то, как правило, русский монархический круг в них не участвовал. Но всё-таки мы с ними общались.
Ещё хочу вспомнить еврейского русскоязычного писателя из Ленинграда Михаила Хейфеца. С ним я был в 17-й и в 19-й зонах. Это он написал о нас, украинцах, прекрасные очерки «Украинские силуэты». Они вышли в издательстве «Смолоскип» в 1983 году на русском и украинском языках. У нас переизданы в альманахе «Поле отчаяния и надежды», К., 1994 (также ХПГ издала трёхтомник М. Хейфеца в 2000 году). Этого человека я очень уважаю. Среди людей, которых я знаю, это — один из лучших. (См. очерк «Мордованный союз»).
Со Стусом я был в 17-м концлагере, потом в 19-м. Его вывезли оттуда на ссылку 11 января 1977 года. Мы ещё устроили ему прощальный вечер, заварили большую бадью чая... О В. Стусе я умышленно говорю здесь кратко, потому что подробнее описано в очерке о нём.
Оттуда можно было писать два письма в месяц. Писал матери в село и сестре Надежде в Киев, изредка сестре Любе в Донецкую область. К сожалению, из тех писем мало что сохранилось. Родственники не особо об этом заботились. Хоть они и подцензурные, но ведь какая-то информация в них была. Написал было упомянутой выше девушке, которая учительствовала, что не имею к ней никаких претензий и что мне стыдно перед ней. Она ответила, ещё и прислала переписанные от руки стихи Николая Руденко, но больше писем от неё не было. Спустя много лет я выяснил: так ей «посоветовал» кагэбэшник.
Итак, Мордовия далась мне нелегко. Это было время потерь. Но и приобретений.
ВОЛЯ НА ПРИВЯЗИ
Меня из мордовского лагеря № 19 неожиданно взяли на этап 9 февраля 1977 года. Ещё оставалось почти месяц до освобождения. Почему они так делали? Потому что пошла такая практика: политзаключённый освобождается в Мордовии, заезжает в Москву, там даёт информацию о последних событиях — и она пошла в мир. Поэтому стали этапировать в свою область, а там сразу брать под административный надзор. Путь привычный: Потьма — Рузаевка — Харьков — Житомир. В Житомирской тюрьме я до предпоследнего дня отказывался фотографироваться в их гражданской одежде. А ещё я отпустил усы. Не потому, что хотел покрасоваться, а вот почему. Ещё летом 1974 года я был в больнице в Барашево. И как раз там был Василий Лесовой. Вот нарадовались разговорам! А электрической бритвы (их только что разрешили) не было ни у него, ни у меня. Какой-то скрябалкой брились — так мучились. Так чтобы уменьшить территорию мучений, оставили усы. Хоть в деле мы сфотографированы без усов, но никто к усам не придирался. Когда же разрешили иметь электрические бритвы и одновременно начали кампанию борьбы с усами и бородами, то я без сожаления сбрил их. Но за три месяца до освобождения уже можно не стричься, так что я снова перестал брить под носом и приехал в Житомир совсем усатым. А тут нужна фотография на справку об освобождении. И чтобы был таким, как во время ареста. Я не соглашаюсь. Фотографируют с усами — так и есть на справке об освобождении. Но в последний день перед освобождением всё-таки ведут меня в баню, заламывают руки и состригают усы машинкой. Я уже не очень-то сопротивлялся.
А ещё возили меня там в Житомирское КГБ. Разговаривал со мной майор Радченко (впоследствии он вёл дело Дмитрия Мазура и допрашивал меня). Обычные наставления. В кабинете висела довольно детальная карта нашего края. Кагэбэшник разрешил мне рассмотреть её поближе и объяснил, что это довоенная советская военная карта, которую достали из бидона, закопанного в лесу под Березцами Радомышльского района. Дети ходили на лыжах в лес, разложили костёр и грелись. Едва отошли, как на месте погасшего костра произошёл взрыв. Позвали сапёров. Это была бомба времён войны. А неподалёку сапёры нашли бидон с этой картой и документами походной боёвки УПА, которой командовал некто с псевдонимом «Роман». Тогда я вспомнил (про себя, конечно, не для кагэбэшника), что мне Даниил Шумук рассказывал, как водил свою боёвку по нашим краям. Есть снимок: большая группа знаменитых теперь шестидесятников в Малинских лесах где-то в 1971 году. Это их на «место боевой славы» привёз сюда Шумук. А Дмитрий Синяк точно был с боёвкой в лесу возле моего села! Да и в моём селе двое повстанцев в 1947 году наведались на выпускной вечер, разоружили «уполномоченного» из района и расстреляли на стене портрет Сталина. Один бандеровец выступил с речью перед выпускниками. Потом они забрали с собой «уполномоченного» и директора школы Александра Прокоповича Демченко, завели в овраг, связали и оставили. А ещё связали сторожа магазина — и тоже туда в овраг. Набрали себе продуктов и через Тетерев — в лес. Утром председатель сельсовета Сергей Иосифович Науменко поднял шум, вызвал из Радомышля милицию: бандеровцы убили директора, убили «уполномоченного», убили сторожа! А те как раз идут из оврага. Мальчик нёс деду-сторожу завтрак, наткнулся на деда и развязал его. (Об этом мне рассказал мой приятель Иван Розпутенко, который учился тогда на экономическом факультете и несколько раз тайком приходил ко мне).
Вы не поверите: перед моим освобождением затряслась земля! Да-да, было землетрясение с эпицентром в Румынии. Где-то около 23 часов 4 марта слышу: качаются мои нары. А в камере ещё один заключённый, немного старше меня. Его нары и мои соприкасаются под углом 90 градусов. «Чего ты качаешь нары?» — «Я думал, что это ты качаешь». Слышим, вся тюрьма ходуном ходит и гудит. Зэки загомонили, менты забегали: «Землетрясение!». Вот, думаю себе, четыре года отсидел и в последнюю ночь придавит меня? Но тюрьма крепкая, да чёрт ей рад.
Так вот, меня подержали до последнего дня в Житомирской тюрьме и освободили 5 марта 1977 года. Пока я дошёл со своим рюкзаком, полным книг и тетрадей, до автовокзала (там близко), тот, кто выпускал, уже на вокзале. Взял мне билет на автобус до Радомышля. Ещё в тюрьме мне строго-настрого приказали в Радомышле идти не домой, а в милицию. И всё же я нарушил наставление и по дороге зашёл в церковь (денег у меня и на свечку не было), а уже потом в милицию. Там мне сразу зачитывают постановление об административном надзоре. Всё, я уже на крючке: я не имею права выходить из дома с десяти часов вечера до шести утра, мне нельзя ездить за пределы района, я должен приезжать на отметку в раймилицию каждые две недели. Такой режим установили. Я ещё немного встал в позу, потребовал перевести мне постановление на украинский язык, но всё равно не подписал его. То есть заложил основу новой конфронтации.
Под вечер приехал автобусом домой. Захожу во двор — слышу, сечкарня в сарае потихоньку так чихает. Это мать сечку режет корове. Но я сперва перекрестился и прислонился к косяку родного дома, потом пошёл к матери. Мать сегодня и не ждала меня: это же когда я из той Мордовии приеду...
«Очередной этап» начался с того, что наварили мы в печке картошки и тихо поговорили. А уже завтра пошёл я к брату Владимиру и на почту и отбил несколько телеграмм, что я уже дома.
Первое, что я сделал дома, — это закинул на грушу медный провод в качестве антенны, настроил старенький приёмник и припадал к нему ухом по вечерам и утрам. В провинции, далеко от глушилок, можно было услышать почти всё, что передавало радио «Свобода» и «Голос Америки», тем более что сообщения повторялись. Узнал, что уже с 9 ноября 1976 года действует Украинская Общественная Группа содействия выполнению Хельсинкских соглашений, что её основатели Николай Руденко и Олекса Тихий уже даже арестованы.
Конечно же, сразу после освобождения я сообщил в Киев и в Москву, что я здесь, но под надзором, намекнул, что надо приехать ко мне, потому что есть информация. Я подготовил рукопись в двух экземплярах. Первым приехал из Киева Ильин. Я забыл его имя. Кажется, Игорь. Это по наущению Владимира Осипова. Я передал ему написанную дома мелким каллиграфическим, как в прописях, почерком информацию о последних событиях в мордовских концлагерях. Как мне потом стало известно, она появилась в «Хронике текущих событий», говорили, в номере 42-м (или 47-м). Я сам этого не видел, но слышал по радио «Свобода». Письменной информации я из зоны не вывозил. Но у меня была большая кипа конспектов, среди них две тетради со стихами Василия Стуса. На удивление, на них не обратили внимания, потому что у меня было немало переписанных разных стихов и народных песен. Нет, всё-таки у меня были стихи Стуса, продублированные на вырезках из журналов. Я долго переписывал их содой между строк. Этому меня научил Александр Болонкин: растворяешь в воде соду, набираешь в ручку и пишешь. Делал я это в той самой читальне, имея две ручки: одну с чернилами, а вторую с содой. Как-то не попался. Если хорошо приглядеться, то можно заметить, что эта сода на бумаге немного блестит. Дома я попробовал, как читается тайнопись. Нагрел бумагу утюгом. Текст проступает, но прочитать его было бы тяжело. Но ведь эти тексты, говорю, я и так вывез, в тетрадях.
В начале апреля ко мне из Киева приехали Николай Матусевич — член-основатель Украинской Хельсинкской группы, его жена Ольга Гейко-Матусевич, дочь Олеся Бердника Мирослава и Люба Хейна — она теперь жена Мирослава Мариновича. Николай взял у меня второй экземпляр информации о событиях в Мордовии. Говорил, что её используют при написании документов Украинской Хельсинкской группы. Они привезли большую белую паляницу, кролевецкий рушник и пучок калины, впервые в жизни спели мне «Многая літа». Мать даже прослезилась. Потому что радостей её сердце мне не предвещало. И моё тоже.
Получил я вежливый ответ на письмо, что «моя девушка» в 1975 году «записалась» (так и было написано, потому что это же не венчание, а только запись) с местным учителем, уже у них есть дочь. (Впоследствии и сын). Письмо я получил под вечер, так что дотемна обрезал и стягивал ветки в саду, чтобы мать не увидела моего состояния. Я не собирался нарушать режим надзора и не порывался никуда ехать. Мне было суждено не видеть её 16 лет: с 1973 по 1989. Да и первая девушка уже сошлась с моим приятелем. Поднадзорному нечего было и думать как-то решать эту, по-учёному говоря, «матримониальную проблему». Я не сомневался, что меня снова посадят, поэтому не хотел никого обманывать и никому причинять страданий. Сергей Бабич говорит: «Раб не должен рождать раба». Маркс, которого мы все так любим, как-то сказал, что никто не причиняет столько страданий своим родным, как тот, кто борется за всеобщее благо.
Пришло письмо от Петра Григоренко из Москвы. Короткое, на открытке. Написал на украинском языке, с ошибками, правда. Примерно так: «Хорошо, что Вы сразу определились». Поэтому можете встретить в некоторых изданиях, в частности, в книге «Украинская Хельсинкская группа. 1978–1982», что я член Украинской Хельсинкской группы с марта 1977 года. Но тогда ещё не было такой договорённости, что я становлюсь членом Группы. Хотя есть документы УХГ с лета 1978 года, под которыми кто-то поставил мою фамилию, я считаю себя членом Группы с 18 ноября 1978 года, когда ко мне в Ставки приехала Оксана Яковлевна Мешко и я дал такое согласие. И то я её просил меня пока не объявлять членом Группы, а только тогда, когда меня арестуют. Эти визиты описаны в моём очерке об Оксане Мешко «Казацкая матерь».
Николай Матусевич и Мирослав Маринович были арестованы уже 23 апреля 1977 года. Меня начали вызывать на допросы по их делу. Я не давал никаких показаний. Кагэбэшники допросили мою племянницу Люду Рябуху, которая на свою беду как раз в тот день тоже приехала из Киева в село и видела этих людей. Она тоже не давала показаний против них. Мол, были какие-то люди, но я с ними не знакомилась, была на кухне, разговоров не слышала. Кагэбэшники перехватили моё письмо к Люде, где я давал ей наставления, чтобы она не отвечала на вопросы. Это они расценили как моё давление на неё. Но это были всего-навсего советы, как себя вести во время допроса.
Чтобы меня не посадили как «тунеядца», через месяц после освобождения пришлось устроиться на работу в колхозе художником-оформителем. Меня хотели взять в бухгалтерию, чтобы был на виду, но я не захотел и сам попросил, не нельзя ли тем маляром, потому что как раз мой брат Владимир бросил эту работу. Председатель колхоза Владимир Андреевич Миненко посоветовался с кагэбэшниками, и те не возражали. Хоть с работой у меня не было мытарств, как у других «отсидентов». Перед этим я добивался работы по специальности, учителем украинского языка и литературы. Но мне приходили одинаковые ответы из районо, облоно, Министерства образования, что, мол, я уволен за «аморальный поступок», поэтому нельзя меня допустить к работе в школе. Будто я ученицу изнасиловал... А кроме того, и вакансии для меня нет. Конечно, это была неправда, место было — если не в моём селе, то в соседнем. Эти заявления я передал в Киев и Москву, некоторые из них публиковались в прессе за границей. (См. Українська Гельсінкська Група. 1978—1982. — Торонто-Балтимор: Смолоскип, 1983.— С. 493–530. Некоторые привожу в конце второй книги как документы времени).
Месяца через три после моего освобождения были какие-то выборы. Я, как колхозный художник-оформитель, призывал всех на выборы, а сам не пошёл. Тогда участки наперегонки рапортовали в округ, что уже проголосовали 99,99% избирателей. А назавтра сообщалось, что 99,99% избирателей проголосовали «за» единственного кандидата блока коммунистов и беспартийных. Я тогда рассказывал анекдот о первых выборах советского типа: «Сотворил Бог Адама, выломал у него ребро и сделал из него Еву. Поставил её перед Адамом и говорит: „Выбирай, какую хочешь!“».
И вот часов в 10 утра приезжает ко мне секретарь избирательной комиссии: «Почему не идёте голосовать?» — «Потому что не хочу».
Через час приезжает председатель избирательной комиссии с председателем колхоза Миненко: «Почему не идёте голосовать? Вы же имеете право». — «Право — не обязанность. Я не хочу воспользоваться этим правом».
Присылают членов избирательной комиссии с урной.
Часов в 14 приезжает Герой социалистического труда, председатель райисполкома Тарасюк. Разговор тот же: «У нас в районе 42 тысячи избирателей, один вы не голосуете. Почему?» — «Я не желаю воспользоваться правом голоса. По личным соображениям, которые не желаю объяснять». — «Ну, смотрите, как бы не было хуже».
Участок не может отрапортовать о досрочном окончании выборов, район не может, область не может и вся УССР не может! Ждали меня до 20 часов — я так и не пришёл. А Маяковский говорил: «Единица — вздор, единица — ноль»... Наверняка не один я не голосовал, но ведь мой бюллетень не посмели вбросить в урну: а ну как я в последнюю минуту передумаю и приду?
Во время копания картофеля в 1977 году ко мне в село приехала Ольга Гейко, которая уже 13 мая стала членом УХГ. Приехала на какой-то легковой машине с будкой. На таких продукты развозят по магазинам. Вёл ту машину какой-то Юра. Я подумал себе, что Ольга знает, с кем ездит, и в его присутствии дал Ольге тетрадь со стихами Василия Стуса. Мать дала им борща пообедать, и они уехали себе. Через несколько дней Ольга вызывает меня на почту к телефону и говорит: «Юра оказался кагэбэшником. Ждите неприятностей: у моего отца провели обыск и забрали тетрадь со стихами Стуса». А потом через кого-то сообщает, что она с друзьями хочет приехать ко мне в субботу (вероятно, 6 сентября), но просит встретить их в Радомышле, а не в селе, чтобы им в тот же день вернуться в Киев. На пятницу, 5 сентября, меня внеочередно вызывают в милицию в Радомышль. Не хотелось мне уже ехать на встречу с киевлянами в субботу, но не было как им сообщить, чтобы не ехали. Со страхом еду в пятницу в милицию. Меня обвиняют, что поддерживаю связи с антисоветскими элементами. То есть посылаю письма политзаключённым и их родственникам. А ещё я послал посылку сухих яблок Василию Стусу на Колыму. Вложил туда пучок калины. Как потом узнал, посылка шла два месяца, потому что прокурор Радомышльского района Ситенко наложил было арест на мою корреспонденцию. Где-то тогда я услышал, что на Колыме терроризируют Василия Стуса, что он сломал там ноги. Я обратился с письмом к тамошним врачам. Круто написал: врачи обратились в КГБ, чтобы защитил их от меня. Защитил...
Так вот, запирают меня одного в кабинете часов на два. Думаю, это уже не выпустят. Вот, наверное, санкцию на арест выписывают. Жаль стало: всего полгода пробыл на свободе, и передохнуть не успел, и не сделал ещё ничего. А мать! Нет, мне тогда лишь продлили надзор, усилив его: теперь на подписку в раймилицию надо ездить каждую неделю, а дома сидеть с 9 вечера до 6 утра. Получив вчера предупреждение, еду завтра в Радомышль на встречу с киевлянами! Из автобуса вышла Ольга Гейко, а с ней ещё люди. Познакомились: Евгений Обертас, Анна Коваленко и ещё кто-то. Может, Люба Хейна. Мимо нас демонстративно проходит капитан Горай, мой надзиратель (к нему я ездил на отметку). Я обратил на это внимание своих гостей. Пошли мы по мосту через Тетерев на луг, сели так, чтобы и кусты были далеко. Чтобы нас не подслушивали. Поговорили о делах Хельсинкской группы, о моём положении. Они ничего не могли мне посоветовать, потому что и сами как по лезвию ходят.
А дня через два меня вызывают в КГБ в Житомир. Кагэбэшник крайне возмущён: «Как так, только что вас предупредили, а вы встречаетесь с теми людьми?!» Во время допроса заходит тот самый Юра в лейтенантских погонах. Думаю, зачем такая примитивная демонстрация? Совсем не стесняетесь своего цинизма. «И борщ ели?» — «Да, хороший борщ был». Я не захотел говорить с этим лейтенантом Юрой, а кагэбэшнику объяснил, что не было возможности сообщить киевлянам, чтобы не приезжали. А не выйти на обещанную встречу было бы невежливо. Кажется, кагэбэшник мне поверил.
Осенью начала появляться информация на радио «Свобода» о моих тяжбах за работу, о надзоре и допросах по делу Матусевича, Гелия Снегирёва (я просто послал ему открытку, услышав адрес по радио). 22 октября мне вынесли предупреждение, что если бы я в дальнейшем допустил поступок, который бы нанёс вред государству, то буду привлечён к уголовной ответственности. Это на основании Указа Президиума Верховного Совета от 25 декабря 1972 года — был такой Указ. Таким образом, я уже был на крючке.
В селе у меня был единственный искренний приятель — Василий Канчур. Немного младше меня. Присланный в колхоз ветеринар. Искреннюю душу видно: с ним единственным я разговаривал на политические темы откровенно. Он заходил ко мне в клуб рядом с конторой, где мне была отведена комната под мастерскую художника-оформителя. Я был на виду: в конторе кочегаром и посыльным работал, как говорили, бывший полицай Олексенко, муж аптекарши (они не из нашего села), пьяница и дебошир. Поэтому он на крючке у участкового милиционера Базленко, кабинет которого в той же конторе, как раз напротив моей мастерской. Было, что Базленко отправлял Олексенко на 15 суток. Понятно, что такой послушно выполнял обязанности моего надзирателя. Он впоследствии был мне «свидетелем» того, чего не было. Заходили в мастерскую и другие парни, чтобы посидеть, одолжить трёшку на водку. «Потому что и погода говорит: одолжи, но выпей». Я порой отказывался одалживать на водку, так они говорили, что на хлеб. А с хлебом были перебои: как привезут его в магазин, который тоже рядом, так сбегается всё село. «Очередь — это социалистический подход к прилавку», — шутил я. «При развитом социализме хлеба не хватает, а что же это будет при коммунизме?». Эти насмешки мне впоследствии были инкриминированы: доносы писал заслуженный деятель культуры УССР Александр Прокопович Демченко, завуч школы детсанатория (тот самый, которого бандеровцы связали в 1947 году). Ребята же сообщали, что с тем или иным разговаривал участковый. Подговаривал Андрея Григорьевича, чтобы завёл меня куда-нибудь, чтобы я опоздал домой к 10 часам. — «Так он никуда не ходит». — «Так напои его». — «Так он не пьёт».
Давление на меня возрастает. Председатель колхоза Миненко (явно с чужого голоса — это же слышно) вызывает меня и неуверенно так упрекает за нарушение трудовой дисциплины. Пишу аргументированное объяснение: это я ездил в раймилицию на отметку.
Прислали в село из Коростышева супружескую пару: Галина и Олег Кравченко. Я поддерживаю с ними нормальные, так сказать, дипломатические отношения. Галина назначена директором дома культуры (то есть клуба), Олег — руководителем художественной самодеятельности. Они окончили культпросветучилище и принесли в наше село свою «высшую» культуру: разговаривают по-русски, организовывают «мероприятия» и всё ломают наших детей на «великую русскую культуру». Олег хилый, уже совсем спившийся, часто на работу не выходит, потому что занят поисками водки или лежит пьяный. Галина явно им недовольна, тянет работу за двоих. Вот этим и задумала воспользоваться кагэбэшня.
Вход в кабинет директора — через мою мастерскую. Зашёл как-то парень постарше меня, любитель одолжить и выпить. Может, и выпивши, но явно переигрывает: сел в кресло в уголке и будто дремлет. А тут Галина зовёт меня в свой кабинет посмотреть какой-то альбом, хотя могла бы и поднести его ко мне. «Нет времени», — говорю. Она настаивает, чтобы всё-таки зашёл. Я стал на её пороге в своём заляпанном краской халате, с кистями в руках — и Господь меня предостерёг: не заходи. Я взглянул на альбом издалека: «У меня руки грязные. Да и это меня не интересует». И вернулся к своей работе. Галина сделала вид, что обиделась, через несколько минут заперла свой кабинет и ушла. Парень тоже не задержался: спектакль не состоялся. И свидетель не состоялся. Хотя подобные «дела о попытке изнасилования» тогда проходили и совсем без свидетелей. Лишь бы было заявление «потерпевшей».
Впоследствии, на третьем моём следствии, в 1981 году, майор Чайковский устроил Галине очную ставку со мной. Хоть я и не давал никаких показаний, однако следователь хотел, чтобы она меня обличала в лицо. Вместо этого Галина (уже она Петровская) так разрыдалась на той очной ставке, что не могла говорить! Даже я (вне протокола) должен был её успокаивать. Наверное, её мучила совесть: её принуждали разыграть сцену с «попыткой изнасилования», а она же видела, кто я такой, и не хотела исполнять такую постыдную роль. Наверное, тогда отрапортовала, что объект не поддаётся на её прелести.
Я чётко осознавал своё положение и на всякий случай по улицам села ходил осмотрительно: где люди держатся в метре от машины — я в двух. Ни разу я не нарушил режим надзора. Несколько раз после 22-х приходил сам участковый, бывало с председателем сельсовета Николаем Прохоровичем Сутковеноком (мой бывший учитель астрономии и черчения), а то с несколькими депутатами сельсовета. Порой заходили в дом и чувствовали себя очень неловко. Я не затевал и не поддерживал разговоров с надзирателями: пусть себе мучаются. Однажды пришли целой толпой, вызвали меня во двор. Я вышел с фонариком: «Ого, сколько вас! А кто там за жасмином прячется?». И посветил туда. Это был муж знатной звеньевой Марии Василенко. Скоро он почему-то повесился.
Господь хранил меня. Вот доказательство. В лесу можно было заработать дров, расчищая его. В воскресенье (потому что когда советский народ должен был работать на себя? Только в воскресенье) пошли мы с братом Владимиром. А в следующее воскресенье надо было поехать на велосипеде и мелкие ветки сжечь. Брат говорил жечь одновременно не более трёх куч, чтобы контролировать их. А тут с ужасом вижу, что огонь побежал по коре сосны вверх! Я сбил его лопатой… Притушил костры, встал на колени и искренне поблагодарил Спасителя. Если бы я устроил тогда пожар в лесу, то терзался бы из-за него всю оставшуюся жизнь. КГБ не упустило бы такой «счастливой» возможности…
Как-то осенью, в дождь и слякоть (уже темно было, мать уже легла) заходит мой школьный друг, капитан Советской Армии. Оказывается, ехал на военной машине и остановился вот, чтобы проведать меня. Спрашивает, есть ли выпить, чтобы согреться. Я достал из шкафа бутылку, в которой было немного водки, налил ему, что-то поставил закусить. А сам не пью. Капитан пытается говорить о политике, но я реагирую неохотно. Тогда мой друг неожиданно плеснул мне в лицо ту водку: «Предатель!». Я молча по-христиански утёрся... Нет, умылся, утёрся и снова сел за стол. Он извинился и ушёл. До сих пор не понимаю, для чего это ему было нужно? Советский Союз, которому он прослужил 25 лет, уже умер, так мог бы и объяснить, не предавая покойника.
Под Новый 1978 год приехал ко мне Дмитрий Мазур из Гуты-Логановской соседнего Малинского района. Услышал обо мне по радио «Свобода». В моём положении всегда следует быть осмотрительным, но этот человек не вызывал подозрений. Он на «ленинском уроке» в 1971 году рассказал ученикам о голоде 1933 года, о репрессиях, о советских «выборах без выбора» — и был уволен с работы как «профессионально непригодный». Затем отсидел год как «тунеядец». Свой человек. Было приятно, что нашёлся на всю округу хоть один незапуганный человек со здравым мышлением и чётким пониманием нашего положения. «Знайшовсь таки один козак із міліона свинопасів». Он приезжал ко мне несколько раз, каждый раз появляясь неожиданно — и с другой стороны. Иногда приходил прямо из леса, чтобы меньше кто его видел.
7 января 1978 года я подал заявление в Радомышльский отдел виз и регистрации (ОВИР) с просьбой выпустить меня за границу, потому что здесь мне нет работы по специальности и вообще одна перспектива — заключение. Лучше я буду на чужбине и на свободе, чем на чужбине же — в неволе. Ответа — никакого. Лишь много позже я узнал от Ивана Николаевича Боровского из Коростышева (бывший политзаключённый), отца Виктора Боровского, который уже работал на радио «Свобода», что за меня ходатайствовал профессор Чинченко из Канады, прислал вызов. Но мне уже готовили «визу» в другую страну.
Вызывают меня в Житомир на допрос по делу арестованного 12 декабря 1977 года Левка Лукьяненко. Изъяли у него мои письма. Я сказал кагэбэшникам, что читать без разрешения чужие письма — это аморально. Подписать протокол отказался, потому что на нём написано «Протокол допроса свидетеля», а я не был свидетелем никаких преступлений Лукьяненко. Перед этим я переписывался был с Лукьяненко, который так же сидел под надзором в Чернигове. Он посоветовал мне купить за 135 рублей через «Посылторг» пишущую машинку «Москва». «Друкарню», как писал Игорь Кравцив. Это слово через нас даже вошло в лексикон гэбистов.
Несколько раз приезжала ко мне Вера Павловна Лесовая. Как правило, привозила какую-то денежную помощь: она была распорядительницей фонда Солженицына в Украине. Рассказывала, какие ей устраивали приключения. Однажды приехала с такой красивой девушкой, родственницей Василия Лесового, что я даже подумал, что это неспроста. Но ведь я «на крючке», я невольник… Ольга Бабич-Орлова, сестра Сергея Бабича, приезжала по заданию Оксаны Яковлевны Мешко выяснять, как произошёл провал со стихами Стуса. Я написал, что это не по злому умыслу, а по неосторожности Ольги Гейко. Дважды приезжал из Бердичева бывший политзаключённый Владимир Воденюк. Иногда приходили посылки с одеждой из Москвы. Мной опекала Нина Петровна Лисовская. Переписку я вёл довольно обширную: с политзаключёнными, со ссыльными и их семьями. Среди моих адресатов тогда были Кузьма Матвиюк в Хмельницкой области, Игорь Кравцив в Харькове, Александр Болонкин в Бурятии, Ирина Калинец в Читинской области, Василий Романюк и Вячеслав Черновол в Якутии, Василий Стус в Магаданской области, Михаил Хейфец в Казахстане и многие другие. В лагеря писал многим, но это пишешь как в пропасть: не знаешь, получил ли адресат письмо. Поэтому я посылал письма с уведомлениями о вручении. Тогда возникала проблема вырваться в рабочее время на почту. Но и такие письма часто пропадали. Писал жалобы. Всё это съедало время и нервы. Но я чувствовал, что не оставлен один, потому что и я многих поддерживал духом.
МОЯ «КРЁСТНАЯ МАТЬ»
18 ноября 1978 года ко мне в село со стыдным названием Ленино (до 1924 года — Ставки) приехала Оксана Яковлевна Мешко. Вдвоём с сестрой политзаключённого Сергея Бабича — Ольгой Орловой (она жила в Житомире).
За мной шпионило несколько землячков, за Оксаной Мешко — целое сонмище кагэбэшников, поэтому приезд её не был тайной для вездесущих «органов». Более того, эти «органы» сами и привезли Оксану Яковлевну и Ольгу в село. Поскольку до очередного автобуса в Радомышле было ждать долго, Оксана Яковлевна пошла вокруг автостанции искать попутную машину. И нашла: какие-то любезные мужчины из «газика» сказали, что они как раз в Ленино и едут. В дороге оказалось, что им нужно как раз к моим соседям. Вот так повезло! Привезли прямо под наши ворота.
Была суббота, я в тот день помогал сестре по другой линии Елене Оверковской, которая жила на соседней улице, резать сечку. А мать как раз принесла вязку хвороста из посадки. Оксана Яковлевна сходу набросилась на мать, что та-де носит дрова не потому, что нет их во дворе, а потому, что без работы не усидит.
Мать позвала меня домой, и я мимоходом заприметил тот «газик», что стоял уже у других соседей.
Об Оксане Яковлевне я уже немало наслушался от гостей из Киева, которые время от времени решались приезжать ко мне, поднадзорному, а также через радио «Свобода», которое слушал каждый вечер, а то и утром, потому что по утрам оно как-то легче пробивалось через глушилки. Одетая в демисезонное, старенькое уже, но опрятное пальто, в ботиночках с потёртыми носками, живая в движениях и мыслях, она и говорила на языке старой, такой редкой уже, украинской интеллигенции, однако не отличаясь чем-то особенным от языка моей матери. Пока я вымывал по совету Оксаны Яковлевны прямо в тарелке с водой соринку из глаза, они уже нашли общий язык, готовя обед. Как водилось, в доме о цели приезда не говорили. После обеда вышли на улицу, потому что должны были зайти к сестре забрать часы, которые я там забыл, а затем идти на автобус. Предполагая, что гостей, возможно, мне придётся провожать аж до Радомышля, я прихватил с собой фонарик. Итак, идя по улице, говорили уже о делах Украинской Хельсинкской Группы.
— Василий, некому работать в Группе...
Посмотрел я на бабушку Оксану, которая чуть ли не в одиночку бьётся с целой Империей Зла, посмотрел на себя — всё-таки какие-то штаны носишь... И я решился. Только договорились, что я пока буду «не на поверхности». Потому что кто подписывает документы Группы — тому недолго быть на свободе. Взялся я написать о положении таких как сам поднадзорных и политссыльных. Это должно было означать, что меня «вычислят» и возьмут чуть позже. Когда же арест будет неизбежен или когда уже арестуют — тогда пусть объявят меня членом Группы. Эти тексты я через несколько дней написал и передал в Киев, вероятно, через Дмитрия Мазура (и вижу, что они использованы в документах УХГ почти дословно: Информационные бюллетени УХГ. Торонто – Балтимор. – 1981 – С. 56 – 60; Українська Громадська Група сприяння виконанню Гельсінкських угод: В 4 т. Т. 3. / Харків: Фоліо, 2001. С. 111 – 116. Впоследствии Юрий Литвин говорил, что обрабатывал их).
Надо сказать, что сила нашего правозащитного движения 60–70-х годов была именно в этой открытости: люди действовали не подпольно, а честно ставили свои подписи и адреса под документами, прямиком идя в тюрьмы. Скрывалась лишь техническая сторона дела, некоторых держали в резерве — иначе ничего сделать не удалось бы.
Так что я решился, хотя уже с 22 октября 1977 года имел официальное предупреждение от прокурора Л. Ситенко, админнадзор мне продлили в третий раз на полгода да ещё и ужесточили — за «связи с антисоветскими элементами, находящимися в заключении» (то есть за подцензурную-таки переписку!) и за декларированное намерение выехать за границу, потому что здесь мне не дают работать по специальности. Одним словом, положение моё было очень шатким. Оксана Яковлевна чётко осознавала, к чему меня побуждает, понимал и я, к чему прикасаюсь, но ничего не поделаешь.
Около пяти часов вечера пришли мы на автобусную остановку, что неподалёку от нашего дома. Мимо нас промелькнул «газик», остановился метрах в двухстах, развернулся — и прямиком к нам. Выскакивают из него участковый милиционер Владимир Базленко и майор Виктор Славинский:
— Кто вы такие и почему вы здесь?
Не успел я опомниться, как моя гостья уже сообразила:
— Я Оксана Яковлевна Мешко, а вы кто и почему вы здесь? — и уже достаёт из сумочки свой паспорт. Ольга тоже раскрыла сумочку.
— Садитесь в машину, поедем в сельсовет, там разберёмся.
И уже плотно обступили нас, хотя мы не собирались убегать или сопротивляться. Как появился ещё один человек, в чёрной гражданской одежде.
Втиснулись в «газик» — «человеку в гражданском» не хватило места, ведь Базленко и Славинский раздобрели на казённых харчах, а ещё же есть водитель.
Поскольку нападавшие не представились, то за километр дороги я успел рассказать моим гостям, что Базленко — это, считайте, мой одноклассник, он из соседних Кичкиров к нам два года в школу ходил и учился в параллельном со мной классе, а к Славинскому я каждую неделю езжу в раймилицию на подписку. «Это мои надзиратели», — так и говорил.
У сельсовета — многолюдно. Потому что тут же и контора колхоза, как раз выдают зарплату.
— Добрый день, люди добрые. Видите, какая нам честь и слава, с какими почестями нас ведут! — разглагольствую себе, ведь надо же что-то говорить в этих неловких обстоятельствах. (Пьяница Иван Олексенко впоследствии засвидетельствовал, что я поздоровался: «Слава Украине!», а Оксана Яковлевна: «Хайль Гитлер!» И об этом меня следователь всерьёз допрашивал).
Завели нас в приёмную сельсовета. Допытываются, кто да что, будто не знают. Я вмешался:
— Почему вы нас задержали? Разве мы нарушили чем-то общественный порядок? Отпустите, а то мы на автобус опоздаем.
Тогда меня завели в кабинет секретаря сельсовета Николая Ивановича Сергиенко, который только что оттуда быстренько вышел (наверное, его очень категорично попросили освободить кабинет), посадили возле меня Базленко. Делать нечего, говорим себе о том, о сём, вот, например:
— А почему ты водки не пьёшь? Я понимаю, когда человек болеет, другой денег жалеет, третьему жена не разрешает...
Я догадался, почему участкового интересует именно это: через парней он делал неудачные попытки напоить меня и завести куда-нибудь, чтобы я нарушил режим админнадзора.
— Да не то чтобы совсем не пил, но я выпиваю за год столько, сколько ты за один раз. А водка ещё никому ума не прибавила, потому и избегаю её.
Вдруг через каких-то полчаса двери открылись, я увидел Оксану Яковлевну, которая сидела на диване с паспортом в руке, а возле неё — «человек в чёрном». Я стал на пороге:
— Что они от вас хотят, Оксана Яковлевна?
Кто-то захлопнул дверь перед моим носом.
Через некоторое время гомон стих. Позвали Базленко. Сижу один. И тут забегает распалённый Славинский:
— Садись, ...твою мать! Кто эти женщины и почему они приехали?
И собирается писать протокол.
— В таком тоне я с вами разговаривать не буду. Почему вы нас задержали, что вам от нас надо?
— Садись, говорю, не то я тебя так посажу, что ты не встанешь! Я тебе покажу! Я тебя посажу! Отвечай на вопрос!
— Не буду отвечать, пока не объясните причины задержания.
Милиционер выскочил, приводит какую-то незнакомую мне девушку (впоследствии оказалось, что это машинистка раймилиции Галина Ковбасюк, которая «случайно» была в то время в селе) и Ивана Овсиенко, шофёром работает в колхозе.
— Вы приведены понятыми подтвердить, что задержанный отказывается отвечать на вопросы работника милиции.
— Именно так, отказываюсь, потому что с нами обращаются по-хулигански. Мы не нарушали общественного порядка.
Пишет, зачитывает протокол. Я замечаю, что написано неправильно, призываю понятых не подписывать. Но они покорно подписывают. Сначала выходит девушка, потом Иван.
— Иди и ты.
Выхожу, миную уже приёмную.
— Обожди.
Останавливаюсь в дверях, держась за ручку. Тут Славинский бросается на меня с матом, хватает за воротник — и в дверь. Я не то чтобы испугался — скорее удивился, что со мной такое творят, но догадался, что надо кричать:
— Спасите, бьют!
Но в коридоре уже никого нет. Они разогнали всех людей и, как впоследствии мне сказали, прекратили выплату зарплаты, выгнали всех работников сельсовета. Одним словом, свергли советскую власть в селе.
В коридор заходят «человек в чёрном» и председатель сельсовета Сергей Иосифович Науменко:
— Что такое, что случилось?
— Да вот этот хулиган, этот хам набросился на меня и хотел бить!
— Никто тебя не бил. На тебе следов побоев нет.
«Человек в чёрном» явно ведёт себя как старший, ведёт меня в приёмную, приглашает садиться.
— А вы кто такой?
Он достаёт «красную книжечку», подаёт, но из рук не выпускает. Я вслух читаю:
— «Смаглий Иван Евстахович, Житомирское областное управление внутренних дел».
Хотя это слышали Науменко и Славинский, но впоследствии такого человека «не оказалось» во всей области.
Смаглий посоветовал мне идти домой, потому что ко мне, мол, никаких претензий нет, ничего из этого не будет. Но двух парней, чтобы проводили меня до дома, всё-таки «прикомандировал» — в чём они мне по дороге и признались.
Через несколько дней я выяснил, что под сельсовет пригнали «воронок», куда под руки вынесли Оксану Яковлевну, заперли в него и Ольгу и увезли их куда-то. Что-то надо делать. Разве можно, чтобы так грубо обращались с моими гостями — и я промолчал?
1 декабря я, как джентльмен (ведь в моём присутствии оскорбили женщин!) подал большое заявление прокурору района Леониду Ситенко, где обложил каждое действие «правоохранителей» статьями Уголовного кодекса, Декларации прав человека, Международного пакта о гражданских и политических правах, Заключительного акта Хельсинкского совещания. Результат не заставил себя ждать: через неделю, 8 декабря, снова поехал я на подписку в милицию. Меня встретил Славинский. Он прямо сиял от счастья:
— Иди в прокуратуру, там тебя ждут.
Прихожу — и мне следователь Дяченко Кузьма Иванович объявляет о возбуждении уголовного дела... против меня. Будто я на улице села отказался отвечать на вопросы милиционеров, запрещал женщинам что-либо отвечать, а в сельсовете «всячески препятствовал милиционерам выполнять их служебные обязанности», «оскорблял их непристойными словами», а потом «бросился на Славинского, который стоял в дверях, вытолкал его за дверь, оборвав на его плаще две пуговицы»...
Показания пишу собственноручно, чтобы не было искажений, доказываю бессмысленность обвинения. Но что доказывать очевидное людям, которые хорошо знают, как оно было, но выполняют задание своей партии и её «боевого авангарда» — КГБ, руководствуясь при этом не доказательствами, а «социалистическим правосознанием» и «внутренним убеждением»? Что с ними говорить о совести, когда она у них — партийная?
Следователь Дяченко в дополнение к админнадзору по санкции прокурора Ситенко берёт с меня ещё и подписку о невыезде. (Было, что я во время следствия попросил начальника милиции капитана Бугая отпустить меня в Киев на свадьбу к племяннице Люде. «На пьянки нечего ездить», — рявкнул Бугай. На что я ответил: «Вы меня, наверное, по себе меряете». А Кузьма Матвиюк звал меня в кумовья на Хмельнитчину...).
Допросив, следователь отпускает меня домой. Приехал я последним автобусом, в 19 часов. Мать с тревогой ждала меня в саду. Пытаюсь делать вид, что, может, всё обойдётся. Даже сел допечатывать в тот вечер воспоминания о мордовском заключении под названием «Свет людей», с эпиграфом из Евангелия от Иоанна «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Надо же закончить, пока не загребли меня. Чтобы от меня хоть что-нибудь осталось...
Это был машинописный текст на 42 страничках в пол-листа. Теперь говорят А5. Сероватая тонкая бумага из простенького блокнота. Я остерегался, чтобы мне не подсунули «меченой» бумаги. В основном там речь шла о Василии Стусе. Дописал и спрятал этот текст. Кажется, я печатал две закладки. Одну из них позже в условленном тайнике я оставил Дмитрию Мазуру, он его взял и передал кому-то. Наверное, тот экземпляр пропал, как и мой. Может, бумага всё-таки была «меченой», потому что когда я вернулся домой через 9,5 лет — ни в одном моём тайнике в матушке-земле возле дома ничего не было. И брат Николай, который единственный знал эти места, не брал их. А спрятал я там в капроновых банках также письма Стуса, Черновола, Романюка, Ирины Калинец и других своих респондентов. Вот, может, именно письма и были «помечены» на почте, так через них кагэбэшники тайно нашли и забрали всё. Мать говорила, что когда меня арестовали, то кто-то по ночам топтался у дома, а страшно было выходить.
Тогда, 8 декабря 1978 года, стало ясно, как Божий день, что уже я из этих когтей не выберусь. Приобрёл я новый рюкзак, спрятал его под кровать и начал собирать в него нужные в неволе вещи. Этого от матери не скроешь. А тем временем через людей сообщаю Оксане Яковлевне и Ольге Бабич-Орловой о своих трудностях. Оксана Яковлевна сказала: «Он робкий парень. Ничего из этого не будет». И посоветовала мне не участвовать в расследовании. Эх, думаю, Оксана Яковлевна, это вам ничего не будет, потому что вы авансом отсидели «десятку» и реабилитированы. А серым перемелется! Это не тот случай, чтобы отмалчиваться: здесь надо засвидетельствовать всю правду. Я готовил сильную защиту и активно отбивался как на следствии, так и в суде. Что дело сфабриковано — было видно каждому. Я до сих пор считаю, что победил в том деле, хотя и получил три года заключения.
Но пока что Оксана Яковлевна ошиблась — и я ошибся! В её действиях тоже обнаружили состав преступления: она якобы тоже оскорбила милиционера Базленко, даже плюнула ему в лицо! Во что трудно поверить. А жаль. Но в возбуждении дела против неё отказали ввиду её почтенного возраста. Однако через год на её возраст уже не посмотрели: заключили 76-летнюю женщину, да ещё и судили с особым цинизмом: на Рождество Христово 1981 года.
Следствие длилось недолго, было всего два или три допроса. Шантажировали нескольких моих односельчан, чтобы они давали показания, некоторые из них кое-что подписали, а потом на суде отказывались от тех показаний. Но суду достаточно было того, что показали милиционеры Славинский и Базленко.
Атмосфера сгущалась. Я писал тревожные письма во все концы, в частности, киевским и московским правозащитникам, но никто меня уже спасти не мог, потому что пошла такая кампания: причастным к правозащитному движению фабриковать уголовные дела. Написал депутату Верховного Совета, председателю колхоза из соседнего района Любченко, Щербицкому. (См.: Письмо В. В. Щербицкому). Дмитрий Мазур считал нужным, чтобы моя мать поехала в Киев на приём к Щербицкому. Я не хотел посылать мать с такой безнадёжной миссией, но всё же мы посоветовались, я пошёл одолжил у материной сестры Антоськи тулуп (был трескучий мороз), и мать съездила в Киев и хоть проведала дочь Надежду. В приёмной их никто не выслушал. От депутата и из канцелярии Щербицкого пришли отписки, что всё будет «по закону». Кагэбэшники думали, что на провинции пройдёт и такое «дело». Но и понимали, что поймать меня с какими-то письменными текстами будет трудно, а провести обыск и что-то найти в сельском подворье — напрасное дело. Там можно и танк спрятать. Уже когда меня посадили, то несколько раз трясли, ища мою пишущую машинку, пока мать не отдала её, чтобы больше не приходили. На свидании мать мне в этом призналась со страхом: а что я скажу? «Правильно сделали, — говорю. — Зато будет у вас покой».
А ещё однажды вечером появляется мой единственный на то время в селе искренний приятель Василий Канчур, который уже перешёл работать ветеринаром в соседнее Забелочье. Я удивился, почему он здесь, как доберётся домой так поздно? Вижу, что-то мой Василий очень встревожен. В доме уже могла быть подслушка (что-то таки было в окне!), так что вышли мы в садик поговорить. Вижу, по дороге шныряет «бобик» и так мощно светит в наш садик. «Станем под дерево, чтобы нас не было видно». Тогда Василий признался, что это его насильно привезли, чтобы он предложил мне свою помощь: не дал бы я ему чего-нибудь написанного куда-то завезти или отослать. Я поблагодарил друга. Василий тогда доложил милиции: «Он хитрее вас всех». За дружбу со мной и за показания в суде в мою пользу его исключили из заочного обучения в Белоцерковском сельхозинституте.
Тогда «весь советский народ» готовился к каким-то выборам, которые должны были состояться, кажется, 12 февраля. Я, колхозный художник-оформитель, снова должен был понаписывать много лозунгов. Хотя сам на выборы идти не собирался. Люди запомнили мою историю с выборами 1977 года и говорили: «Это они тебя хотят спрятать на время выборов. А выборы пройдут — и тебя выпустят».
Суд был назначен на 7 февраля 1979 года в Радомышле. Я обошёл родню, оповестил много людей, чтобы приехали и пришли посмотреть на советское правосудие. Зашёл и в школу. Директор Василий Петрович Куц, сам не веря своим словам, сказал: «Наш советский суд — самый справедливый в мире». Никто из учителей не приехал.
У меня был хороший защитник — Мартыш Сергей Макарович из Дарницкой коллегии адвокатов города Киева. Его посоветовала Оксана Яковлевна Мешко. В своё время у него был допуск к политическим делам, но за жалобу в порядке надзора по делу её сына Олеся Сергиенко его того допуска лишили. А у меня же — уголовное дело. Мы встретились на закрытии дела и выстроили хорошую тактику: не раскрывать дополнительных свидетелей защиты, чтобы их заранее не запугали.
Я со всей семьёй — мать, брат Николай и сестра Люба из Донецкой области, сестра Надежда и её дочь Люда из Киева — приехал в Радомышльский районный народный суд с рюкзаком, в куфайке. Потому что не сомневался в приговоре. Позже племянница Люда Рябуха (она как раз тогда вышла замуж за еврея Григория Голубчика) — талантливая художница — изобразила эту картину в адском фиолетовом цвете. Между рядами зимних деревьев идут старая женщина, укутанная в платок, и молодой мужчина в куфайке. Столько страха в глазах женщины и столько обречённости в походке мужчины… Это моя мать и я. Ещё в то утро я попросил старшего брата Николая, который специально приехал на суд из Донецкой области, выйти на улицу и показал ему свои тайники. И сказал: «Если бы ты знал, Николай, как я не хочу туда идти… Всё это я уже знаю, нет там для меня ничего интересного». Но честно скажу, мыслей бежать, прятаться не было. Психиатр Н. М. Винарская говорила: «Земля круглая, негде спрятаться». Да и не с нашими делами прятаться. Жить не хотелось… Но и мыслей о самоубийстве не было. Хотя, скажу откровенно, в неволе практически каждый об этом подумывает. А ещё я осмелился написать на прощание письмо «своей» девушке, которая уже стала чужой женой и имела двоих деток, о том, что очень хочу её увидеть на прощание. Хотя бы во сне, хотя бы издалека. Она что-то ответила и соизволила явиться именно так: во сне, издалека…
К величайшему удивлению, суд был открытый. Публики — полный зал. Я постарался созвать людей, чтобы увидели «советское правосудие». Приехал из Харькова мой мордовский коллега Игорь Кравцив. У него незадолго до этого закончился админнадзор — и он решился приехать на мой суд! Я такую мужественную дружбу очень высоко ценю. (См. очерк «Подвижник»). Благодаря содействию Дмитрия Мазура приехала Лина Борисовна Туманова из Москвы. Дмитрий привёл её в суд и сказал мне, что уйдёт, потому что видит, что ему могут устроить какую-то провокацию. У Тумановой был диктофон, и она тайком записала весь процесс. (Это человек из круга Андрея Сахарова. Где-то в 1982 году её схватили, когда она передавала какой-то материал А. Сахарова западному журналисту. Мы слышали это сообщение по радио, сидя в камере в Кучино. И в «Известиях» об этом писалось. Её продержали несколько месяцев, но обнаружили белокровие и освободили. Она умерла через месяц. Я от неё ещё получил прощальное письмо, оно у меня есть. Такое письмо пропустили).
Когда мы зашли в суд, там уже сидела в приёмной Оксана Яковлевна Мешко и быстро что-то писала. С ней приехал Клим Семенюк, бывший политзаключённый. В зал суда её, Клима и Ольгу Бабич не впускали целый день.
Не стоит пересказывать ход того процесса: это был театр абсурда. Один из «потерпевших», участковый милиционер Владимир Базленко, постыдился прийти на заседание. Он прислал справку, что «заболел». Зачитали его предыдущие показания. Машинистка милиции Галина Ковбасюк, которая «случайно» была 18 ноября в Ставках, рассказывая, где я напал на Славинского, перепутала двери. Начальница детской комнаты милиции Лидия Дудковская в тот злополучный день тоже была в Ставках «по служебным делам». Она якобы увидела меня с незнакомыми ей женщинами (какое преступление!) возле детсанатория и вызвала милицию. Но детсанаторий — это в другую сторону, мы там не были! Будучи разоблачённой, она устыдилась врать дальше так, как на следствии, и сказала, что нападения не видела.
К чести моих односельчан: не надеялась на них гэбня и милиция, поэтому навезла «своих» из Радомышля. Иван Овсиенко нашёл в себе мужество отвергнуть приписанные ему Дьяченко «показания», что якобы то нападение было в его присутствии. Вечно пьяный Иван Олексенко наконец протрезвел и уже не говорил, что слышал из уст Оксаны Мешко возгласы «Хайль Гитлер!» и не видел стычки (её вообще нельзя было с улицы видеть, там шторы, и слишком высоко те окна, двери далеко в глубине — я экспериментировал, но суд не захотел проводить такие эксперименты). И вообще ничего не видел. Глава сельсовета Сергей Иосифович Науменко тоже сказал, что не видел никакого нападения, не видел, чтобы кто-то кому-то отрывал пуговицы... То есть неправды против меня он не сказал, но и правды, такой нужной мне правды — тоже не сказал! Была бы у человека совесть людская, а не коммунистическая, то сказал бы: «Да люди добрые, что же это мы делаем!? Не отрывал Овсиенко пуговиц! Я видел его и Славинского через секунды после стычки. Цел был его плащ!» Но когда нет совести — это надолго. Недаром на старости лет Науменко восстановился в преступной КПУ и умер коммунистом.
Один Славинский, детина, вдвое тяжелее и крупнее меня, беззастенчиво твердил, что он стал жертвой моего нападения, что я оскорблял его «непристойными словами». Это при Оксане Мешко и Ольге! Да ведь все знают, что я принципиально не пользуюсь таким языком!
Суд демонстрирует гражданский плащ «потерпевшего». На нём действительно не хватает двух пуговиц. Но ведь Славинский принёс плащ по требованию следователя на экспертизу только через 28 дней после события! Судья предлагает мне попробовать оторвать пуговицы. Я подержал плащ в руках и подумал: чего это я буду их рвать? Ещё сделают какой-нибудь негативный для меня вывод.
Мой защитник Сергей Макарович Мартыш и я требуем допросить свидетелей Мешко и Орлову, а также нескольких моих односельчан. Кстати, прокуратура, закрывая дело, вообще не считала нужным вызывать Оксану Яковлевну и Ольгу Бабич в суд. Но я отправил им обеим телеграммы — вот они и приехали. Но оказалось, что суд их тоже вызвал, но допрашивал последними, продержав весь день в коридоре, чтобы они не слышали хода судебного заседания. Как сейчас слышу: просто и достойно излагает Оксана Яковлевна свою версию дела, держа в руке паспорт (как раз тогда шёл обмен паспортов и выдача их колхозным крепостным):
– Я показала им этот документ — он хоть и давний, как и я, но ещё довольно приличный, — и назвалась. А они своих имён не называли, вели себя вульгарно, поэтому я не давала им в руки своего документа. Они предлагали нам ехать с ними на их машине в Радомышль. Я отказалась: одна из нас старая, а другая молодая. «Мы пойдём к Василию ночевать». — «К Василию нельзя, он поднадзорный». — «Но ведь не прокажённый. Тогда мы пойдём к председателю сельсовета (его уже впустили в помещение)». — «Тоже нельзя». — «Тогда я буду ночевать здесь, в сельсовете». — Тогда они схватили меня под руки и, поскольку я подобрала ноги, то вынесли меня, бросили в воронок и так прокатили по шоссе, что мне стало больно. Да, я называла их при этом гитлеровцами, фашистами. Был поздний час, наши автобусы из Радомышля уже ушли. Ольга оставила меня на автостанции и пошла искать аптеку. Потом мы переночевали в гостинице, а утром поехали — я в Киев, а Ольга в Житомир. Я бы не приехала на этот суд, но я знаю, что угрожает поднадзорному Овсиенко…
Суд вежливо выслушал Оксану Яковлевну и Ольгу, но их показания ему были ни к чему. Как и обращения Оксаны Яковлевны по этому делу к Олесю Гончару, к Николаю Винграновскому и ко всему миру.
Мы с защитником Сергеем Макаровичем Мартышем настояли на вызове дополнительных свидетелей. Суд, на удивление, постановил продолжить заседание завтра, что совсем не предусматривалось сценарием: воронок для меня стоял наготове…
Оксане Яковлевне нужно было немедленно в Киев по делу сына, поэтому она с Климом Семенюком, а также Ольга, уехали, а Лину Туманову и Игоря Кравцива я пригласил к себе в село ночевать. Мой рюкзак, чтобы не везти завтра снова, брат занёс к дяде Луке Пидсухе, который жил в Радомышле.
Брат Николай, сестра Люба и я позвали назавтра свидетелей, поужинали, переночевали и приехали снова в суд. Утром 8 февраля стало известно, что у дяди Луки в Радомышле милиция без ордера устроила обыск. Суд не был удивлён таким сообщением и никак на моё заявление не среагировал. Заслушал дополнительных свидетелей, которые показали, что никакого инцидента на улице в селе не было: они подумали, что это мы остановили машину, чтобы подъехать. Но советский суд не мог изменить установку КГБ! Заместитель прокурора района Казимир Якимчук, которого Ситенко выставил вместо себя, потребовал для меня четыре с половиной года заключения в лагерях строгого режима — всего на полгода меньше максимума. Адвокат С. М. Мартыш предложил прекратить дело против меня за отсутствием состава преступления в моих действиях и самого события и — неслыханное в те времена! — тут же возбудить уголовное дело против капитана милиции Славинского за превышение полномочий и фабрикацию дела. Это вызвало бурный протест прокурора Казимира Якимчука, он предложил суду вынести постановление о неподобающем поведении адвоката Мартыша и сообщить об этом в его Дарницкую коллегию.
Одним словом, судья В. П. Коваленко допустил, чтобы в зале была сказана вся правда. Михаил Хейфец в своём очерке обо мне пишет, что судья сделал всё, что мог. Может, и так. Но я ведь максималист: пусть бы вынес оправдательный приговор и ушёл в отставку, лишился карьеры, сам подвергся репрессиям. Но имел бы чистую совесть. Да, это был бы гражданский подвиг. Лет через 13 я подал заявление в Радомышльский суд с просьбой предоставить мне возможность посмотреть материалы дела, потому что хочу обжаловать приговор. Судья Коваленко молча предоставил такую возможность. А я до сих пор то дело не обжаловал, так и хожу не реабилитированным хулиганом…
Я начал своё последнее слово примерно так:
– Все присутствующие в этом зале — от гражданина прокурора до того, кто стоит в дверях, — хорошо понимают, что никакого преступления Овсиенко не совершил. Просто происходит расправа за мою гражданскую позицию, за то, что я продолжаю правозащитную деятельность. Но гражданин прокурор, как говорится, где-то раздобыл бесстыжие глаза…
– Я протестую! Я протестую! — завизжал прокурор Якимчук, видимо, приняв эту поговорку, означающую «врёт», за намёк на его косоглазие.
Я вынужден был сменить тон, чтобы меня совсем не лишили последнего слова, но всё же сказал:
– Я всё-таки надеюсь, что доживу до того времени, когда будут судить вас. Мне, в отличие от вас, не будет нужды ничего выдумывать. Я скажу лишь правду.
И, глядя на Славинского, а имея в виду всю свору, процитировал из «Горя от ума» Александра Грибоедова:
Я правду о тебе порасскажу такую,
Что хуже всякой лжи.
И провозгласил на латыни и по-украински: «Пусть рухнет мир, но да свершится правосудие!»
Судья Коваленко огласил приговор: три года заключения в лагерях строгого режима. Вскрикнула сестра Надежда, осунулась мать. Я снял с руки часы — время моё истекло — и подал их матери. Возле меня выросли милиционеры с наручниками. Вторая сестра, Мария Лось из села Билка, громко возмущалась:
– Вот так суд! Вот так суд!
Меня вывели к воронку, стоявшему наготове, Анатолий Пилипенко на ходу пытался пожать мне руку. Ночевал я в подземелье райотдела милиции.
Мой процесс получил широкую огласку благодаря Лине Тумановой, а особенно Оксане Яковлевне Мешко. Моё последнее слово было записано и распространено в самиздате. Было, наверное, два его варианта, потому что я заранее написал текст «Вместо последнего слова» и куда-то передал его, а в суде сымпровизировал немного иначе. (См.: Українська Гельсінкська Група. 1978—1982 Торонто-Балтимор: Смолоскип, 1983.— С. 529-530, также: Українська Громадська Група сприяння виконанню Гельсінкських угод: Документи і матеріали. В 4 томах. Харківська правозахисна група; Харків: Фоліо, 2001. Т. 3, с. 215-216). Оксана Яковлевна написала (по стилю видно) детальный отчёт «Процесс Василия Овсиенко» (См. соответственно с. 523-528 и 217-220 вышеупомянутых изданий). 16 февраля историк Михаил Мельник направил письмо в редакцию газеты «Радянська Україна» в мою защиту. 9 февраля он погиб. (УГГ. 1978-82, с. 517-521). Василь Стус 11 февраля направил телеграмму А. Д. Сахарову: «Протестуя против осуждения Василия Овсиенко, требуя его освобождения и наказания виновных в судебной фабрикации, начинаю политическую голодовку». (В. Стус. Твори в 6 томах, 9 книгах. Львів: Просвіта. 1994. – Том 4, с. 469; УГГ. Документи і матеріали, т. 3, с. 216). Дмитрий Мазур говорит, что слышал по радио заявление А. Д. Сахарова в мою защиту, но я не видел его напечатанным.
Теперь я могу цитировать и ссылаться на зарубежную украино- и англоязычную прессу, на радио «Свобода», но ведь тогда я ничего не знал об огласке, лишь догадывался. Потому что я о ней позаботился, и добрые люди помогли. Не ради славы (ибо это тяжкая слава), а ради того, чтобы бандочка взбесилась от злости и бессилия. Такие процессы разоблачали Империю Зла перед всем миром. Более того, впоследствии в неволе я узнал, что они, дураки, по всему району проводили «собрания трудовых коллективов», где «поминали» меня.
Когда меня завезли отбывать наказание в 55-ю зону, что в Вольнянске Запорожской области, то сначала мне хлынуло много писем, в том числе от друзей. А потом — как обрезало: только от родни и только на бытовые темы. И всё же я успел получить открытку от Оксаны Яковлевны, где она писала примерно так: «С росы и с воды! Ибо откуда там ещё сил наберёшься... Мы тут хлопочем за Вас, осторожно стучим в ворота, но ведь там не Святой Пётр ключи держит. Вы в нашем кругу». Последнее предложение означало, что меня объявили членом Украинской Хельсинкской Группы. Не посмертно, как Михаила Мельника, а постфактум. Жаль, что та открытка не сохранилась.
Вот с тех пор я называю Оксану Яковлевну своей крёстной матерью.
В 1990 году справляли мы 85-летие Оксаны Яковлевны в Доме литератора в Киеве. Николай Горбаль заснял нас именно в тот момент, когда она протяжно так говорит: «Это я посадила Василия в тюрьму... Я тогда многих «посадила»...
– Дорогая Оксана Яковлевна! — защищал я её тогда саму от себя — Если бы вы не приехали ко мне в село, то меня всё равно посадили бы. Сфабриковали бы другое «дело». Например, «попытку изнасилования», как Черноволу или Горбалю. А так — скажу на этапе: «Сопротивление милиции», а уголовники: «Молодец, землячок! Так им, ментам, и надо!» Когда стану рассказывать, что, собственно, сопротивления я не оказал, то они удивляются: «За что же ты сидишь? Я, например, хоть в морду одному заехал...»
А вот Василий Скрыпка, давний диссидент-шестидесятник, в то время профессор Криворожского пединститута (из Киева его выпроводили во время «покоса» 1972 года), три дня ходил к Оксане Яковлевне, результатом чего стали три аудиокассеты — четыре с половиной часа! — рассказа о её мытарствах 1972–1988 годов: защита сына Олеся, создание Украинской Хельсинкской Группы, преследования, психушка, арест 76-летней «антисоветчицы», суд, 108 суток этапа аж на берег Охотского моря, в посёлок Аян, где её заметало снегом, возвращение на Украину, путешествия в Австралию и Соединённые Штаты... Это непревзойдённый по содержанию и эмоциональному наполнению рассказ мудрой, интеллигентной украинки, которая чётко отделяла себя от преступной чужеземной системы и отчаянно противостояла ей всю свою многострадальную жизнь. Василий Скрыпка опубликовал свою запись в журнале «Курьер Кривбасса», № 2–7 за 1994 год. Я взялся издать это бесценное интервью отдельной брошюрой. Достал у Надежды Светличной аж в Соединённых Штатах кассеты, переслушал и списал пропущенные места и таки подготовил к печати и издал на общественные средства при содействии Украинской Республиканской партии. Хоть и мизерным тиражом, но уже оно не пропадёт.
Ходим мы среди таких людей, а редко кто догадается зафиксировать их слово, заснять их — это же будут бесценные сокровища нашей истории. Спасибо господину Василию Скрыпке, что он это сделал.
Что Оксана Мешко под арестом, я узнал в сентябре 1980 года на этапе в Лукьяновке от Юрия Литвина. Тогда Щербицкий под «Олимпиаду-80» вознамерился очистить Киев и всю Украину от воришек, бродяг, проституток и... диссидентов. Под этот покос попали Юрий Литвин, Василь Стус, Ольга Гейко, Николай Горбаль, Ярослав Лесив, Дмитрий Мазур, Пётр и Василий Сичко, Василий Стрильцив... В Лукьяновке ходили легенды об этом «олимпийском наборе», в частности, что была здесь одна бабушка-диссидентка, очень достойно держалась, опрятная и вежливая, надзиратели её в пример ставили зэчкам.
Перед тем Оксана Яковлевна провела 75 суток в Павловской психушке (была попытка изобразить её душевнобольной), затем арестовали её 13 октября 1980 года. Полгода заключения и пять лет ссылки присудил как раз на Рождество Христово 1981 года Киевский областной суд 76-летней «особо опасной государственной преступнице» за «проведение антисоветской агитации и пропаганды» (ч. 1, ст. 62 УК УССР). Повезли её этапом аж на берег Охотского моря, в городок Аян, где тогда ещё отбывал ссылку её сын Олесь Сергиенко.
Жилистая казацкая мать выдержала и это. (Говорила мне ещё в Ставках: «Я ещё Брежнева переживу». Пережила не только его.) В конце 1985 года вернулась в Киев. В 1988-89 годах путешествовала по миру, популяризируя украинскую идею. Вернувшись, стала членом Координационного Совета Украинского Хельсинкского Союза. Именно по моему предложению она 29 апреля 1990 года открывала Учредительный съезд УХС, где была создана Украинская Республиканская партия. В июне 1990 года, прежде всего её стараниями, была возобновлена деятельность правозащитной организации — создан Украинский комитет «Хельсинки-90». Оксана Яковлевна оставалась его душой и двигателем до последних дней. Её неуёмная энергия поражала людей и побуждала к деятельности даже не очень охочих. Неправда, что нет незаменимых людей. Оксану Мешко нам не заменит никто.
В конце декабря 1990 года она почувствовала себя плохо. Живя в одиночестве, в чужом доме, должна была брать палочку и выходить из дому. Была гололедица, а тут, на беду, в магазине у неё украли палочку, которую она поставила в углу. Оксана Яковлевна упала, случился инсульт (или наоборот). Несколько дней она не приходила в себя, но и в короткие проблески сознания она уже не могла говорить. 2 января 1991 года перестало биться её, казалось, неутомимое сердце…
Я лежал тогда в больнице — избили меня коммунисты под Базаром 17 ноября, когда мы пытались установить крест на могиле расстрелянных ими в 1921 году 359 украинских стрельцов. (См.: Базарская трагедия). Желчь разошлась. Я был тяжело опечален, и под тем настроением одним духом написал основную часть статьи о ней, которая в нескольких вариантах публиковалась в нескольких изданиях. 5 января я сбежал из больницы в чужой одежде в церковь Николая Притиска, где её отпевали, и сказал своей Крёстной Матери прощальное слово.
Похоронили её на Байковом кладбище в могиле матери Марии Павловны Граб-Мешко (26.1.1881 – 13.11.1951). И не было никакого знака, что здесь похоронена и Оксана Яковлевна. Тогда, посоветовавшись с людьми, затеял я вот что: издать книжечку воспоминаний о великой подвижнице духа и под неё собрать средства на кресты. Евгений Сверстюк, Николай Руденко, Михаил Горынь, Левко Лукьяненко, Вера Лисовая, Пётр Розумный, Светлана Погуляйло, Борис Довгалюк, Юрий Мурашов и я написали воспоминания, издали мы в тиражном центре УРП тысячу штук книжечки «Оксана Мешко, казацкая мать», презентовали её в Музее литературы как раз на 90-летие со дня её рождения, устроили вечер её памяти. Художник Николай Малышко к тому времени уже разработал проект казацких крестов. В течение года собрали мы немалые деньги, каменотёсы в Теребовле по заказу директора предприятия «Теребовлягаз» Василия Венгера добыли две глыбы красного песчаника, обтесали их, даже узор выбили на кресте Оксаны Яковлевны. Из глыбы для Марии Петровны Николай Малышко с братом Петром вырубили крест — и установили мы их 28 октября 1995 года. Весной Малышко завершили работу, и мы утешились, что сделали хоть одно доброе дело в этом мире. (См. об этом: Воздвижение честных крестов).
«УНИВЕРСИТЕТ КРИМИНАЛИСТИКИ»
Ночь после суда с 8 на 9 февраля переночевал я в Радомышле в КПЗ. Это не Коммунистическая партия Украины, а камера предварительного заключения. Душевно поговорил с милиционером, который охранял меня. Я рассказал ему свою беду и закончил словами Михаила Ивановича Калинина, написанными при входе в их райотдел внутренних дел, примерно такими: «Милиция есть лицо власти. По милиции народ оценивает власть». Мол, если Славинский и Базленко — это лицо власти, то она страшна. Милиционер давал Славинскому примерно такие же характеристики, что и я.
Подал я заявление, чтобы мне предоставили для ознакомления протокол судебного заседания. Завтра отвезли меня вместе с каким-то бомжом в Житомирскую тюрьму.
Первым делом меня бросили в огромную камеру, человек до ста. За смогом едва проглядывают лампочка и окно: курят и заваривают на газетах и тряпках чай. Вонь. Параша забита. Все нары заняты. Внимание привлекает не вошедший человек, а его вещевой мешок. Я не был схвачен милицией врасплох, а снарядился в неволю сам, поэтому моим рюкзаком сразу заинтересовались двое блатных. Растолкали возле себя других зэков, освободили немного места: «Будешь здесь, землячок. Здесь такие люди, что по-другому жить нельзя». Отклонил матрац — а там огромный ножака из нержавеющей стали. Ну, думаю, залетел я. А тут открываются двери и надзиратель кричит мою фамилию. Подхватываю свой рюкзак, его кто-то держит, но я вырываю. Из кармана у меня вытаскивают рукавицу — тоже вырываю. «Такой сидор уплывает!» — слышу вдогонку. Наверное, менты спохватились: хоть я и уголовник, но в отношении меня есть особая установка. Чтобы революции не устроил в большой камере. Перевели меня в камеру, где было всего пятеро заключённых, и то относительно спокойных. Камера рядом с «ментовкой», оснащена какими-то подозрительными проволочками-коробочками.
Мне было чем угостить сокамерников, а мне ещё привезли передачу — и я относительно спокойно (хотя там всё время гудит радио, поэтому и зэки разговаривают громко) написал жалобу в кассационный суд. Довольно аргументированную. Секретарша Радомышльского райсуда привезла мне на ознакомление протокол судебного заседания. Я сделал существенные замечания к протоколу, которые впоследствии были признаны судом обоснованными. Но это не имело никакого значения: кассационный суд оставил приговор без изменений. Из-за этого меня лишь задержали в Житомире почти на два месяца.
В той суматохе я ещё смог перевести на украинский язык с русского Евангелие от Иоанна (см. очерк «Бог Своё бережёт») и сочинить несколько стихотворений. Явно под влиянием Стуса. Позже стихи у меня уже не складывались.
* * *
Зречімося, перезабудьмо і відцураймося навік.
І наші стопи многотрудні в один благоволімо бік.
Бо наші цілі, наші мети над нами виснуть, як мечі.
Глаголі наші і мислєті не нам здійснити. Не значім
Свій шлях народженням і смертю, і не сподіймось співчуття:
У вікової круговерті є цілі, владно розпростерті
На гони, довші за життя.
* * *
І знову спомини, неначе вороги,
Обстали купою твою пригаслу ватру,
Розворушили сірий попіл, порохи
І заходились іскру Божу роздувати.
І вже вогню довготелесі язики
Червоно лижуть твої руки захололі,
Колючі зашпори розбуджують думки
І твій зачерхлий мозок відтає поволі.
Заворушились кішлом по сумних кутках
Твоєї хижі вбогої химерні тіні
Давно забутого і наяву, і в снах
І потонулого в гидкому баговинні
Цих безкінечних буднів… Пам'яте моя!
О, висвітли мені, як ген на видноколі
Під лебединий легіт стелиться земля,
Як під весняним вітром молиться тополя,
Самотня і гінка, як удовиний стан…
О Україно! Ти вже за горою!
І тільки місяця кривавий ятаган
Панахає стодумні хмари наді мною.
* * *
І знову ти, о моє диво, у сні явилася мені…
І я щасливий! Я щасливий: залізні ґрати на вікні,
Колючий шлак лілово-сірий, камінні мури і замки
Неначе разом розступились – і ми на березі ріки…
Живлющий вітер над водою, цілющі з берега ключі…
Легкою, бистрою ходою приходиш Ти, о мій покою,
І мов легесеньку вуаль відводиш білою рукою
Стокам'яну мою печаль…
…Якби не Ти – цей морок сірий, ця безкінечна світлота
Давно б мене заполонили. А Ти, пречистая, свята!
Ти розкрилила наді мною любов нев'янучу мою,
І я, прихищений Тобою, немов у мами за полою
Малим хлоп'яточком стою.
Наконец мне сказали: «С вещами!». Ещё в воронке, куда нас набили битком, зэки, не спрашивая меня, «раздербанили» мой рюкзак. Ободрали меня как липку. Продуктов там было мало, да и Бог с ними, с продуктами, но позабирали, что там было из белья, даже некоторые записи. Был у меня Уголовный кодекс УССР с комментарием (его мне предусмотрительно привезла О. Я. Мешко) — забрали, чем лишили меня возможности в дальнейшем писать квалифицированные жалобы в порядке надзора. На станции Коростень в нашу камеру «столыпина» подсадили группу заключённых, которых везут в психушку. И уже меня в дальнейшем все 12 суток везут с этой группой. Конечно, большинство из них «косят», потому что им так выгодно, чтобы их не судили. Это тяжёлая публика. Какой-то Валерий Петровский из Жданова (теперь Мариуполь) откровенно выдыхает мне дым в лицо: какая будет реакция? Никакой реакции. Потому что могут избить даже за проявление недовольства: они же «психические» и им ничего за это не будет. Немного раззнакомились, и у некоторых «авторитетов» появилось сочувствие к «политическому». Кое-что из вещей мне вернули. «А за хаванину — извини, землячок». — «На здоровье», — говорю.
Я убедился, что на этапе лучше всего не иметь ничего, тогда к тебе никто не имеет претензий. Ещё в хрестоматии третьего класса писалось, что Ленин любил песенку: «Богачу дураку и с казной не спится, мужик гол, как сокол, поет, веселится». А концлагерь и есть идеальное советское общество. Где все голые. Всё, что есть, здесь съедается за один присест. Простыня, одеяло или свитер сжигается, чтобы заварить на нём чай. Неважно, что через полчаса будет холодно.
Несколько дней сидим на Лукьяновке в Киеве. Затем перегон в Днепропетровск. Там я спросил надзирательницу, куда меня везут. «55-я зона, Вольнянск». Я облегчённо вздохнул: моих попутчиков тоже везут в Вольнянск, но в 20-ю зону, в психиатрическую больницу. А то я всю дорогу боялся, что и меня упекут вместе с ними в «дурдом». Этот фактор гэбня, очевидно, предусмотрела. Берегись: «дурдом» рядом.
Да и моя 55-я зона не мёд: в ней почти все заключённые имели статью 14 — «принудительное лечение от алкоголизма». Их тяжело пытают тем уже совсем ненужным лечением, они кишки вырывают от тех лекарств, ходят аж зелёные. Если кто-то и был на воле алкоголиком, то у него уже белая горячка прошла, его уже «переломало» за два-три-четыре месяца следствия и суда. А большинство и не были алкоголиками, просто совершили преступление в пьяном виде. Однако пока судом после лечения не снимут с него эту 14-ю статью — зэк не может претендовать на условно-досрочное освобождение. Некоторые уже и избавятся от этой статьи, а достанут водки или одеколона, выпьют — и ему назначат курс лечения заново.
Это там я слышал, как зэк-санитар выдавал лекарства. Больной жалуется, что болит голова и нога. Разломал одну таблетку: «Это от ноги, а это от головы».
Некоторым жизнь не мила: чтобы забыться, ищут какой-то дурман. Четверо напились какой-то жидкости, завезённой в зону в производственных целях, и окочурились. Ловят лагерных котов, вытягивают из них кровь и себе впрыскивают. Ходят по зоне коты-доходяги… Насыпают в ацетоновую краску соли, размешивают, сливают и пьют. А воняет же от них! Одному (это уже в Коростене) от ацетона язык отняло: хочет что-то сказать, а выходит только первый слог: «Ва-ва-ва-ва-ва...». Срывается, бежит. И никто не ведёт его в санчасть, потому что это же значит «сдать» его. А с него уже сняли 14-ю статью.
Очевидно, меня сопровождала установка относиться ко мне по-особому (так называемый «меморандум»). Поставили меня на работу на склад абразивов. Туда заходило два-три человека в день. Затем перевели на склад инструментов. Только потом послали в цех оббивать шлак после сварки.
Сначала я чувствовал себя, как тот подобранный мною возле клуба голубь, которого я пустил было в клетку к цыплятам: цыплята набросились на голубя и заклевали бы, если бы я не выхватил его. Или как кусок металла в серной кислоте. Вся та среда набрасывается на тебя лишь потому, что ты не такой, как она. Ты инородное тело. Меня ни разу не побили, хотя один зэк — явно по заданию — слишком уж нагло придирался, аж другие за меня заступились. Скоро увидели, что я с администрацией не якшаюсь, в СВП («совет внутреннего порядка») не вступаю, никому не врежу, держусь независимо, так меня оставили в покое. Некоторые авторитеты даже зауважали меня и предлагали свою защиту. Я не вступал с ними ни в какие отношения. Впоследствии оказалось, что активных, агрессивных там всего процентов десять. Остальные — это обычные тихие «советские люди», которые на чём-то попались. По ту сторону колючего забора ходят такие же, но они ещё не попались. Я нашёл там людей для нормального человеческого общения, как-от Иван Кича из-под Бердичева, Иван Власович Блажко из Винницкой области, Михаил Драшкаба из Закарпатья, инженер Иван Горбунов из Запорожья.
Зона поделена на «локалки». Так что можешь с кем-то просидеть в одной зоне весь срок, так и не увидевшись. Изредка всех вместе или одну смену пустят в кино «на эстраду» — страх берёт перед таким большим пространством и такой массой одинаково серых людей. Сначала я жил в небольшой секции. Там не было стульев и столов, чтобы сесть прочитать что-то или написать письмо. Потом перевели в секцию на 80 человек. Я измерил её шагами: на человека приходилось 1,8 кв. м площади. Четверо двухъярусных нар сдвинуты вместе. Проход сантиметров 70. Я спал на верхних нарах, так что после подъёма лазишь на коленях, застилаешь одну половину, потом вторую. Тогда ловишь момент спрыгнуть вниз. К умывальнику не подступишься. К туалету тоже (он на улице). А ещё как зэки напьются одеколона и сходят туда — вонь невероятная! Воды не хватает. В прачечную сдавать одну из двух простыней и одну наволочку раз в десять дней, а то и реже. Инженер Горбунов, в шутку разыгрывая из себя трубочиста, говорит: «Да у меня в трубе тряпка была чище, чем здесь простыня!». Мыться «отряд» ведут раз в неделю, а то и реже.
Когда же в секциях поставили телевизоры, то для меня настала настоящая беда: негде приткнуться с книжкой. Потому что и там я заказывал книги по почте, выписывал прессу, брал кое-что в библиотеке. Кстати, зэк-библиотекарь как-то показал мне список авторов и книг, подлежащих изъятию. Зная, что на таких должностях держат «ставших на путь исправления» членов СВП («совет внутреннего порядка»), я не проявил особого интереса к списку, но запомнил, что там были все произведения Николая Руденко и Олеся Бердника. Одну посылку из магазина «Книга — почтой» мне выдавал сам замполит подполковник Сарана. В частности, «Русское летописание» академика Тихомирова. «Зачем это? Надо „Малую землю“ и „Возрождение“ Леонида Ильича читать».
С того горя я записался в вечернее ПТУ, хотя меня из-за моего высшего образования не хотели принимать. Учили там, в основном, на пальцах, но к весне 1980 года у меня уже был документ электромонтёра промышленного оборудования IV разряда. Преподаватель Иван Иванович относился ко мне как к равному. Кажется, только двоим из группы дали IV разряд. Но я электричества до сих пор побаиваюсь.
Телевизор (только первую московскую программу!) включают с вахты с 19 до 22 часов. Зэки залезают на верхние нары, в том числе и на мои. Умудряются переключать программы, ловят кинофильмы или футбол. Наткнутся на украиноязычную передачу: «Выключи это на бычьем языке!». Единственное, что я запомнил из тех передач, это как Брежнев и Картер, подписав 18 июня 1979 года договор ОСВ (ограничение стратегических вооружений), потянулись друг к другу... Неужели целоваться будут? Целуются! Так смачно, «по русскому обычаю»! «Выключай этого старого педераста!».
Педерасты здесь живут в уголке. Они не смеют взять с лотка пайку хлеба, когда дневальный принесёт: кто-то должен подать. Не смеют дотронуться до крана бачка с водой: он подставит кружку, а кто-то должен налить ему воды. Не смеют взяться за ручку двери! К «петуху» нельзя дотрагиваться, разве что ударить его ногой. «Законтачишься». Как ни странно, но «законтачивание» не наступает при известной связи с ним: «активный» остаётся «чистым». Как-то я выразил сомнение в этом. Что, мол, они одинаковые. Счастье моё, что усомнился не в присутствии «активных». В столовой для «петухов» отдельные столы и отдельная посуда.
Гомосексуализм в зоне — ужасное явление. Это исключительно результат насилия. В чём-то провинился, проигрался в карты, задолжал, нарушил какие-то правила поведения — и могут изнасиловать. Или просто потому, что какому-то «авторитету» понравился красивый парень. А реабилитироваться можно единственным способом: убить своего обидчика. То есть пойти на расстрел или на 15 лет заключения. Вместе с тем, администрация доверяет педерастам «ключевые» позиции. Например, ключи от локальной зоны. Чтобы он нелегально пропустил тебя в другую «локалку», должен дать ему заварку чая (спичечный коробок) или пачку сигарет. Но если тебя менты поймают в другой «локалке» — он тебя знать не знает.
Как-то в бане вижу, много зэков толпятся у нескольких леек, а из одной в уголке льётся вода и никого там нет. Я двинулся туда. «Землячок, законтачишься!» — предостерегли меня. «Законтаченного» уже можно изнасиловать и тоже загнать в «петушатник».
Побывать в зэковской бане — это, я вам скажу, зрелище! Это строгий режим, то есть люди не впервые сидят, поэтому почти все с наколками. Чего только не увидишь! Я в этих «мастях» не разбираюсь: есть тигры, львы, Ленин, Сталин, Гитлер... Это всё что-то значит. На спине надпись: «Больше пуда не ложить». На ногах: «Они устали от дорог». На пузе: «Всю жизнь на тебя работаю». На веках: «Вор спит». У одного на ягодицах Ленин и Сталин с кочергой и лопатой: когда зэк идёт — они по очереди «шуруют» ему кочергами и лопатой в зад. Даже на пенисах что-то понаписано, да ведь не будешь присматриваться. Вставляют себе «шары» — шарики из органического стекла. Для большего «кайфа». Говорили, что один должен был идти на свидание с женой, а его вызвали в санчасть, вырезали те шарики, перебинтовали — и иди на свидание инвалидом... Когда тело молодое, то те наколки ещё имеют форму. А когда мужчина полнеет, худеет или стареет, то становится совсем уродом. Вот сейчас пошла мода и на воле: даже девушки накалывают. Это уже мерзость, а какой она будет со временем?
Язык зэков — сплошной жаргон на основе русского языка, щедро пересыпанный матом. Это мощный тигель русификации и деморализации. Смотришь: вроде хороший парень. А как откроет рот — помойная яма. Господи! Зачем Ты дал ему язык? Пусть бы оно рычало или мычало, как бык. Такой же язык у надзирателей, офицеров, мастеров. Как сейчас вижу (это уже было позже, в Коростене): развод на работу. Майор, ДПНК (дежурный помощник начальника колонии) стоит на возвышении с мегафоном и таким «государственным матом» на пол-области кроет нашего начальника отряда, старшего лейтенанта, потому что он не туда повёл свой отряд... У меня была с этим проблема, потому что я и дальше разговаривал со всеми на украинском литературном. Я же в Украине. «Это тот, который на бычьем языке чирикает». У них и быки чирикают... «Бычий», «бандеровский язык». «Ты из Западной? Ты с Закарпатья? А вот как будет „Я стираю? Я пру?“» — «Перу. А по вашему „стирать“ — это ссать и срать вместе?». Допёк меня отрядный начальник лейтенант Харченко (так, кажется): без всякой моей вины в цеху попёр на меня матом при зэках. Я, уважая свою мать, уже не выдержал: «…свою мать, скотина, раз она научила тебя такому языку!». Зэки присели, «отрядный» осёкся: никто ему не открывал смысла слов, которые он произносит, не задумываясь. Завтра вызвал в кабинет: «Я, конечно, извиняться не буду...». Это у него такая форма извинения.
Прошла половина моего срока, полтора года. Нарушений режима у меня нет: отрядный должен подавать моё дело на рассмотрение комиссии на предмет условно-досрочного освобождения (УДО) как «ставшего на путь исправления». Как говорят, «на химию». Такую форму ввели при Хрущёве, когда советская власть к электрификации всей страны добавила «химизацию»: руками заключённых строила химические предприятия. Таких условно освобождённых содержат в общежитиях без колючей проволоки, но ежедневно проверяя. Условия там были, как правило, тяжёлые, заработки мизерные, а соблазнов и опасностей больше, чем в зоне. Большинство не выдерживало, сбегало или совершало какое-то нарушение, чтобы вернуться обратно в зону. Иногда отбытое «на химии» время не засчитывали. То есть выходил «срок в рассрочку». Но я и не надеялся на такое милосердие.
Харченко представляет меня наблюдательной комиссии, которая состоит из работников зоны и общественности района. Даёт мне хорошую характеристику: требований режима не нарушает, норму выработки выполняет, окончил ПТУ. Но не признаёт себя виновным в совершении преступления и не раскаивается. Комиссия стала допытываться, почему. Зная, что меня КГБ не для того посадило, чтобы эта наблюдательная комиссия выпустила, я начал над ней насмехаться: «Без покаяния в рай не пускают. А я не согрешил, так что мне не в чем каяться. Следовательно, в рай мне дороги нет». Вдогонку я послал куда-то там очень остроумное заявление.
Я не пробовал из уголовной зоны что-то нелегально отсылать: не чувствовал в себе дара написать что-то значимое и не имел таланта детектива, чтобы организовать выход информации. Так что я иронично отношусь к тем, кто говорит, что я в неволе «боролся». Я не боролся. Я стоял как кол в грязном потоке, заботясь, чтобы не пошатнуться. Конечно, это тоже нужно оценивать, но не как героизм, а как нормальное человеческое поведение в тех условиях, когда огромное большинство людей тогда вело себя ненормально. Люди покорно, как паршивые овцы, брели туда, куда их гнали. А я стоял на своём.
Я уже упоминал, что в первые месяцы мне посыпалось много писем, а летом — как обрезало: только от родных, и то только на бытовые темы. Но ещё проскочила открытка от О. Я. Мешко, из которой я понял, что меня объявили членом Украинской Хельсинкской группы, две открытки от Василя Стуса с Колымы, одно письмо от Михаила Хейфеца, несколько от Лины Борисовны Тумановой и перевод на несколько десятков рублей. Я старательно подшивал все полученные письма и сохранил их, поэтому могу процитировать госпожу Туманову: «Как тяжело обретать друзей, а ещё тяжелее их терять».
На однодневное свидание приехали мать и сестра Надежда Силенко. Сестре устроили такой «шмон», что у неё случился сердечный приступ. На короткое свидание приехали братья Анатолий и Николай из Донецкой области. Свидание через стекло, говорить по телефону. Кабинок много, все зэки и родственники кричат. А наш телефон то включается, то выключается. Несовершенным там было подслушивание и записывание.
Меня продержали в этой 55-й зоне в Вольнянске на Запорожье до 5 сентября 1980 года.
Уже весной того года меня вызывали на допросы по делу арестованного 14 мая в Киеве Василя Стуса. Я сказал, что не был свидетелем никаких преступлений, тем более Стуса, поэтому отказался что-либо говорить для протокола, который КГБ априори называет «протоколом допроса свидетеля». Никакой я не свидетель. Прокурор Вольнянского района Быков, который присутствовал при этом, кричал: «Таких националистов, как вы и Стус, надо расстреливать!» Допрашивал меня следователь Крайчинский, который играл роль «добряка». Это у них так заведено: один «добрый», а другой «плохой». Потом приехал из Житомира майор Чайковский, допрашивал по делу Дмитрия Мазура. О, так уже и Дмитрия «повязали»... У него в курятнике нашли мой текст «Вместо последнего слова». Пытаются допросить меня по его делу как свидетеля. Я категорически упёрся — никаких показаний.
Отрядный Харченко «по секрету» сказал мне, что меня скоро из этой зоны заберут. Я догадывался, что в Житомир, и приобщат к делу Мазура. Потому что мы «вступили в преступный сговор». Поэтому я уже на другую специальность в ПТУ не записывался, а меня бы приняли.
Берут меня на этап 5 сентября 1980 года. По дороге в Киеве на Лукьяновке встречаюсь с Юрием Литвином. Мы 10 суток пробыли в одной камере! Он мне объяснил, что на этап нас летом не брали, чтобы мы не сорвали Московскую олимпиаду, которая отчасти проходила в Киеве. Какой-то там карантин наложили на нашу камеру, кто-то там чем-то отравился — так это нам пошло на пользу: мы так хорошо пообщались! Литвин, спасибо ему, очень хорошо поддержал меня духом. Я приехал в Житомир в приподнятом настроении. Показаний я не давал, но подал заявление в защиту арестованного Дмитрия Мазура. Следователь Радченко проглянул заявление и уверенно сказал: «Будешь сидеть». Дмитрию тогда по ст. 62 ч. 1 дали 6 лет лагерей строгого режима и 5 ссылки.
Чтобы я был под рукой, меня 17 ноября 1980 года отправили уже не в Вольнянск, а в Коростень на Житомирщине, в зону № 71. Я там пробыл несколько месяцев. Выучился ещё и на токаря, но уже не в ПТУ, а был помощником и учеником хорошего токаря Николая Самуся. Очень молчаливый такой человек был, но доброжелательный. Тут уже я быстрее нашёл общий язык с окружением, потому что имел опыт.
Поразил там меня один случай. Парень лет 19-ти возится с воронёнком. Кормит его, подбрасывает, чтобы учился летать. Думаю, что-то человеческое есть в этом парне. Но когда воронёнок научился летать, он привязал к нему пучок пакли, полил чем-то и поджёг. Полетел живой факел… Другой поймал крысу, облил горючим и поджёг… Но большинство людей и там люди. Я находил для общения нормальных людей: Михаила Келдыша, Тараса Шкрябика.
В мае начали ремонт в секциях, нас выгнали на улицу. Каждый обустроил свои нары, как мог. Режим ослаб. Тамошний начальник колонии не допускал хищения продуктов на кухне, так что на полной пайке и на свежем воздухе я почувствовал себя здоровым и стал себе думать, что, может, гэбисты обо мне уже и забыли.
Овсиенко Василь. Свет людей: Мемуары и публицистика. В 2 кн. Кн. I / Составитель автор; Худож.-оформитель Б. Е. Захаров. – Харьков: Харьковская правозащитная группа; К.: Смолоскип, 2005. – 352 с., фотоил. С. 82-84:
РЕЦИДИВ
Нет уж: 9 июня 1981 года приехал за мной из Житомира следователь КГБ майор Чайковский Леонид Иванович и сказал: «Решено возбудить против вас новое уголовное дело». Не потому, что я совершил преступление, а просто так «решено»! Почему так решено? Догадываюсь, что меня тем временем объявили членом Украинской Хельсинкской группы. Это сделала Оксана Яковлевна Мешко по нашей договорённости от 18 ноября 1978 года — с того дня, когда мы встречались. А члену Хельсинкской группы на свободе быть было нельзя: если заканчивался срок, ему фабриковали новое дело. Николаю Горбалю о возбуждении такого дела объявили в предпоследний день заключения. Ольга Гейко — та ступила два или три шага на так называемой воле. На вахте её освобождают — а тут стоит воронок. Повезли её в прокуратуру и возбудили новое дело. Такова была судьба членов Хельсинкской группы…
Привезли меня в Житомирскую тюрьму — и сразу в камеру смертников. Железные нары, цепь для приковывания заключённого, в коридоре — собаки. Я к тому отнёсся спокойно: может, у них просто не было приготовлено место для меня. Камеру не укомплектовали…
Через несколько дней у меня был с Чайковским принципиальный разговор. Он предложил мне написать покаянное заявление в областную газету. Тогда бы меня выпустили даже до конца этого трёхлетнего срока (а оставалось ещё 8 месяцев). Я поразмыслил, что честь — это последний бастион, который сдавать нельзя. Я уже один раз пошатнулся, во время первого следствия. Довольно с меня этого урока. Тяжкими усилиями я возвращал себе репутацию порядочного человека. Теперь меня объявили членом Украинской Хельсинкской Группы. Значит, я уже не сам по себе. Очевидно, моё имя стоит под некоторыми документами Группы. Это самое важное и самое почётное, что ныне есть в Украине. Это та «дрібнесенька щопта – лише для молитов і всечекання» (В. Стус). На нас легла высшая ответственность. Достоин я того или не достоин, но надо уже дорожить честью, хотя как член Группы я, собственно, почти ничего не сделал, лишь отдал ей своё имя. На меня полагаются самые порядочные в Украине люди. «Что стоит соль, которая потеряла солёность?», — спрашивается в Священном Писании. И я выбрал 10 лет заключения, 5 лет ссылки и «почётный титул» особо опасного рецидивиста. Я не люблю говорить высокими словами, поэтому когда рассказываю об этом решающем моменте студентам или школьникам, то ссылаюсь на Василя Стуса: «Но голову гнуть я не собирался, что бы там ни было. За мной стояла Украина, мой угнетённый народ, за честь которого я должен стоять до конца» («Из лагерной тетради». 1983). И добавляю, что честь народа состоит из достоинства каждого из нас. Если огромное большинство населения в своём национальном и человеческом достоинстве опустилось ниже нуля, то кто-то должен рисковать жизнью, закладывать свою голову. Или же все вместе пойдём на дно. Моя голова не дороже других, чтобы её спасать. Тем более, что я вольный казак: ни жены, ни детей не оставляю. Разве что мать.
Понимая, что здесь нашла коса на камень, что это тот момент, когда нужно делать выбор, я занял принципиальную позицию и по примеру Евгения Пронюка, данному во время следствия 1972-73 годов, отказался участвовать в расследовании. Я не давал никаких показаний. Сделал заявление в начале следствия и заявление в конце следствия. Так проще всего и легче всего. Потому что что бы ни говорил — всё будет обращено против тебя. Хоть иногда хотелось опровергнуть явные глупости, возразить свидетелям, которые говорили явную неправду, следователю, который притягивал факты за уши и беззастенчиво фабриковал дело. Например, провели экспертизу копировальной бумаги, изъятой у меня дома, и «установили», что это именно под неё я печатал письмо к Щербицкому. (См. «Письмо к В.В. Щербицкому»). Когда я твёрдо знаю, что сжёг её! На суде я дал некоторые объяснения, и то только потому, что в зале суда были мать, сёстры, братья, некоторое время Ольга Бабич-Орлова. Ольга была близка к Группе через Оксану Мешко, пока и её (Мешко) не посадили. После окончания следствия я знакомился с материалами дела и в подшивке зелёных продолговатых справок МУРа (Московский уголовный розыск) о каждом упомянутом в деле человеке я с ужасом увидел справку на Ольгу Бабич. Но сразу вздохнул, прочитав, что она не была под арестом.
Чайковский говорил: «Мы насобираем достаточное количество материалов». Следствие длилось недолго. «Достаточным количеством» оказалось моё заявление от 30 октября 1975 года, написанное в Мордовии. Оно адресовано в ООН, но брошено в зоне в ящик «Для жалоб и заявлений», то есть фактически вручено администрации лагеря. Факта «распространения» здесь нет. Второе заявление — в защиту Дмитрия Мазура, врученное осенью 1980 года в Житомирском СИЗО гэбисту Радченко через стол. И только один текст — «Вместо последнего слова», приготовленного на суд 1979 года, нашли у Дмитрия Мазура. Однако всё это следователь, а за ним и суд, назвали «систематическим изготовлением, хранением и распространением антисоветской литературы». Но «систематически» — это, согласно их же закону, по меньшей мере трижды. У меня же по крайней мере «систематического распространения» — не было. То, что насобирало следствие, никак не тянуло на инкриминируемую статью, потому что без «систематического распространения» нет факта агитации и пропаганды в письменной форме.
Б. Захаров: Это 62-я статья?
В. Овсиенко: Статья 62, но уже часть 2. Я же повторно привлечён к ответственности по ней. Если не брать во внимание неопределённость термина «антисоветский», «клеветнический», то то, что насобирало и сфабриковало следствие, ещё можно было бы как-то подогнать под ст. 187-I — «клевета на советскую действительность». Но и на 187-I тянули только сфабрикованные, выдуманные эпизоды. Привозили многих зэков из зон, они частично удостоверяли то, что я действительно говорил, а отчасти то, чего я вообще не мог говорить. Они имели плохое представление о моём мировоззрении. Вот записаны в приговор такие обвинения: «Называл Сахарова великим человеком современности». А это большое преступление! Где-то высказывался об оккупации Афганистана, о голоде 1933 года — это «клеветнические выдумки». А где говорится, что якобы я призывал заключённых к «борьбе» с советской властью, — это выдумки, которые легко опровергаются теми же показаниями.
И всё же у меня был один срыв. Меня на небольшом «воронке» возили из Житомирского СИЗО на допросы в КГБ, что на улице Парижской коммуны. Однажды машина остановилась в воротах КГБ. Надзиратели открыли свои двери воронка и вышли, а двери моей внутренней камеры были какие-то неплотные. Я припал к щели — и отчётливо вижу в трёх шагах сестру! Не думая о последствиях, я крикнул: «Люба, я здесь!». Сестра взвизгнула, машина рванула во двор КГБ. Менты тоже наделали крику. Повели меня прямо к Чайковскому. Тот напустился на меня. Я был очень встревожен, раскрасневшийся, может, и сопли распустил. Но меня никак за тот крик не наказали. Очевидно, что и гэбист не до конца озверел.
Кстати сказать, где-то в 1995 году я услышал, что в Житомире умер начальник областного управления СБУ полковник Юдин Иван Иванович. И вот на его место должны назначить этого Чайковского Леонида Ивановича. Я написал письмо главе СБУ: кого вы назначаете? Да он же боролся против независимости Украины, моё дело — тому доказательство. Пришёл вежливый ответ: мы вам сочувствуем, но Чайковский тогдашних законов не нарушал. Да нарушал! Ведь моё «дело» никак не тянуло на ст. 62. Тогда я пишу Президенту Л. Кучме: зря вы надеетесь, что Чайковский хороший специалист. Ведь твердыня, которую он защищал (СССР) пала. Он вам и Украину завалит. И это не тот случай, когда надо назначать специалиста. Это же не врач или инженер, а «заплечных дел мастер» — таких нельзя допускать к охране нового государства, против которого они боролись. Не говорю, что их следует посадить туда, куда они меня сажали, но пусть бы они теперь зарабатывали себе на хлеб серпом или молотом. Не бумажным, а настоящим. Ответ пришёл снова из СБУ, но уже не такой вежливый. (Л. Чайковский отбыл на этой должности три года и вышел на пенсию. Солидную, наверное, пенсию имеет от государства, против которого яростно боролся всю жизнь...)
Возили меня на психиатрическую экспертизу на Гуйву под Житомиром. Не на 18 суток, как в 1973 году, а на «пятиминутку», которая длилась где-то с полчаса. Я иронично парировал тесты-вопросы, потому что знал, что на этот раз КГБ не нужно из меня делать «шизофреника».
Ознакомившись с делом, я составил большое, хорошо аргументированное заявление (помню, писал на серо-жёлтой бумаге, потому что другой не было) и через дежурного помощника начальника СИЗО передал прокурору области. Оно пропало без следа. Искать его было бы напрасным делом.
Сокамерников было несколько. Я позабыл некоторые имена и фамилии. Но помню Виктора Винника из Кременчуга. Статный парень лет 28-ми. Пробовал говорить на политические темы. Я таких разговоров не поддерживал, потому что видел, что его привезли сюда с целью пополнить нечисленную группу свидетелей. Он не выполнил задание и его убрали.
Другой, кажется, Лёня, тоже пытался «косить» под политического, врал, что у него тоже статья 62. Я видел уровень его интеллекта и не проявил интереса к его делу, так он перестал об этом говорить. Когда он однажды заснул днём, я заглянул в его неосмотрительно (или умышленно) раскрытую тетрадь и увидел недописанный донос на меня. Так и писал: «Оперативному работнику (фамилия). Довожу к Вашему сведению...». Я ничего не сказал тому Лёне, а написал «донос» тому же оперативнику, начав той же фразой, и предложил убрать «стукача» из камеры. Лёню вызвали, он стал сдержаннее. Я больше не добивался вывести его из камеры, потому что этого доносчика я уже знаю, он физически меня слабее и не агрессивный. Пусть сидит этот, потому что могут дать гораздо худшего.
Третий, Николай, вообще был безвредный, даже доброжелательный небольшой парень лет 20. Разговаривал на украинском, но на каком-то совсем неразвитом языке. Я понял, в чём дело, когда дал ему прочитать в журнале юмористическую повесть Евгения Гуцало «Позыченный чоловік». Ему так понравилась повесть, что он принялся мне что-то цитировать. С удивлением слышу, что он читает украинские буквы как русские! Оказалось, что он родился за пределами Украины, и хотя вырос в Украине у бабушки, от которой научился разговорному украинскому языку, но его в школе освободили от изучения украинского языка! Украинец не умеет по-украински читать! И это же не один он такой.
Некоторое время я сидел с одним мелким провинциальным чиновником, кажется, из Ружина. Он запутался в финансовых делах. Немного старше меня, опытный человек, не скрывал критического отношения к власти. Мы друг другу не мешали, установили себе хороший режим в камере и даже утвердили камерный гимн:
Ой умер Саврадим та й на лавці лежить,
Його жінка Саврадимка по горілочку біжить.
І горілку несе, і музики веде:
«Отепер же, Саврадимку, не боюся я тебе!»
Первая и третья строки гимна очень торжественные, вторая и четвёртая очень весёлые. Хороший был гимн.
На суде я заявил, что не буду в нём участвовать, разве что, может, дам некоторые пояснения. Их было очень мало. Позвали заслуженного деятеля культуры УССР Александра Прокоповича Демченко, завуча школы из детсанатория, что в моём родном селе. Я уже прочитал в материалах дела его доносы в КГБ на меня: в очереди за хлебом говорил, что при развитом социализме не хватает хлеба, а что это будет при коммунизме? Он прочитал суду длинную лекцию о хорошей советской власти. Я не стал спрашивать его, очевидца, о голоде, о репрессиях. Даже судье Белецкому неудобно было такое слушать, так что чтобы я всё-таки был клеветником, он записал, будто я кому-то говорил о голоде в 1938, а не в 1933 году, и что тогда «вымер весь украинский народ». Да ведь не весь, а лишь треть. Ибо где бы тогда я взялся?
Жаль было смотреть, как из малограмотных зэков суд выжимал нужные ему слова. Одного суд вообще «забраковал» — такие нелепицы плёл. Привезли завхоза отряда из Коростеня Униченко и зэка Шиманского (так, кажется. Или Шапиренко?). Один из них из Забелочья, а другой из Радомышля, собственно, с Микгорода, возле пивзавода жил. Во время обеденного перерыва их держали через одну от меня кабинку. Они тяжело матерились в мой адрес и в адрес КГБ. Я не выдал себя, потому что не хотел брать на себя дополнительную психологическую нагрузку: это бы они вылили на меня ушат той матерщины. Вместо этого я молился, чтобы Господь дал мне твёрдости достойно выдержать эту процедуру, в результате которой я не сомневался и на которую сознательно шёл.
Прокурор С. П. Евтушенко скороговоркой, давясь и захлёбываясь лживыми словами, плёл, что я «поддерживал бандеровцев» (хотелось сказать, что я подавал бандеровцам пули). Прокурор потребовал максимального наказания. Защитник Э. Б. Лисицкий ничего по существу обвинения сказать не решился.
Последнее слово моё было коротким. Я обращался не к суду, а к матери, к сестре Надежде и Ольге Бабич, которые были в зале. Сказал, что судят меня за членство в Украинской Хельсинкской Группе. Говорил о чести. Цитировал Евангелие от Иоанна: «Блаженны изгнанные за правду». «А страха их не бойтесь и не смущайтесь». У суда я ничего не просил.
Суд длился три дня и закончился 26 августа 1981 года. Приговор: 10 лет лагерей особо строгого режима, 5 лет ссылки с признанием меня особо опасным рецидивистом. Безусловно, приговор был определён заранее. Приговор максимальный, но это следствие и этот суд были мне самыми лёгкими из всех трёх. Кассационную жалобу я не подавал, потому что это была бы артель «Напрасный труд».
После осуждения перевели меня в камеру к особо опасным рецидивистам. Их человек 5. Вот один худенький парень. Обокрал свою сестру: вынес из погреба соленья, потому что нечем было закусить. Дрожит от холода, потому что «взяли» его летом в одной рубашечке. Никто из родственников такому передачу не принесёт. У него пол казённого одеяла, щулится он под ним, как пёс. Другой рецидивист дал ему свитер. Он погрелся два дня, но тут «подогнали» чай из другой камеры, «конём». Они уже сожгли всё, кто что имел: полотенца, половину того одеяла. Считается, что тряпки дают больше тепла и меньше дыма. Тогда он снимает этот свитер, рвёт на куски, скручивает в трубки и жжёт над парашей под кружкой, которую держит на ложке. «Кайфа» на несколько минут — и снова дрожит от холода.
Ещё один прибился в Житомир из Оренбурга. Однорукий карманный вор. Руку потерял, пьяным работая на циркулярке. Тот, что давал свитер, сказал: «Это тебе Боженька руку от…». Сам же он не понял Божьего знака: дальше воровал одной рукой. Вспоминает разные города, где побывал. Чтобы не молчать, спрашиваю, а на каком берегу реки Урал стоит Оренбург — на правом или левом? Он не знает, как это определяется. Ещё один умышленно «гнал», что спагетти растут в Италии на кустах — а другой верил. Другой всерьёз считал, что кинофильм «Александр Невский» снимался тогда, когда жил Александр Невский, а эта Житомирская тюрьма построена в 13-м веке. Двое хватались за грудки, доказывая друг другу, как обжигается кирпич. Таких дремуче тёмных людей я до тех пор не встречал. Передач, говорю, никто им не приносил. Мне же за два месяца привезли две. Я знал, как тяжело их мать собирала, но, получив, всё выкладывал на стол. Всё делилось поровну и съедалось за один присест. По принципу: не откладывай на завтра то, что можно съесть сегодня. Потому что завтра тебя перебросят в другую камеру, бросят в карцер — и харч пропадёт. Да, я, было, из своего куска отложил что-то себе на завтра, так завтра должен был и то поделить. Так что мне досталось меньше всего. Это идеальная модель русского коллективизма. Коммунизма, то есть. Если у тебя ничего нет, то к тебе нет никаких претензий. На этап я шёл только с пайкой, следовательно, никаких приключений не имел, тем более что политического рецидивиста конвой не рисковал с кем-либо держать в одной камере.
«УРАЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
36 суток везли меня от Житомира до Урала, с остановкой в Мордовии. Будто житомирские каратели не знали, что политический лагерь особо строгого режима тем временем переведён на Урал. Итак, меня повезли через Харьков в Рузаевку и Потьму (это Мордовия). В дороге попался мне попутчик: Юрий Мельник из Горловки. Интеллигентный человек, преинтересные вещи рассказывает на хорошем украинском языке, может, даже гениальные, необычно мыслит, но — всё это пересыпано русским матом... Не надивлюсь, как это можно украинство совместить с вульгарным русским матом? Оставили его в Мордовии. А меня же привезли не туда, куда следует: в Мордовской Сосновке уже нет лагеря особого режима, с 1 марта 1980 года он уже на Урале. Заворачивают меня в Рузаевку, везут на Свердловск, Челябинск, Пермь. Оттуда поездом на ст. Чусовская, затем ночью 2 декабря 1981 года воронком привозят в зону. Несколько дней держат в карантинной камере, а не говорят, где это я. Только когда перевели в 17-ю камеру, где сидели Иван Кандыба, Василь Курило и ещё трое старших людей «за войну», я узнал, что это посёлок Кучино Чусовского района Пермской области. В этой зоне уже были Левко Лукьяненко, Василь Стус, Олесь Бердник, Олекса Тихий, Семен Скалич (Покутник). Потом туда привезли Юрия Литвина, Михаила Горыня, Валерия Марченко. Это из украинцев. Из россиян Филатов (на самом деле он мордвин), потом привезли Леонида Бородина. Из «самолётчиков» были Юрий Фёдоров и Алексей Мурженко. Из литовцев Викторас Пяткус, Балис Гаяускас. Латыш Гунар Астра. Эстонцы Март Никлус и Энн Тарто. Позже привезли из Чистопольской тюрьмы армян Ашота Навасардяна и Азата Аршакяна. Также Виталия Калиниченко, Ивана Сокульского, Григория Приходько из той же тюрьмы.
«Контингент» (есть такое мудрое слово) состоял, в основном, из украинцев. Было несколько человек, судимых за войну — обвинённые в сотрудничестве с немцами. Тоже украинцы, по большей части. Было несколько «сполитизированных» уголовников, которые нам мешали жить, — их использовали как провокаторов. (Позже журналист Вахтанг Кипиани подсчитал, что всего через этот лагерь с 1.03. 1981 по 8.12. 1987 прошло 56 заключённых, 34 из них украинцы).
Содержали нас в камерах по несколько человек, самое большее восемь. Обошёл я там несколько камер — 17, 18, 19, 20. С Иваном Кандыбой, с Левком Лукьяненко, с Михаилом Горынем я в общей сложности провёл года по два, с Олексой Тихим и с Юрием Литвином, может, с год, а с Василем Стусом мне довелось быть всего в течение полутора месяцев в феврале — марте 1984 года. Я видел его тетрадь в голубой обложке, сделанную из нескольких ученических. В письмах Василя она названа «Птица души». Та «Птица» оттуда не вылетела. Я единственный, кто читал те стихи, а также переводы из Рильке. Одиннадцать элегий — они тоже, видимо, уничтожены. Об этом когда-нибудь расскажу подробнее. (См. очерк о В. Стусе).
Итак, одели меня по предпоследней моде: полосатые штаны, куртка, бушлат, даже шапка полосатая. Говорю, предпоследняя, потому что последняя мода — «деревянный бушлат». Гроб, то есть. Я так в шутку и написал в первом письме домой.
Расскажу об условиях, в которых нас там содержали. Режим там действительно особо строгий.
Зона была оборудована по последнему слову советской пенитенциарной (карательной) науки. Единственный деревянный барак метров до 120 длиной и метров 16 шириной окружён по меньшей мере семью ограждениями, что в периметре составляют 24 метра: колючая проволока, трёхметровый сплошной забор, мотанная проволока, второй трёхметровый забор, огневая зона, два забора из колючей проволоки с наклонёнными внутрь проволочными козырьками под напряжением, ещё один забор из колючей проволоки. Промежутки между заборами вспаханы и аккуратно заборонованы, сорняк на них расти не смеет. В землю закопаны детонаторы на случай подкопа. На каждом углу вышка с автоматчиком. В огневой зоне установлено какое-то лазерное видение. На углах заборов на уровне пояса — груди есть зарешечённые окошки для стрельбы стоя вдоль огневой. Всё это — против нас, особо опасных государственных преступников, особо опасных рецидивистов.
Вахта (вход в зону, или пропускной пункт, как перевёл Л. Лукьяненко) оборудована несколькими решётчатыми дверями. Здесь тебя спрашивают «Фамилия? Статья? Срок?» Для осмотра машин есть яма, как в гараже. Изнутри путь перекрывает металлическая балка, которая открывается как ворота. На ней приварены шипы. Это так называемые «ежи» — на случай, если заключённые захватят машину, зашедшую в зону, — чтобы не протаранили ворота. На той же вахте есть вынесенная высоко вверх застеклённая смотровая вышка. У охраны есть собаки. Чуть ли не каждый час внешняя охрана и надзиратели зоны обходят «запретку».
Зона, в том числе барак, поделена пополам. В первой сидят заключённые камерного содержания, во второй — бескамерного. Эти последние не под замком, могут ходить во дворе. В ту половину администрация может перевести заключённого лишь после половины срока, если он не имеет нарушений режима.
Вдоль барака камерного содержания на расстоянии пяти метров — трёхметровый забор из досок. Кроме этого забора из камер ничего не видно, разве что, если стать на табуретку, — вершины деревьев за полкилометра в лесу.
Вход в барак — посередине, где он поделен на две части. Вдоль барака коридор. Справа санчасть, кабинет начальника, кухня, жилые камеры 17, 18, 19, 20, дальше «дежурка» (или «ментовка») — комната надзирателей (у них там есть ещё одна комната с диваном), слева кабинеты оперативника и гэбиста, рабочие камеры 16, 15, 14, 13, выход к прогулочным дворикам с «пищалками», которые никогда не действовали, маленькая жилая камера 12, рабочие 11, 10, 9; 8-я — каптёрка. Дальше перпендикулярный коридор, под фронтоном барака, окнами к вахте. Ближайший к вахте карцер № 3, дальше 4, 5, 6. Напротив 6-го карцера — рабочая камера 7-я, напротив 3-го — 1-я, рядом с ней баня для одиночников (№ 2).
Двери в камеры двойные: первые деревянные, обитые железом. В них глазок диаметром сантиметров 5, он закрывается язычком. Время от времени в глазке появляется глаз надзирателя. А в том язычке есть ещё дырочка миллиметра два, для тайного подглядывания. Вторые двери — из решёток. В них есть большая дырка, через которую подают еду, пролезает чайник. Эта дырка называется «кормушка». Когда дают еду, то открывают только внешние двери. Обе двери один надзиратель не имеет права открывать: только вдвоём. При этом один должен стоять в дверях, а второй может зайти в камеру. Даже если бы на того надзирателя, который зашёл в камеру, заключённые напали, то первый надзиратель не имеет права зайти в камеру его защищать. Он должен закрыть двери и звать на помощь. Надзиратели имеют доплату 20% за «вредные условия труда». Может, в уголовных зонах это и оправданно, но в политических зонах никто не помнит нападений заключённых на надзирателей. Мы разве что шутили: если бы за те 20% можно было раз в год набить морду самому злобному надзирателю… Кстати, двери не открываются полностью: вверху есть цепь, которая позволяет их приоткрыть лишь наполовину. Это чтобы заключённые могли выходить из камеры только по одному.
Между окнами на стенах установлены метровые щиты из досок — чтобы нельзя было из камеры в камеру закинуть «коня» (записку на нитке). На углах установлена какая-то аппаратура — видимо, ночного видения. Если бы высунул руку сквозь решётку — зафиксировали бы.
В камерах двойные окна, между которыми решётки. Вторые решётки навешены снаружи, они на петлях и запираются замками. Есть двойная форточка, решётки не дают её полностью открыть.
На карцерах окна маленькие, решётки гуще и двойные, дополнительно на них снаружи установлены «жалюзи» (или «баян») — густые дощечки наискось, так что прямо и вниз из карцера ничего не видно, только вверх.
В смене внутренней охраны 4 надзирателя-прапорщика и ДПНК — дежурный помощник начальника колонии, офицер. Один надзиратель постоянно ходит по коридору.
Количество людей, задействованных во внешней и внутренней охране и обслуге зоны, превышает количество заключённых в два-три раза.
Куда бы заключённого ни вели — он должен держать руки за спиной. Перед ним, как перед большим барином, двери открывают и закрывают. Понятно, что в камерах изнутри ручек нет.
Нары-кровати в два этажа. Вместо сеток на них приварены металлические полосы шириной 5–8 сантиметров. Между ними промежутки до 10 см, сквозь которые тонкий матрас проваливается, железо мучает бока. Нары шатаются — поворачиваться на них надо особенно осторожно, чтобы не разбудить соседа. Из-за этого бывают конфликты. Мы пробовали закреплять их, набивая между нарами и стеной газет, но при обысках их со злостью выбрасывают: всё должно быть максимально приспособлено для удобного обыска, а не для комфортной жизни. Две простыни, одеяло, подушка. Сначала вечером можно было лечь на нары до отбоя, не расстилая, с 1983 года на них можно было находиться лишь 8 часов — от отбоя до подъёма. В другое время на них нельзя даже садиться.
Над дверью есть зарешёченная ниша, в которой две лампочки: более сильная дневная и более слабая для ночного освещения. Заключённый должен спать ногами к двери и так, чтобы всё время было видно его лицо. Можно разве что сложить платок вчетверо и накрыть глаза от света.
Посреди камеры стол, две тяжёлые скамьи или табуретки. Тумбочка одна на двоих. Там книги, тетради, письма. Ящик в тумбочке тоже поделен пополам на двоих. Здесь лежит зубная щётка, мыло. На тумбочке ничего не должно лежать. Ничего не застилать, не выставлять никаких картинок или снимков.
Одежда висит на вешалке. Есть мусорник, веник, тряпка для мытья пола. Мог быть висячий шкаф с нишами — для продуктов.
Можно иметь электрическую бритву, но розетку включает надзиратель, если попросишь. Чтобы вызвать надзирателя, в камере есть кнопка, в «дежурке» зазвонит звонок. Можно попросить включить или выключить радио. Но другому радио мешает, это тоже вызывает напряжение.
Есть умывальник, «параша» — унитаз в углу возле двери на возвышении. Он накрывается фанерой. Здесь тебе и спальня, и столовая, и с…льня. Без стыда сказка: эта туалетная проблема в камерах — одна из самых тяжёлых психологических пыток. Пока выберешь тот момент, когда никто не ест, не молится… Сидишь, как на пьедестале, ничем не прикрытый. Долго мы добивались, чтобы хоть с одной стороны перегородку поставили метр на метр. И вот однажды, когда «хозяин», майор Журавков, обходил камеры со «свитой», в которой была одна женщина, я сказал давно приготовленную фразу: «Заставляете нас штаны друг перед другом снимать…» — «Что вы нас поносите при честном народе!» Думал, накажет. А нет: поставили доски. Даже и в рабочих камерах. Но ведь через ту парашу минимум дважды в сутки должны были пройти все заключённые. Это психологические пытки, я вам скажу. Тебя перевоспитывают в человекоподобную скотину. Вечное сдерживание приводит к заболеваниям: почти у каждого заключённого нездоровый кишечник, желудок, геморрой с кровотечением. В камерах всегда вонь, а ещё бывали перебои с водой. Жаль говорить…
Многие курят — другие кашляют, у них болит сердце. Это вызывает напряжение. Один предпочитает чистый воздух — другой мёрзнет. Воздуха не хватает, особенно ночью.
Ходить в камере практически негде было, разве что под конец, когда нас становилось всё меньше. Вечная публичность угнетает: ты как амёба на стекле микроскопа! За счастье считаешь, когда выпадет возможность побыть одному. Для этого есть карцер и одиночка...
Один раз в месяц выводят в большую комнату посмотреть кино, которое позже заменили телевизором. Выводят две камеры вместе — это редкая возможность увидеться. Только увидеться, потому что садиться надо по разные стороны комнаты и не разговаривать. Иногда удастся беспрепятственно пожать руку жителю другой камеры.
В воскресенье водят в баню, где также сдаёшь бельё в стирку. Там заключённых стригут в среднем раз в месяц. Усы, бороду моложе 70 лет носить запрещено.
В камерах разное количество заключённых: от двух в 12-й до 8 в 20-й. Время от времени по оперативным соображениям или по указаниям гэбиста заключённых меняют местами, не спрашивая их желания.
Можно иметь верхнюю одежду — полосатая рубашка или куртка, штаны, шапочка типа колпака. Зимой — зимняя шапка. Бушлат, которым можно дополнительно укрыться. Но его весной могут заставить вынести, когда ещё холодно, тогда мёрзнешь ночью, простужаешься, болеешь. Пара белья, трусы, майка. Смена лежит в бане, держать её в камере нельзя — выноси в каптёрку. Ботинки или сапоги, тапочки, носки. Полотенце, платок. Непременный атрибут — «бирка»: написанная на прочном материале твоя фамилия и инициалы. Она пришивается с левой стороны на груди.
Можно иметь в камере не более 5 книг, журналов и брошюр, вместе взятых. А каждый старается иметь какой-нибудь учебник, словарь, каждый выписывает несколько журналов. Ручка, тетради, карандаш, конверты. Интеллектуальный труд — единственное спасение. Что-то конспектируешь, вставляя своё. Но тетради забирают на проверку — и редко что вернут. Кто может не писать — тому легче. Но творческие люди, как, например, Стус, Литвин, Сокульский — они не могли не писать, поэтому и страдали больше, когда забирали их рукописи.
Письмо пишешь одно в месяц. Бывает, не можешь его докончить: надзиратели тихонько откроют камеру и заберут написанное «на проверку». Только ты его и видел. Письмо, согласно их порядкам, должны отсылать, как и вручать, в течение трёх суток. На самом деле так бывало редко. Начальство советует: «Пишите на русском — быстрее пойдёт». Иногда письмо посылают на Украину (в Литву, Армению) на перевод, затем решают, отсылать ли его. Часто цензор сообщает: «Письмо конфисковано: условности в тексте; недозволенная информация; клеветнические измышления». Или просто: «Подозрительное по содержанию».
Практически письма от нас отсылали, и то не все, лишь ближайшим родственникам. Получать письма можно от кого угодно и сколько придёт, но часто их конфисковывали по упомянутым выше мотивам. От неродных письма отдавали нам очень редко.
Основная работа — собирать детали электроутюга и прикручивать их винтиками к шнуру. Детали мелкие, винтики колючие — ранят пальцы, норма большая (522 шнура). Некоторые не могли её выполнить. Если нужно тебя, особенно перед свиданием, сделать нарушителем режима — можно обнаружить неплотно прикрученные винтики и отбросить целую вязку (25 или 10 штук). И ты уже не выполнил норму.
Работать по 8 часов 6 дней в неделю в рабочих камерах под замком. Бывали перебои с материалами, тогда сидим в камерах, читаем. Кроме того, заключённых могли привлекать к работам по благоустройству территории до двух часов в сутки. Это случалось редко. Летом — косить траву в зоне, зимой отбрасывать снег. На такую работу большинство шло охотно, потому что сидеть в камере осточертевает. Хоть Божье Солнышко увидишь, лес издалека, траву зелёную (может, принесёшь чего-то съестного, например, крапивы и покрошишь её в баланду). Но никто не шёл перекапывать и бороновать «запретку», устанавливать там столбы — совесть заключённого не позволяет совершенствовать себе тюрьму. Такие требования администрации рассматривались как провокация. Наказание за это непослушание принимали сознательно: заключённый не должен строить себе и совершенствовать тюрьму.
Заработок редко достигал 100 рублей. Половина сразу отчисляется государству («на колючую проволоку»). Из второй половины годами вычитают судебные издержки, у кого они есть, с неё же платишь за питание, одежду, ботинки, ларёк, на подписку прессы, «Книгу — почтой», можешь перевести куда-то деньги. Но это смех говорить: их всегда было мало.
Для прогулки есть три дворика метров 2,5 на 3. Туда выводят всю камеру на 1 час в нерабочее время. Там запрещено раздеваться, но летом изредка можно увидеть Солнце. Дворики для прогулки — это деревянные ящики, метра три высотой, обитые изнутри жестью, сверху они затянуты колючей проволокой. На помосте на уровне проволоки ходит надзиратель. Если где-то между бетоном прорастёт сорняк — его старательно уничтожают. Всё в неволе должно быть серое, бесцветное.
Питание заключённого стоит 22–25 рублей в месяц. В рационе крупы ячневая, овсяная, пшеничная, пшено, картофель, капуста, 15 г сахара, 5 г жиров, 20 г мяса или 50 г рыбы, 600 г хлеба (может, я немножко ошибся). Готовят по предписанию жидкое блюдо и кашу. Продукты завозят дважды в неделю, чтобы зона в случае бунта не могла долго продержаться. Повара из заключённых, так что старались приготовить как можно лучше из того, что выдавалось.
Вода грязная, болотная, вонючая. Поставишь её в посудине — появляется рыжий осадок и жирная плёнка на поверхности. Мы добивались, чтобы завозили чистую, но последним аргументом начальства было: «И мы такую пьём». Так вы же пьёте добровольно: можете пить водку вместо воды, можете уехать отсюда!
Питание с кухни оплачивается из твоего заработка. Впрочем, если у тебя денег на счёту нет, то баланду и пайку всё равно дают. А вот продуктов из «ларька» на присланные роднёй деньги уже не купишь — только вещи первой необходимости (мыло, зубную щётку, конверты, ручку, бумагу).
Можно дополнительно купить продуктов на 4 рубля в месяц. Если выполняешь норму выработки, то на 6 рублей: белая буханка, конфеты, 50 г чая, рыбные консервы, маргарин, растительное масло, изредка лук, морковь, дважды в год 200 г сливочного масла. За нарушение режима этого «ларька» лишают, тогда чувствуешь себя совсем туго.
Посылку (или передачу) можно получить одну в год до 5 кг, но лишь после половины срока. За нарушение режима её лишают.
Можно получить две в год бандероли до 1 кг — носки, бельё, конфеты, сухофрукты или ягоды, табак. Бандероли не лишают.
Иногда вечерами приходит врач, принимает в санчасти. Может освободить от работы, направить в больницу, что в зоне ВС-389/35 на ст. Всехсвятская. Туда везут воронком 3 часа.
Карцером (ШИЗО — «штрафной изолятор») наказывают до 15 суток, но во второй раз в него можно попасть уже и через час. Там у тебя только штаны и куртка с надписью «ШИЗО», носки, тапочки, бельё зимой или трусы и майка летом. Нары отстёгиваются на 8 часов. Остальное время — ходить или сидеть на прикованной табуретке. Постель не положена. В карцере всегда холодно. Кто хочет знать, как гибнет от холода заключённый при плюсовой температуре — прочитайте в очерке Левка Лукьяненко «Василь Стус: последние дни». (Книга «Не дам загинуть Україні!», К.: «Софія», 1994, с. 327–343).
Наказание карцером может быть с выводом на работу — тогда дают горячую пищу ежедневно, хотя без жиров и сахара. Если без вывода на работу — тогда горячая пища без жира и сахара один раз в двое суток. А то ежедневно кипяток и 450 г хлеба. Прогулка карцернику не положена. Курильщики там дополнительно страдают без табака.
После двух-трёх наказаний карцером могут посадить в одиночку на год. Там хуже питание, прогулки полчаса в дворике 2 на 2 метра, одно письмо в два месяца, одно свидание в год до 2 часов, нельзя получать посылок и передач.
После одиночки «за систематическое нарушение режима содержания» могут через суд перевести заключённого на тюремное содержание до 3 лет. При Андропове (12 января 1983 года) введена была статья 183-3, по которой заключённого, «не ставшего на путь исправления», за нарушение режима могли осудить на 5 лет дополнительно, уже в уголовном лагере или тюрьме. Режим тот же или ещё тяжелее. Открылась перспектива пожизненного заключения.
Свидание одно в год до 3 суток с ближайшими родственниками (не более двух) в отдельной комнате с выходом в коридор и на кухню. Заключённому на время свидания заменяют одежду. Чтобы ничего не взял с собой, на свидание выхватывают неожиданно. При обыске заглядывают в невыразимые места. Родственникам тоже. Некоторые не выдерживали этих унизительных процедур и отказывались от свиданий. Редко кому давали 3 суток — одни или двое.
Короткое свидание — до 4 часов, но в основном давали 1 час. Через стол, стекло, телефонную трубку, в присутствии надзирателя, который требует «говорить на русском». Из-за этого некоторые просили родственников вообще не приезжать на короткое свидание — чтобы не говорить на «тюремном языке», языке «тюрьмы народов». Так что некоторые годами не видели никого, кроме сокамерников и надзирателей.
Условия заключения дополняются «человеческим фактором». Одно то, что ограниченное пространство гнетёт, заключённые, какими бы терпимыми ни были, друг другу мешают и надоедают. Бывают конфликты, которые нечем гасить, кроме как ограничить общение, помолчать друг с другом.
Отдельные надзиратели и офицеры тоже имеют свой норов. Скажем, надзиратели Шаринов, Новицкий, Чертанов вели себя с нами так, будто ты ему родного отца зарезал. Вот выводят камеру на работу — одного заключённого в «дежурку» на обыск, догола. Ведут на обед — того же самого ещё раз обыщут. С обеда — ещё раз. Меня было трижды в день раздевали, Михаила Горыня — пять раз. Взбеситься можно... А что-то скажешь — это нарушение режима. Заместитель начальника по режиму майор Фёдоров мог провести пальцем по полочке, обнаружить пыль и наказать за это. Или что у тебя воротничок не выглажен. Или что «в беседе был не откровенен».
Начальником колонии всё время был майор Журавков, а когда он умер в сентябре 1985 года, то его заменил майор Долматов, тогда уже замполит. До того он был начальником нашего участка особого режима. Его заменили майор Кондратьев, потом майор Снядовский. ДПНК были майоры Галедин, Гатин, ст. лейт. Сабуров. Надзиратели (кроме упомянутых Новицкого, Шаринова, Чертанова): Навознов, Сидоров, Останин, Кукушкин, Иноземцев, Власюк, Руденко, Алавердиев. Оперативные работники лейтенанты Журавков-младший, Уткин.
В зоне было трое бывших уголовников: Борис Ромашов, Вячеслав Острогляд (Сухов), Василий Федоренко. Администрация и гэбист использовали их для внутрикамерного террора.
Связь между камерами осуществлялась так. Один становится у двери и прислушивается, нет ли в коридоре надзирателя. Другой ударяет трижды в стену — это вызов на разговор. Три удара — согласие, два — подожди, один — не могу, опасно. Становишься на табуретку или на батарею и говоришь в форточку несколько слов, получаешь ответ — и прячешься. Если на этом поймают — наказание неминуемо. Была попытка перейти на азбуку Морзе — по трубам отопления. Но некоторые надзиратели начали вмешиваться в перестук. Пришлось отказаться.
Весной 1986 года случилось происшествие: разлилась река Чусовая, нашему бараку угрожало подтопление. 7 мая нас вывезли воронками в зону ВС-389/35 на ст. Всехсвятская. Тогда все перемешались, немного пообщались между собой. Мы почти ничего не делали там до 18 мая. Когда нас вернули, то действительно в некоторых камерах были следы воды.
Я чувствовал себя в Кучино скверно. Мне в камере не хватало воздуха. Может, у меня в носу что-то не так, потому что он у меня всё время забивался. Я часто простужался. Форточку не всегда откроешь: из-за неё бывали конфликты. Ночами я не мог спать, потому что нечем было дышать. Из-за нехватки воздуха начало болеть сердце. Стенокардия, аритмия. А ещё ведь курильщики… Иван Кандыба говорил, что, ей-богу, тот коридорный надзиратель меньше вреда наносит, чем сокамерник, который курит. Некоторые (Олекса Тихий, Василь Стус) подходили к форточке или к двери — в зависимости, куда тянуло, а вот Юрий Фёдоров безбожно дымил своей вонючей трубкой где хотел, Борис Ромашов курил где попало, ещё и чай приносил от гэбиста и варил его на газетах над парашей. Менты этого «не замечали». С тех пор я очень ценю чистый воздух. Не надивлюсь: американцы уже бросили курить, а украинцы покупают их гадость, смолят их «окурки», даже женщины и девушки. Я таким «доброго здоровья» не желаю, потому что оно им не нужно. Курят те, у кого есть лишнее здоровье, лишние деньги и лишнее время. Но нет совести. Если бы он ел тот табак, то пусть бы, а то ведь он и меня травит! У меня от табачного дыма поднимается давление крови, сразу чувствую его в висках. Кто знает, может, это уже у меня психологическое, но я считаю, что курение есть грех, обозначенный в Катехизисе как «нечистота, грязь».
А ещё у меня мёрзли колени. Или там под чашечками соли скапливались? Днём ещё походишь, поприседаешь, разотрёшь их, прикроешь чем-то, а ночью остынут — и всю ночь не могу спать. Растирать нет возможности, так как будешь качать нары, а хорошо прикрыть их нечем. Я обматывал колени полотенцем, ещё чем-то. А ещё если попадётся в камере храпун, как, например, Иван Мамчич или Евгений Полищук: в любом положении храпят. Я ходил как сонная муха. Едва норму выработки выполнял. Просил начальника развести меня с Мамчичем, и Мамчич просил. Была надежда, что его выпустят на бескамерный режим. Но нас развели так: Стуса оставили с Мамчичем, а меня от Стуса убрали. А я хотел со Стусом побыть дольше, может, хотя бы некоторые его стихи выучил, тогда они бы сохранились…
А ещё со мной случилось такое. Однажды врач Пчельников Евгений Аркадьевич без моей просьбы послал меня в больницу на станцию Всехсвятская, это зона № 35. Зек всегда рад передохнуть в больнице. Там и питание лучше, и режим слабее, хотя тоже камерный. Это событие: новых впечатлений наберёшься, может, с кем-то из других зон удастся поговорить. Потому что если нет никаких событий, то время движется очень медленно, а когда оно прошло и нечего вспомнить, то кажется, что оно сжалось. Болезней всегда хватало, но особого обострения в то время у меня не было. Врачи были немного удивлены, почему меня привезли в больницу. Но однажды меня вызвали и сделали какой-то укол. Нужно было не даваться, потому что никто мне уколов не прописывал, только таблетки. Где-то через месяц после возвращения, сидя вместе с Горынем, Кандыбой и Курило (а он врач), я почувствовал отвращение к еде, особенно к жирной. Вспомнил, что такое ощущение у меня было в 14 лет, когда я болел болезнью Боткина, то есть желтухой. Желчь расщепляет жиры, а когда она выливается в кровь, то тело желтеет, особенно это заметно на лице и в глазах. Зеркала нет. Я попросил сокамерников посмотреть мне в глаза при дневном свете. Глаза жёлтые, на лице желтизна. Я записался к врачу. Врач Кондратьева сказала, что ничего у меня нет. Я попросил посмотреть на меня у окна, при дневном свете. Она разволновалась, ведь болезнь Боткина очень инфекционна. Когда я болел ею в 14 лет, то окропили родной дом и класс, где я учился, меня 40 суток держали в палате-одиночке. А тут нет! Меня даже не изолировали от сокамерников! Я сам берёгся, чтобы их не заразить. Кондратьева сказала, что это закупорка желчных протоков. Может и так, ей виднее. Нам перед тем продали в «ларьке» лук (это была большая редкость), так я каждый день со смаком съедал одну-две луковицы. Может, это повлияло.
Итак, я почти ничего не мог есть, разве что сухари. Сам вид еды, её запах вызывал рвоту. Кондратьева проявила человечность: прописала мне капельницу. Лежу как-то в санчасти под капельницей. Приводят Василия Стуса на укол. Он остановился в дверях: «Василий, я тебя не узнал». — «Стус, не разговаривать!» Это прапорщик Новицкий.
Вот тогда я и вспомнил таинственный укол. И я не ошибся. Через год-полтора в зону приехала какая-то медицинская комиссия, и я случайно услышал, как врач Пчельников, показывая мою медицинскую карточку, почти шёпотом сказал другому врачу: «Болезнь Боткина». Значит, он знал, что делал. После освобождения мы узнали, что Ивана Светличного в больнице заразили желтухой и везли этапом на Алтай два месяца. Вследствие этого он был парализован. Дмитрия Мазура умышленно держали полгода в ПКТ с туберкулёзником, потом с желтушным. Невозможно было не заразиться. От тех болезней он чуть не умер.
Ещё однажды у меня было воспаление нерва на голове. Через весь затылок до самого глаза мне сильно стреляло с каждым ударом сердца. Днём и ночью. Повезли меня в больницу, дали лишь какие-то рыжие таблетки. А там второе оконное стекло выбито, холодрыга. Две недели сижу, согнувшись и закутавшись во всё, что есть. Не дай Бог ещё когда-нибудь такую боль терпеть.
А то уже после смерти Стуса, в 20-й камере, ни с того ни с сего утром у меня резко повысилось давление. Ребята водрузили меня на мои верхние нары, и я на работу не иду, потому что даже шевельнув рукой чувствую тошноту, вот-вот вырвет. Надзиратель Сидоров покричал-покричал и пошёл за врачом. Пришёл Пчельников, и я просил его об одном: не трогать меня, потому что сердце лопнет. Он что-то дал мне, и приступ прошёл.
Так же утром в той же камере случился неистовый приступ боли в почке. Наверное, сдвинулся камешек. Если бы Гунар Астра не выпросил грелку и не держал твёрдой руки на больном месте — сердце могло бы не выдержать боли.
Похожие внезапные, будто ничем не спровоцированные приступы бывали и у других заключённых. Если связать их с отдельными высказываниями отдельных самых глупых представителей администрации, то вполне можно сделать вывод, что у них было задание загнать нас на тот свет, но времена уже не сталинские, и не каждый чиновник хотел брать на себя такую ответственность. Скажем, Балису Гаяускасу кагэбист Василенков говорил: «Вы можете отсюда не выйти. Вас могут убить». И покушение на его жизнь было совершено руками зека Бориса Ромашова. (См. очерк «Музей в Кучино — совесть России»).
Я старался не обострять отношения с сокамерниками, хотя напряжение иногда возникало. Это обычное дело, что если возникал с кем-то конфликт, то его надо перемолчать день-два, несколько дней, а там найдётся повод заговорить. Камера — большая школа взаимного терпения. Я в юности был нервный, нетерпимый, а тут научился терпеть всяких людей, не унижая ни их, ни себя. А ещё с тех пор я полюбил одиночество. То счастье, когда выпадало побыть в камере (жилой или рабочей) хоть час-другой одному. Или несколько дней. Меня не наказывали в Кучино карцером или одиночным заключением, но, мне кажется, я не особо страдал бы от одиночества. Вот Василий Стус был год в одиночке. Это было для него самое продуктивное время для переводов и стихов: «Час творчості / Dichtenszeit». [Вру: это было во время следствия, в 1972 году]. Тяжело быть одному человеку злому, потому что он сам себя пожирает. А человек добрый и духовно богатый имеет утешение сам в себе, в творчестве, в общении с Богом.
Вот будет ли ещё случай вспомнить уголовника Бориса Ромашова? Он родом из Арзамаса Горьковской области (теперь Нижегородская). Убийца. Сидя в криминальной тюрьме, «раскрутился» на 70-ю статью («Антисоветская агитация и пропаганда» в УК РСФСР). Перевели его на особый режим в Сосновку (Мордовия). Оттуда он в ящике с продукцией отправил на волю какие-то свои записи. Их обнаружили аж во Владивостоке, когда он уже был на воле. Кроме того, исписал глупыми лозунгами свой военный билет и перебросил через забор в военкомат. Получил 9 лет заключения уже с нами и 5 лет ссылки. Говорит, что у него в деле есть справка, что он психопат. У него было много конфликтов, в том числе с Василием Стусом, со мной… Когда он дымил в рабочей камере, кагэбэшный чай варя, я терпел, хотя у меня подскакивало давление. А тут осень, поставили вторые окна, форточка маленькая, я задыхаюсь дымом, у меня, чувствую, подскочило кровяное давление. Не выдержал, встал и к звонку. Вызвал надзирателя и потребовал вывести меня из этой душегубки. Это был отчаянный шаг: зек не должен сдавать зека. Ромашов бросил мне вдогонку: «В камеру не возвращайся». Меня несколько дней продержали в одиночке. Не как наказанного, а пока согласовали с кагэбистом, с кем меня дальше содержать.
Там был ещё один тяжёлый сокамерник, Алексей Мурженко, из «самолётчиков». Викторас Пяткус говорил, что через него люди проходят, как через карцер. Я боялся к нему попасть. А Юрий Литвин, добиваясь, чтобы их развели из 12-й камеры, осенью 1983 года голодал две недели, потом 26 суток, чем подорвал себе здоровье. Ох, это тяжёлые вещи… Гэбня радовалась, когда в камерах напряжение. Тот Ромашов замахивался на Василия Стуса отвёрткой, но Василий и себе поднял отвёртку… Обоих посадили на 5 суток. Помню, как Василий упрекал начальство: «За что я сидел 5 суток?». А Балиса Гаяускаса тот Ромашов пытался убить отвёрткой: в рабочей камере нанёс ему несколько ударов по голове, Балис упал под стол, так Ромашов лезвием ему в грудь… Поскольку Балис упал боком, лезвие пошло наискось, до сердца не достало. И что? Ромашову вроде бы дали 15 суток карцера. Он и там заваривал кагэбэшный чай: меня однажды вместо прогулки послали траву косить вокруг барака, так я видел фольгу под его камерой. А Балиса через 12 суток вернули из больницы, чтобы зафиксировать лишь «лёгкие телесные повреждения». Его ещё ветром шатало, сидеть не мог, голова, раны болели. Не сомневаюсь, что это покушение организовал кагэбист Василенков. Был такой кагэбист Василенко-въ. Леонид Бородин донимал его, что он «не настоящий русский». Так он доказывал, что «настоящий», тем, что мстил своим по роду — украинцам, а также «инородцам». Как известно со времён Ленина, «обрусевший инородец обычно пересаливает по части истиннно русского патриотизма». Он имел в виду Сталина и Дзержинского.
Ещё один «обрусевший инородец» — капитан, а потом майор Снядовский. Щуплый, с каким-то рябым лицом. На него неудобно было смотреть. Наверное, он чувствовал, что люди отводят от него глаза, поэтому возненавидел всё человечество. Вот такого ненавистника и поставили начальником нашего особого отделения. Он ввёл жесточайшие порядки. Эти тотальные шмоны с отбиранием самых необходимых вещей, в частности, белья. Бушлат с какого-то там числа весной нельзя было держать в камере. Мёрзнем. Летнюю шапочку на зиму вынеси в каптёрку, сиди в зимней. Личный обыск, когда идёшь на работу, с работы, на прогулку, с прогулки. Всех лишил свиданий. Боже упаси сесть на нары днём: на них можно находиться только 8 часов, от отбоя до подъёма. Вот и склонишься за столом над книжкой и дремлешь. А говорит, что украинец, что польская фамилия ему досталась от отчима. Что с детьми разговаривает только по-украински. Что читает Олеся Гончара и Петра Загребельного. Хотя Загребельный — Павел. Я пожаловался, что письма подолгу задерживают потому, что пишу родной матери на родном языке. Посылают в Украину на перевод, возвращают сюда, и тут решают, отсылать ли его. В то время как закон велит отсылать или конфисковывать письмо в течение трёх суток. Я не могу вовремя сообщить родным о запрете свидания, вот приедут зря, а это же какие расходы. Снядовский это категорически отрицал и предложил мне написать внеочередное письмо, он отошлёт. Я напропалую написал такое письмо, что его никакая цензура не пропустила бы. А Снядовский не прочитав отослал.
Надзиратель Новицкий, прапорщик, уже в возрасте, о таких уголовные заключённые говорят «гнилой», то есть опытный. С Донбасса родом. Давно всего украинского отрёкся, зато имеет безграничную ненависть к украинству и мстит украинцам. Это комплекс утраты. Но и мерзкий человек! Как въестся в кого-то — жить не даёт. Не пройдёшь мимо, чтобы не придрался. Уже и смены, когда он будет дежурить, боишься. Может, кто-то и не боялся, может, кому-то о страхе говорить стыдно, но — люби, Боже, правду! — страх в неволе всегда присутствует. Это сплошной страх. Боишься, чтобы тебе хотя бы не стало хуже, чем есть. Вот сегодня у тебя в камере бушлат, а завтра его заберут, и будешь мёрзнуть, заболеешь. Вот ты сегодня в камере, а завтра можешь оказаться в карцере. Вот ты надеешься на свидание — а его лишили. И чем меньше у тебя свободы, тем тяжелее терять её остатки. Но ведь этот страх надо переступать, потому что есть честь, есть достоинство. В конце концов, ты тут не сам за себя сидишь.
Получил Новицкий задание придраться ко мне. Несколько раз называл меня прилюдно «мальчишка», хотя мне 33–34 года, я выглядел нормально для своего возраста. Я огрызнулся ему: «Башмак старый, калоша растоптанная». Помогло. А однажды он вломился в камеру пьяный и стал творить такой разбой! Я так осторожно приблизился к Новицкому, принюхался. Действительно воняет. Я какому-то там надзирателю шепнул: «Что вы допускаете? Он же пьяный!» Боже, на меня рапорт написали, что я оклеветал прапорщика, вот справка от врача! Не помню, наказали ли меня тогда, но это было устрашение всех: не смей против них ничего сказать.
Одним словом, режим был невыносим, люди один за другим умирали. Самым первым, 12 сентября 1980 года, умер повстанец Андрей Турик, 1927 г.р., 25-летник, сидел с 1957 года. В 1983 году умер Михаил Курка. Этот был пожилой человек, лет под 70. 5 мая 1984 года прямо в зоне, на кухне, умирает Иван Мамчич из Миргорода, судимый по обвинению в сотрудничестве с немцами. В этот же день, как мы позже узнали, умер в Перми забранный из нашей зоны 7 марта 1984 года Олекса Тихий — на 58-м году жизни. (См. очерк «Восстал и полёг»). К нам привезли в 1984 году 37-летнего Валерия Марченко. Он ранее отбыл на строгом режиме 6 лет и 2 ссылки, у него болезнь почек нефрит. Он пробыл в 19-й камере (с Иваном Кандыбой, Михаилом Горынем и Леонидом Бородиным) всего месяца два, затем его забрали на этап. Позже мы узнали, что он умер в Ленинградской больнице для заключённых имени Ивана Гааза («Газы», как её зэки называют) 7 октября 1984 года. (См. очерк «Похороны Валерия Марченко»).
Юрий Литвин. Он до этого уже перенёс две операции на желудке и одну операцию на варикозе. А тут снова язва желудка. Кроме того, ему обпилили зубы, чтобы коронки поставить, эмаль сняли — и 9 месяцев ничего не делают! Это же нельзя в рот ни холодного, ни горячего взять. Он этого не выдержал. 23 августа 1984 года его обнаружили в камере с разрезанным животом. Я не могу утверждать, что это было самоубийство — есть некоторые основания полагать, что, возможно, это гэбисты ему что-то устроили, сатанинскую роль мог исполнить врач Пчельников, Евгений Аркадьевич. Пришли сокамерники на обед. Литвин бредил: «Зубы принесли?». Юрий Фёдоров поднял одеяло и увидел, что живот разрезан, а крови нет. Забрали Литвина в больницу в Чусовой. Операцию сделали небрежно, у него вздулся живот. Давай вторую операцию делать — и он умер 4 или 5 сентября, на 50-м году жизни. (См. очерк «Любовь. Добро. Свобода»).
Был там азербайджанец Акпер Керимов — кроткого нрава человек, тоже обвинённый в сотрудничестве с немцами. Он тяжело страдал от болезни почек. Повезли его во Всехсвятскую, в зэковскую больницу, где он умер 19 января 1985 года. Тогда уже каждый думал, чья следующая очередь.
Дальше была очередь Василия Стуса — может, потому, что он единственный сумел оттуда переслать на волю свои записи, названные «Из лагерной тетради». Их опубликовала Надежда Светличная. А ещё прошёл слух, что Генрих Бёлль, лауреат Нобелевской премии, выдвинул его творчество на соискание Нобелевской премии 1985 года. Как известно, эту премию присуждают только живым, а посмертно — нет. В 1936 году Адольф Гитлер узнал, что его узника Карла фон Осецкого отметили этой премией — так он распорядился его освободить. (Теперь пишут, что документов о выдвижении не обнаружено, что украинская община Запада поздно начала такие хлопоты и не успела в 1985 году издать переводы, что собиралась выдвигать в 1986 году. Что Карл Осецкий умер в неволе… См.: Вахтанг Кипиани. Стус и Нобель. Демистификация мифа: http://kipiani.org/gulag/index.cgi?705 ) Ну, а Горбачёв не хотел иметь лауреата Нобелевской премии в камере, а тем более освободить его. Решили проблему традиционным, по заветам Сталина, способом: «Нет человека — нет проблемы». Серия карцеров... В частности, 27 августа обвинили его в том, что лежал на нарах в верхней одежде и на замечание «гражданина контролёра вступил в пререкания». Назавтра — 15 суток карцера. Поскольку обвинение было ложным, Василий объявил голодовку и из той голодовки уже не вышел — умер в ночь с 3 на 4 сентября 1985 года в карцере номер три. (Об этом подробнее в очерке о В. Стусе).
Режим после этого не смягчился. Заметьте: это уже шла «перестройка Вавилонской башни» (выражение Евгения Сверстюка), это уже Горбачёв сидел на московском престоле! Лишь в 1987 году режим стал понемногу смягчаться. Где-то летом меня выпустили на бескамерный режим. Я с Энном Тарто сидел в рабочей камере за шнурами, и он рассказывал мне историю Эстонии и угро-финнских народов. Потом меня поставили стирать бельё и банщиком. Я там три месяца работал. Как-то мне приказали поштукатурить печь. Я расспросил Евгения Полищука, как это делается. Но пропорции цемента и песка оказались неправильные: моя штукатурка потрескалась и свернулась в трубки. Пришёл начальник колонии майор Долматов со свитой и напустился на меня. Я сказал: «Я учитель украинского языка и литературы, а не штукатур, и мне вообще нечего делать в вашей России... Да вы пьяный, от вас воняет…» Это было лишним, я потом корил себя, что так сорвался. Меня чем-то наказали, но не карцером. Они отнеслись к моим словам очень серьёзно, собрали свидетельства «свиты» и даже медицинскую справку, что Долматов не был пьян. Не понимаю, зачем им это было нужно. Тем более мне.
Следует сказать, что меня в Кучино ни разу не бросали в карцер. Свиданий лишали, ларька, посылки, а от карцера Бог миловал. Почему-то этот Долматов не был ко мне так жесток, как к другим. Впрочем, установки, как к кому относиться, давал кагэбист. Сначала это был Чепкасов, потом мой ровесник Ченцов, географ по образованию. Этот даже пробовал меня сагитировать на свою сторону. Повод: я сказал ему, что моих писем не отсылают. Он за это ухватился и пообещал отослать письмо мимо цензуры. Я дал ему письмо, и он действительно его отослал. Тогда Ченцов вызывает меня во второй раз и затевает какой-то такой скользкий разговор. Я понял: КГБ не собака, которая в случае чего может палец откусить. КГБ — гадина, которая если укусит, то яд пойдёт по всему телу. Я оборвал тот разговор.
Некоторые, как вот Иван Кандыба, вообще не ходили на вызовы кагэбиста. В этом был смысл, но смысл был и в том, чтобы пойти, потому что хоть они на вранье школу кончали, а всё же и мы не лыком шиты: какую-то информацию из разговора вынесешь, какие-то выводы сделаешь. При нашей полной изоляции и это было на пользу. Те вызовы были нечастыми, но, вернувшись от кагэбиста, а даже от начальника, каждый считал нужным рассказать в камере всё, что там говорилось.
О некоторых деталях нашего тамошнего быта я намерен рассказать в отдельных очерках о покойных Василии Стусе, Юрии Литвине, Олексе Тихом и Валерии Марченко. А тут лишь конспективно — о себе.
В том 1987 году, 18 июня, была какая-то амнистия, и почти всем нам сократили на треть неотбытый срок. Мой должен был бы уже закончиться раньше на 1 год и 4 месяца, 13 февраля 1990-го, а ссылка — 13 июня 1993-го. Мы были удивлены, ведь никто из нас ничего не просил и никаких заявлений не писал. Было видно, что империя зашаталась. Появилась надежда выйти из «лагеря смерти» живыми. В московской прессе уже писали такие вещи, которые ещё несколько лет назад нам инкриминировали как «клеветнические».
В ноябре 1987 года меня вызвал тогдашний начальник отделения майор Кондратьев и предложил стать поваром, потому что уже некому. Иначе будут нам из соседней зоны привозить еду в термосах. Я с 17-й мордовской зоны знал, что это будут одни помои, поэтому в интересах общества согласился. На повара меня посменно учили Иван Кандыба и Николай Горбаль. Но поварствовал я всего недели две: 8 декабря 1987 года в зону нагрянула целая банда ментов и устроила генеральный шмон. Нас посадили в воронки и вывезли из Кучино. Я запомнил дату 8 декабря, потому что в тот день утром взяли на этап Левка Лукьяненко: у него 12 декабря заканчивался срок заключения, повезли на ссылку. Итак, он уехал, не зная, что в тот же день Кучинский лагерь особого режима прекратил своё существование. В тот день Горбачёв встречался в Рейкьявике с Рональдом Рейганом, и ему нужна была ложь хотя бы на день: «А их там уже нет». То есть в Кучино нет. Нас восемнадцать человек перевезли воронками на станцию Всехсвятская, в зону ВС-389/35, где нам, рецидивистам, отвели часть больницы. Режим там уже был значительно легче. Вот, скажем, в Кучино до «отбоя» нельзя было даже сесть на нары. А тут Николай Горбаль лежит на нарах, аж заходит майор Осин. Николай вскочил. «Лежите, лежите», — говорит майор. Недели две у нас не было работы, так мы ходили себе по берёзовой роще, прокопав в снегу тропинки между берёзами. Потом поставили нам швейные машинки и научили нас шить зелёные сумки для инструментов. Я умел шить ещё с 17-го мордовского лагеря, но не признавался. Норма сумок вылетала у меня из-под машинки за три-четыре часа.
Читаем в прессе, что на Всехсвятскую, на строгий режим, приезжали иностранные журналисты (это впервые в истории ГУЛАГа!). Хотя ни с кем поговорить не дали, но это знак, что ГУЛАГ вот-вот лопнет. Нас начали обхаживать приезжие кагэбисты из Москвы: «Напишите что-нибудь, ну, что ошибался, что не буду больше, что болен. Или пусть родные напишут». Говорили, что на строгом режиме некоторые заключённые что-то там такое понаписали и их освободили. Мы, бывшие на особом режиме, упёрлись, что писать ничего не будем: «Вам припекло? Вам нужно иметь перед миром „человеческое лицо“? Ну, так имейте его: освобождайте нас, берите нас себе в союзники, и будем вместе „перестройку“ делать». Нет же! Они начали и нас в 1988 году освобождать: по одному, по двое этапом везут в областной центр, там объявляют о «помиловании». Василия Курило, Михаила Горыня и Семёна Скалича освободили ещё в 1987 году как тяжелобольных. У Курило была куча болезней, у деда Семёна ещё больше: с 17-ти лет туберкулёз костей. Скажу вам откровенно: Михаил Горынь был кандидат № 1 на тот свет. Он тяжело мучился почками, а сердце у него «болталось, як телячий хвіст» (это его выражение). Такая тяжёлая, мерцающая аритмия. У меня самого она была, но ведь не такая! Сердце Михаила часами могло «пробуксовывать» на третьем-четвёртом сокращении. Вот возьмёшь его за пульс — а пульса нет. Страх берёт. Наверное, новый врач Грущенко не давал гэбистам гарантий за Горыня. А им уже трупы были нежелательны. Бывало, что тот Грущенко — спасительная душа! — ночами сидел у Горыня. Он его спас. Михаила возили во Львов, вернулся он едва живой, а 2 июля его взяли на вахту даже без вещей и освободили. Брата Николая вызвали из Львова, чтобы забрал его домой. (Об этом я узнал уже на воле).
Со Всехсвятской где-то в марте 1988 года освободили латыша Гунара Астру. Через месяц-полтора кому-то пришла весть, что он умер. 2 июля освобождают прямо из карцера Ивана Сокульского и Петра Рубана. Скажу вам, что их двоих, а также Ивана Кандыбу, Михаила Алексеева и Марта Никлуса, тяжело прессовали в карцерах, потому что они перешли на статус политзаключённого.
Март Никлус получает эстонскую газету и читает, что он уже на воле! Он вызывает начальника и объявляет голодовку. Голодовка длилась всего 48 часов: поступили из Москвы документы, и его 8 июля освобождают, вместе с Григорием Приходько. Шмон был такой поспешный, а Март такой хитрый, что не проверили одну сумку, а там было два комплекта спецодежды рецидивиста! Потом он бравировал в полосатом на митингах. (Конечно, я об этом узнал позже).
Остаётся нас пятеро: эстонец Энн Тарто, русский Михаил Алексеев (он родом из Казахстана, а жил до ареста в Житомире), Иван Кандыба, Николай Горбаль и я.
ПОСЛЕДНИЙ (ДАЙ БОГ!) ЭТАП
12 августа 1988 года вызывают с вещами меня, Николая Горбаля и Ивана Кандыбу. Какие наши вещи? Что-то из белья, а остальное — книги. Вещей нельзя иметь больше 50 кг, тем более на этапе. Две трети книг мне пришлось оставить. Зек всегда наготове к этапу: я книги заранее соответственно поделил, что эту сумку беру, а эту оставляю, потом буду добиваться, чтобы их мне прислали (никто их не прислал). Три дня держат нас в комнате свиданий. Догадываемся, что речь идёт об освобождении. Итак, остались на особом режиме только двое — Энн Тарто и Михаил Алексеев. Скажу наперёд, что их освободили только 2 декабря. Нас троих завезли в Пермскую тюрьму. Держат неделю — никакого движения. Пишем заявления, что объявляем голодовку: нас безосновательно держат в тюрьме. Ночью 21 августа меня первого из тройки берут на этап. Вижу, это спецконвой: два солдата и офицер. Привозят в аэропорт. Солдаты рассказали, что они уже развезли многих заключённых, даже называют знакомые фамилии. А ещё говорят, что в аэропорту есть какой-то секретарь ЦК, но нас пропустили перед ним, первыми. Закономерно, ведь особо опасных политических рецидивистов уже осталось меньше, чем членов Политбюро в Кремле. Заводят меня в самолёт, где-то в хвост. Справа солдат, слева, а спереди офицер. Наручники держат наготове, но уже не надевали. Меня в 1976 году тоже возили спецконвоем, так надевали наручники перед тем, как завести в самолёт. Здесь уже обошлось. Однако люди на меня косятся: какого-то душегуба везут. Но стюардесса спокойно подаёт мне завтрак, как и всем пассажирам.
Нас догоняло солнце — всё время нам всходило солнце, когда мы летели в Киев! В Борисполе в аэропорту меня несколько часов держат в какой-то каморке. Слышу через стену, что мои конвоиры вызванивают Киев, чтобы прислали воронок. А как раз воскресенье, воронка нет. Сами понимаете, как моя душа встревожена. Я молился всеми молитвами, которые знал, чтобы гасить тревогу. Наконец-таки прислали воронок. Привезли меня в Лукьяновку — Лукьяновка не принимает: «Это не наш. Везите в КГБ». Повезли в КГБ на Владимирскую — КГБ всегда рад таким гостям! Я даже одного знакомого мента узнал. Говорят, переночую здесь ночь, а завтра в Житомир. Велят взять в камеру только туалетные принадлежности. Так мне не хотелось ступать в ту тюрягу… И ребята-конвоиры не хотят задерживаться в Киеве, им бы сдать меня в Житомире и назад в Пермь. Господь услышал мою молитву: они таки добились воронка и повезли меня в Житомир. Где-то после обеда мы уже были в Житомире. Сдают меня, передают сопроводительный пакет. Пакет распечатывают, а там написано: «По получению сего освободить». Спрашиваю, а какое основание? Указ Президиума Верховного Совета СССР о помиловании от 12 августа. Помиловать! Они нас, видите ли, «миловали»! То есть мы таки преступники, а они к нам проявили милосердие!
Ага, именно 12 августа нас выдернули из зоны. Значит, нас должны были в тот же день освободить, но ведь документов из Москвы не было. Но что мне до ваших хлопот: у меня есть козырь. Спрашиваю, а за что же меня помиловали? Я ведь не просил помилования. Я требовал освобождения и реабилитации. «За хорошую работу и поведение, что свидетельствует об исправлении». Вот тебе на! Будто я до заключения был лентяй и хулиган…
Кагэбист предлагает оставить здесь вещи (то есть книги и тетради), завтра их мне привезут домой. Сегодня, мол, воскресенье, некому их проверить. Нет, говорю, я вам не доверяю. Никуда я без своих вещей не пойду. Сяду под тюрьмой и буду сидеть, пока не отдадите. Кагэбист что-то там сам просмотрел и выпускает меня, ничего не отобрав. Правда, принесли мне чёрную одежду, которую носят на строгом режиме. Пожалел я о своей полосатой шкуре. Бушлат я тоже тащил за собой, и он не лишний был по камерам. Зек без бушлата, как солдат без автомата. Спрашивают, есть ли деньги. На счету, говорю, есть, но где тот счёт? Кагэбист даёт рубль с копейками на билет до Радомышля.
Итак, меня освобождают. Вы знаете, что это такое? Удивительным образом, меньше чем за сутки ты вдруг оказываешься на воле! Я двинулся со своим чуть ли не 50-килограммовым рюкзаком к автовокзалу. Там недалеко. Но гэбист смилостивился и послал какую-то машину. Взял мне билет на автобус и ещё даёт десятку. Я не хотел брать, но хорошо, что взял: в Радомышль я приехал в восемь часов вечера, а до Ставков уже нечем ехать. Беру за ту десятку такси — и таксист привёз меня прямо под двор. Господи, я не узнаю своей улицы! Вот тут была голая дорога — стоят какие-то двухэтажные дома. Вот тут был хмельник — чистое поле. Боже, как мои ивы выросли! Вот ворота, которые я делал, но откуда такой огромный куст красной, как в песне, калины? А ведь это я его посадил весной 1977 года. Какое всё красочное, сочное, полносильное, здоровое, роскошное! Я не был здесь девять с половиной лет!
Где-то в полдевятого вечера я уже был в родном доме, с матерью наедине... Ещё ночью я был на нарах Пермской тюрьмы — и вот, как говорил Тарас, «із тьми, зі смрада, із неволі», меньше, чем за сутки, я оказался в раю… Это действительно было чудо Господне.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ
Б. Захаров: Какой была Ваша деятельность после освобождения из лагерей, уже при независимости? Каково Ваше отношение к новой Украине, какие прогнозы на будущее?
В. Овсиенко: За сутки я почти оправился (адаптировался, по-современному говоря) и уже 23 августа поехал в Киев, к сестре Надежде и племяннице Люде. На станции метро «Дарница» встретился с женой Николая Горбаля Ольгой Стокотельной и спросил, куда идти. Ольга была очень встревожена, потому что кагэбисты сказали ей, что вот-вот прибудет Николай. Кагэбисты привезли Николая к жене на Борщаговку поздно вечером 23-го августа. Прямо так, в полосатой одежде, с бушлатом включительно. А я в тот вечер по совету Ольги впервые побывал на собрании Украинского культурологического клуба на Олеговской, 10, у Дмитрия Федорива. Клуб собрался в саду, человек 50–70. Меня приветствовало много людей, которых невозможно было запомнить. Наверное, были бывшие политзаключённые Олесь Шевченко, Виталий Шевченко, Сергей Набока, Клим Семенюк, Василий Гурдзан, Ольга Гейко, Леонид Милявский.
В следующий приезд, 3 сентября, я имел в том Культурологическом клубе своё первое публичное, поистине свободное выступление. Это был канун годовщины гибели Юрия Литвина и Василия Стуса — они умерли в один день, с разницей в год, Литвин в 1984, а Стус в 1985 году. Так я рассказывал о них, читал по памяти стихи Стуса. Тогда Светлана Кириченко, жена Юрия Бадзя, который ещё был в ссылке в Якутии, сказала, что моё чтение напоминает ей стусовское. Действительно, я в какой-то мере имитировал автора, потому что слышал и видел, как он читает. До сих пор меня раздражает, когда кто-нибудь, даже из профессиональных чтецов, неправильно акцентирует Стуса. Пётр Борсук попросил переписать и прислать ему эти стихи, чтобы его дочери выучили. В тот раз была очень колоритная пара: Ярослава Данилейко и Тарас Компаниченко. Им было лет по 18–19. Так красиво по-народному одеты! Пели под бандуру. А обращались друг к другу на «Вы». Господи, какие красивые наши люди, какой красивый украинский мир! А в тюрьме сплошная серость…
В Киеве мне насобирали что-то около 300 рублей помощи, так я купил кое-что из одежды, а ещё пришло что-то посылкой от украинской диаспоры. На эти средства я в сентябре съездил на Донетчину к сестре Любе и братьям Анатолию, Николаю. А также во Львов. Трое суток жил у Черновола на улице Левитана, а он дома не сидел, всё куда-то ездил. Возиться со мной некому было: мне задавали направление, и я сам ходил «незнаним Львовом» (В. Симоненко). Во Львове люди ходят между машин, как между овец. Нашёл я Картинную галерею и выслушал блестящую экскурсию Богдана Горыня.
Перед тем я посетил мать и отца Дмитрия Мазура в Гуте-Логановской Малинского района на Житомирщине. Узнал, что Дмитрий после 6 лет Мордовских лагерей сослан в Бурятию. Там какой-то комсомолец тяжело избил его, угрожал сбросить с балкона четвёртого этажа. Дмитрию создали такие условия, что он вынужден был бежать из ссылки. Скрывался в своём краю, мать ему есть в лес носила. Но наступила осень, он пошёл к приятелю в Коростышев — там и попался. Год криминала. А сейчас заключён за второй побег. Его содержали с туберкулёзниками и желтушниками и, конечно, заразили этими болезнями, он погибает. Собственно, я и ехал во Львов, чтобы как-то спасти Дмитрия Мазура. Там уже действовала Рабочая группа защиты украинских политзаключённых, которую создал Михаил Горынь. Михаил сказал мне: «Поскольку вы знаете о Мазуре больше всех, то садитесь и пишите телеграмму Горбачёву и отсылайте её от имени Рабочей группы. А мы её распространим». Это была телеграмма на целую рукописную страницу, она так и посылалась в рукописи. О Мазуре стало говорить радио «Свобода». Очевидно, это подействовало: Горбачёв «помиловал» Дмитрия Мазура, Левка Лукьяненко и Юрия Бадзя одним указом, от 8 декабря 1988 года.
Дмитрий вернулся тяжело измученный, у него долгое время болела голова. Он даже не запомнил, как я встретился с ним на дороге в лесу вблизи его села. За несколько лет он вылечился народными методами. Но у матери возник рак, он похоронил её в начале 1990 года. Отец был инвалид, грузный, через хату не мог перейти. Ещё год Дмитрий мучился с отцом. Так он упустил время, тогда как другие бывшие политзаключённые, в том числе и я, так сказать, «выходили в люди» и занимали какие-то места в обществе. А Дмитрий Мазур очень талантливый, мудрый человек. Он до сих пор бедствует в одиночестве в Гуте-Логановской, но не теряет оптимизма. Держит корову, кур. Когда едет в Киев, то привезёт молока, яиц и накормит-напоит весь секретариат УРП. Или насобирает черники или грибов. Или подстрелит дикую козу. А ему бы быть в руководстве политической организации. (Теперь Дмитрий уже не держит корову, но так же часто ко мне приезжает).
Тем временем я посетил в Самборе своего искреннего мордовского приятеля Зоряна Попадюка. Он жил в огромном семейном доме на улице Ровная, 12. Работал грузчиком хлебной машины. Он вышел на волю в феврале 1987, отбыв 14 лет. И женился на своей Оксане! На той самой, о которой рассказывал мне в Мордовии в 1974 году: «Она меня будет ждать». Я не очень поверил: Зорян имел тогда 7 лет заключения и 5 лет ссылки. Оксана таки вышла замуж, имела сына, но когда увидела Зоряна… Одним словом, это романтическая история, конкретным результатом которой являются двое очень славных деток: Любомир 1988 и Ирина 1989 г.р. Я знаю несколько очень славных пар и с восхищением любуюсь ими, потому что — одинок. Одна из таких славных пар — Попадюки. Зорян впоследствии побывал на должностях председателя горсовета, председателя горисполкома, представителем Президента в Самборском районе, председателем Старосамборской райгосадминистрации, но власть совсем не потоптала его искренней души. Мама его, известная участница движения сопротивления Любомира Попадюк, умерла в 1984 году, а остались две бабушки, которых Зорян с Оксаной не могли ни на кого оставить. А то бы Зоряну с его талантами быть на высших ступенях общества.
На Житомирщине не было ни одного члена Украинской Хельсинкской группы, кроме меня. Группа возобновила свою деятельность ещё в конце 1987 года, а 7 июля 1988 года обнародовала на митинге во Львове свои новые документы уже как Украинский Хельсинкский Союз. Это были разработанные Горынями и Черноволом Программные и Уставные принципы УХС. Ежемесячно меня звали на заседание Координационного Совета УХС. Этот Совет уполномочил меня создать филиал УХС на Житомирщине. Но надо собрать не менее десяти человек. К кому идти? Я знал, что в Житомире есть два живых человека: Анатолий Шевчук и Евгений Концевич. Первый — политзаключённый набора 1965 года, а второй не сидел только потому, что инвалид, лежит с 17-ти своих лет. «Адрес» Анатолия я знал из произведений его брата Валерия: Шевчуки жили там, где речушка Каменка впадает в Тетерев. Пошёл туда, допытался. Это Чудновский переулок. Анатолий принял меня без тени подозрения: зек зека узнаёт издалека. Он рассказал мне, что в Житомире действует «Гражданский фронт содействия перестройке» (ГФСП). Лидер Яков Зайко, белорус, журналист. Активисты — два экономиста, Виталий Мельничук и Александр Сугоняко. Но самая популярная личность — Алла Ярошинская, журналистка. Они поднимают социальные проблемы, национального вопроса избегают. Русскоязычные, но прогрессивно настроенные. В их среде или около них крутится много активных людей, там и следует поискать нужных для УХС.
Но прежде всего я попросил Анатолия Шевчука повести меня к Евгению Концевичу. Потому что это было сердце украинского духа в Житомире. С тех пор я подружился с Евгением и его женой Майей. По крайней мере стараюсь каждого 5 июня, в день рождения Евгения (он 1934 года), приехать к ним да ещё и людей привезти.
Мне в Житомире назвали фамилии молодых журналистов Василия Врублевского, Владимира Даниленко, Михаила Сидоржевского, Святослава Васильчука. В тот день я посетил Якова Зайко. Он сидел в своей квартире, что неподалёку от автовокзала, заваленный бумагами. Оказалось, что нормально говорит по-украински. Но свои листовки ГФСП-овцы «шмаляют» на русском. То есть продолжают «обрусение края». Впоследствии Зайко издавал газету «Голос гражданина». Она уже была преимущественно украиноязычной. Узнал я фамилии врача Валерия Ивасюка и Анатолия Маляренко. В следующие приезды познакомился с этими людьми. Ивасюк и Маляренко даже бывали в Киеве на собраниях УХС и Культурологического клуба. Но за всю зиму нам не удалось собрать нужный десяток людей, чтобы создать Житомирский филиал.
И вот весной 1989 года на собрании УХС что-то сообщает Валерий Колосовский… из Житомира! Я обрадовался, что нашёлся такой славный и умный парень. Он капитан, оставил военную карьеру, вернулся из Москвы к своей маме. А в Москву был переведён из Чернобыля сразу после взрыва. Там был знаком с Анатолием Доценко, сообщения которого мы тогда слушали по радио «Свобода» — на украинском и русском языках. Вот именно Валерию в течение нескольких месяцев удалось собрать 11 человек, и мы 16 июля 1989 года провели Учредительное собрание Житомирского филиала Украинского Хельсинкского Союза. На него приехал из Киева Николай Горбаль, тогда уже исполнительный секретарь УХС. Меня там избрали председателем филиала, а Валерия заместителем. По правде говоря, фактически филиалом руководил Валерий Колосовский. В отличие от меня, он обладал организаторским талантом, жил в самом центре города, а я же — в селе за каких-то 80 км.
Не будем забывать, что у моей матери было 60 соток огорода, была какая-то живность (корову мы уже не заводили). Это тяжёлый ежедневный труд. А мать привыкла всё делать не абы как, а наилучшим образом. Так и я должен делать так, как мать говорит. Сколько той земли крестьянин должен перевернуть! Правда, сестра Надежда с мужем Леонидом наезжали из Киева и работали.
Через три месяца после освобождения я должен был идти на работу в колхоз. Меня снова приняли художником-оформителем. Но почти каждую субботу и воскресенье я куда-то ехал — то в Киев, то в Житомир. Это было, конечно, обременительно, но перебраться куда-то я не мог, потому что жаль было оставлять мать. Кстати, ещё до начала учебного года я поспешил отбыть формальность: подал в Радомышльское районо заявление, чтобы меня взяли на работу по специальности, учителем украинского языка и литературы. Пошёл с ним к заврайоно. Фамилия, кажется, Петровский. «Как мы вас можем допустить к воспитанию детей, если вы призывали резать и вешать коммунистов?». Я предусмотрительно имел с собой два последних приговора и предложил найти в них такое обвинение. Заврайоно ничего такого не нашёл, поэтому сказал, что штаты у них уже укомплектованы, мне нет места ни в одной школе района.
В следующем учебном году, 1989/1990, вакансия открылась в моём селе: учительница-украинистка ушла «в декрет». Я снова подал заявление, но её уроки отдали русисту, он некоторое время работал председателем сельсовета, а потом вернулся в школу воспитывать деток в коммунистическом духе. А я должен был работать колхозным «богомазом»: вывески, социалистические обязательства, надои, таблички на поля, номера на машинах… Руководил мной парторг Иван Александрович Овсиенко. Время было смутное, поэтому председатель колхоза Олег Леонидович Белозерский и парторг на всякий случай уже не давили на меня. Потому что на них никто не давил.
А я — хотел или не хотел, оно само собой так складывалось — развернул «бурную деятельность». Но не в своём селе. Потому что тут было не с кем. Я прожил в Ставках полтора года, а не собрал вместе трёх человек, чтобы создать ячейку Общества украинского языка, не то что Народного руха или УХС. Пьяные ко мне подходили, а трезвые обходили. Зачем ячейка пьяниц? Разве что чтобы выпить. А я же не пил. Принципиально. Таким образом хотел, в частности, составить компанию своему брату, чтобы и он не пил. Тщетны были мои усилия…
Кстати, житомиряне захотели приехать на моё 40-летие 8 апреля 1989 года. Я сказал, что алкоголя на столе не будет. Они приехали на небольшом автобусе. Были Васильчуки, Колосовский, Харчуки… От сельсовета шли по селу с флагом. Угощение действительно было без алкоголя (хотя там из-под стола что-то доставали, но я делал вид, что не вижу). Всем очень понравилось, но в следующем году никто не пришёл. Впрочем, я себя никогда не праздную, потому что мой день рождения всегда в Великий пост.
Я чуть ли не каждую субботу ездил то в Киев, то в Житомир: приглашали меня в УХС, УКК, ТУМ, на митинги. Я старался не нарушать колхозную трудовую дисциплину. Всегда имел с собой фонарик и ножик. Не скажу, что не боялся идти в темноте из Радомышля домой, но ведь ходил. Иногда громко пел, чтобы страх отгонять. А когда ехала машина — прятался за деревья. Я знал, что мне надо остерегаться: где люди днём ходят от машины за два метра, там я за четыре.
Однажды ранней весной выезжаю из Житомира последним автобусом, в 21 час, с мыслью сойти в лесу напротив села. Это будет 7 километров, а не 10, как из Радомышля. Прихожу к Тетереву — а он полон чёрной воды! Лёд вздулся, вот-вот вскроется! До мостков — несколько метров! Возвращаюсь назад к шоссе, иду в Радомышль на мост. Редкие ночные машины не останавливаю, более того, прячусь от них. Ходил я быстро. Тогда я отмахал за ночь что-то около 28 километров. Добрался до дома в 5 утра. Стучу в окно возле кровати матери. Они уже знали этот стук. Наверное, это было немилосердно по отношению к матери, но наступило такое бурное время, что я уже не мог остановиться… В 9 был на работе. Хотя какая там работа: ноги в подъёме болели с неделю.
В селе я не снискал популярности. Большинству людей до меня было безразлично, а со своими симпатиями люди на всякий случай не спешили: время смутное. Инерция страха — это надолго. Ведь мной тут 15 лет людей пугали!
Вот показательные факты, хотя случились они немного позже, когда я уже в Киеве жил. Как раз нефтяной кризис, Россия перекрыла нам краник, бензина нет, автобусы в сёла не ходят. Иду из Радомышля к матери пешком. Какой-то землячок из-за забора: «А что, при самостийной Украине пешком ходишь?» — «Лучше мне самостоятельно ходить пешком, куда я хочу, чем кататься в „воронке“, куда я не хотел».
Или ещё один завистник услышал, что я реабилитирован: «О, он компенсацию получил!» — «Єсть же люде, що і моїй завидують долі», — говорил Шевченко. Почему бы и вам не отсидеть и не получить компенсацию?». А я, помню, тот «Закон о реабилитации» от 17 апреля 1991 года читал в трамвае по дороге. Конечно, радовался. Но когда дочитал до размеров компенсации, то так горько стало, что я не пошёл её получать. За ту компенсацию в то время я мог купить… портативную югославскую печатную машинку «UNIS». Это за 13 с половиной лет заключения! Там написано было, что компенсацию следует получить в течение 5 лет. Я подумал, что, может, если заболею или будет какая-то другая крайняя нужда, тогда получу. Но то затянулось, и я уже её потерял. Правда, где-то с 1992 года у меня есть «Удостоверение реабилитированного», которое даёт мне право бесплатно ездить в городском транспорте и на электричке. Это при нынешних ценах для меня немало. Кстати, я сам за реабилитацией не обращался, потому что получилось бы, что я сидел «безвинно», что я лишь жертва террора. Нет же, я таки что-то делал против той Империи Зла, и она это оценивала. Хотя, кажется, таки переоценивала меня. Впрочем, ей с того света виднее.
С 1994, когда мне добрые люди купили это жильё, я за коммунальные услуги плачу половину. Это с моими заработками тоже немало. Это когда я уже был секретарём УРП. Обошёл пять квартир вместе с Петром Розумным. В конце концов говорю Михаилу Горыню: может быть, как-то приобрести однокомнатную квартиру, чтобы я там жил, пока секретарствую в партии? Горынь намотал это на ус, а поскольку ездил в Америку, то однажды привёз что-то там. Больше всего постарался Иван Васильевич Коляска, это он собрал деньги. Знаете, он бывший канадский коммунист, родился 5 октября 1915 года в Канаде. Род его с Буковины. Его где-то в 1963–64 году послали в Киев в Высшую партийную школу при ЦК КПУ, он имел перспективу возглавить компартию Канады. Но как приехал сюда и увидел, что такое коммунизм… Сблизился с Борисом Антоненко-Давидовичем, Иваном Дзюбой и Иваном Светличным. Стал собирать самиздат, материалы о русификации Украины. Подумайте только: в обложки книг вмонтировал самиздат (был немного переплётчиком) и отсылал те книги через Общество культурных связей с украинцами за рубежом! То есть фактически через КГБ! Его арестовали, продержали несколько месяцев и выдворили. Когда везли в аэропорт «Борисполь», то говорили: «Смотрите, смотрите, Иван Васильевич, на Днепр. Больше вы его не увидите». Иван Коляска написал книгу о колониальной политике в Украине «Образование в Украине» (вышла на украинском и английском языках), объездил всю Канаду и пол-США, развалил компартию Канады и половину компартии США… А теперь он одним из первых (в день путча 19 августа 1991 года!) приехал в Украину, очень много помогал УРП: собрал средства на 50 печатных машинок, диктофоны, привёз нам первый компьютер. Он не был богат, но умел собирать деньги, потому что ему украинцы верили. Вот и мне он, царство ему небесное, собрал деньги на жильё. Умер он 21 октября 1997 года, последний год жил у Левка Лукьяненко в Хотове, там и похоронен. (См. некролог в «Народній газеті» № 44 (325).
Не премину рассказать, как Иван Васильевич (не любил, чтобы к нему обращались «пан») агитировал в своё время за генерального секретаря компартии Канады Уильяма Каштана (еврей из Стрыя) как кандидата в сенат. Обошёл, говорит, почти всех избирателей своего участка. И в его участке большинство проголосовало за Уильяма Каштана. А в целом по округу он оказался на последнем месте. Больше голосов собрал даже тот кандидат, который ради смеха выдвинулся с такой программой: «Если выиграю, то сразу подам в отставку». То есть откажусь от мандата. «Мой офис — местная корчма, первый столик справа». Так что те компартии в других странах были содержанками СССР. Мы их кормили, как агентуру КПСС/КГБ.
А что до квартиры — она покупалась на моё имя. Я говорил Горыню: может, я напишу расписку… «Нет-нет. Я собирал вам». И правильно сделал, потому что когда меня в 1996 году исключили из УРП, то и это жильё забрали бы… А так — хоть жильём я обеспечен. В конце концов, оно служит «пересылкой» для бывших политзаключённых: если кто-то приезжает в Киев, то идёт ночевать ко мне. «А в мене діти не кричать і жінка не лає, тихо, як у раю. Усюди Божа благодать, і в серці, і в хаті…» (Т. Шевченко).
Но — весна 1989 года. Приближаются выборы в Верховный Совет СССР. От нашего округа назначили депутатом (я не ошибся, именно назначили!) нового председателя КГБ УССР Галушко. Его только что, как кота в мешке, привезли в Киев из Казахстана — и уже он будет представлять нас в Верховном Совете! Узнал я, что кандидат приедет в наше село, встреча будет на животноводческом комплексе. Я на велосипед — и туда. Конечно, начальство не обрадовалось моему появлению. Галушко говорил обычные для совка вещи. Вопросов у доярок, конечно, не было. Так у меня нашлось несколько: мог бы он, не зная французского языка, поехать во Францию и стать там министром или депутатом? Или хотя бы водителем автобуса? Намерен ли он добиваться пересмотра дел репрессированных? А как быть с теми, кто фабриковал нам уголовные дела, в частности, мне? Знает ли он, что в нашем селе в 1933 году умерло от голода 346 душ — в войну погибло меньше, 220? Меня за эту правду судили, а как будет с теми, кто забрал у крестьян хлеб и организовал этот голод? Галушко отвечал вежливо, но не конкретно. Я бы ещё спрашивал, но какая-то партийная доярка зашипела на меня. Конечно, Галушко стал депутатом, а после провозглашения независимости разграбил архив КГБ УССР и сбежал с ним в Москву. Так что Москва знает о нас всё, что ей нужно.
В Житомире в Верховный Совет СССР через трудовые коллективы ГФСП выдвинул журналистку Аллу Ярошинскую. Когда нужно было голосовать «за» или «против» Галушко, я взял открепительный талон со своего участка и поехал в Житомир голосовать за Ярошинскую. Она триумфально победила «кавунистов» (Василий Кавун — первый секретарь обкома КПУ). Брала она социальными лозунгами: отобрать у воров и поделить. Она тогда раскрыла злоупотребления партийного начальства с распределением квартир. Но как только Ярошинская вошла во вкус союзного депутатства, как Союз распался. Алла угрожала вернуться из Москвы… президентом Украины. «Разве что на российских танках», — сказал я. Она устроилась в России советником Ельцина и в Житомир уже не вернулась. Наверное, её родина там, где хорошо. Разочарование житомирян было велико и далеко идущим по последствиям: «Все они такие…»
Пришлось мне в апреле 1989 года поехать в Эстонию вместе с Левком Лукьяненко и Евгением Пронюком на Совещание демократических и национально-освободительных движений народов СССР. Я сказал колхозному начальству: вот еду и всё. Хотите — увольняйте. Начальство не разрешило ехать, но и не наказывало меня. В Лооди нас, УХС, очень критиковали Григорий Приходько и Василий Сичко. За тезис программы УХС о «конфедерации». Конечно, они были правы, но тогда считалось, что если бы УХС с самого начала «взяла такую высокую ноту», то не имела бы поддержки в испуганном народе. Она бы осталась мелкой «экстремистской» группкой. Прямую агитацию за независимость УХС начала с сентября 1989 года, имея областные филиалы во всех областях и до двух тысяч членов.
Где-то в июне или начале июля 1989 года меня позвал в Киев Михаил Горынь. Тогда в Украине стали говорить, что нужно перевезти с Урала на родину бренные останки Василия Стуса, Юрия Литвина и Олексы Тихого. Вот Горынь и собрал первое совещание в квартире Игоря Бондаря (ныне покойного). Присутствуют Дмитрий Стус и Дмитрий Корчинский. Последний предлагает сделать из похорон политическую акцию. Семья против: «Не забывайте, что у Стуса есть сын». — «К сожалению», — сказал Дмитрий Корчинский. Тогда Горынь поднялся из-за стола, опершись на него руками, и как рявкнет на Корчинского! Тот вылетел из комнаты прочь. Таково моё первое впечатление от этого всем известного теперь провокатора и пакостника.
Я единственный из бывших политзаключённых-кучинцев ездил на Урал с первой и со второй экспедициями. Эти поездки подробнее описаны в моём очерке о Василии Стусе. С первой экспедицией во главе с кинорежиссёром Станиславом Чернилевским (это мой университетский однокурсник и приятель) я побывал в посёлке Кучино 31 августа 1989 года. Мы тогда засняли зону, а 1 сентября — кладбище, где похоронены Василий и Юрий. Нам тогда не разрешили эксгумацию — предупредили телеграммой, что неблагоприятная санэпидемобстановка. Это, конечно, была неправда, но мы сделали «разведку». Наш материал впоследствии вошёл в кинофильм «Просветлой дороги свеча чёрная». После нашего отъезда кагэбэшная банда нагрянула в лагерь с бульдозерами и уничтожила запретки, вырвала окна, замки, решётки. Наши съёмки приобрели ценность: Пермский «Мемориал», начиная с 1993 года, восстанавливает законсервированное деревянное помещение, пользуясь ими, и создаёт Музей истории политических репрессий и тоталитаризма «Пермь-36». Это должен быть объект мирового значения. Это счастье, что именно в этой местности нашлись люди, которые поняли ценность этого объекта — последнего политического лагеря особого режима. Это действительно подвижники! (К сожалению, это помещение не уберегли: 22 сентября 2003 года оно сгорело. См. об этом в моей статье «Музей в Кучино — совесть России»).
Я сотрудничаю с Пермским «Мемориалом». В Кучино уже бывал дважды — в сентябре 1995 и 1996 годов. (Также в 1999 году дважды и в 2000 году. Я член Совета того Музея). Там ежегодно проводят научные конференции по вопросам тоталитаризма, истории репрессий и правозащиты. Музей уже открыли. Это доброе дело. Если говорят, что есть «рука Москвы» в Украине, то я считаю, что этот музей — «украинская рука» в России. Потому что нужно и россиян воспитывать в людей. Чтобы иметь из них нормального соседа — надо поработать лет двести. Тогда будем с ними жить как добрые соседи.
Весной 1990 года я ездил с Иваном Сокульским в Армению, но там совещание демократических и национально-освободительных движений народов СССР не состоялось, потому что было очень напряжённое политическое положение. Оказалось, что армяне послали нам сообщение, чтобы не ехали, но мы его не получили. Однако нас хорошо приняли, в частности, мы встретились с нашими соузниками Ашотом Навасардяном, Азатом Аршакяном и Размиком Маркосяном. Ночевали мы в штабе среди вооружённых людей. Вооружённые автоматами и гранатами ребята возили нас в «бобике» по Еревану. Ни один милиционер не смел их остановить, хотя они ездили вне всяких правил. Парламент был окружён вооружёнными людьми. Они готовились его то ли защищать, то ли штурмовать. Трудно было понять.
Жаль, что я не вёл тогда дневника… Потому что ещё же остерегался КГБ! Приезжал ко мне один кагэбист из Житомира. Высокий такой, вот не припомню фамилии. Похоже на Хорошковский. Приехал раз в обед и мать мне испугал. После этого перехватывал меня по дороге на работу. Теперь моё рабочее место было в тракторном парке, в поле возле леска. Вот еду на велосипеде, а он выходит из легковой машины, останавливает меня, предлагает пойти в лес «грибы собирать». Я помнил об опасности, но почему-то не боялся, что меня украдут или убьют. Да и не хотел обострять отношения с КГБ. Конечно, я не выражал радости по поводу встречи, наоборот, проявлял недовольство: «Дайте мне, наконец, покой!» Но и не отказывался категорически от разговоров. Хотя сводил их на нет. Кагэбистов тогда очень беспокоил «экстремизм» в среде «неформалов». Этот льстил мне: «Мы знаем, что вы умеренный человек, а вот тот и тот…». Я отвечал, что руководствуюсь зэковским правилом: знай только своё имя. Хотя кагэбист просил никому об этих встречах не рассказывать, я считал нужным поставить в известность Левка Лукьяненко, чтобы меня не заподозрили в сотрудничестве. Левко отнёсся к тому спокойно: с чего бы это я, пройдя лагеря, вдруг на воле — сломался?
Действительно, мы чувствовали, как смелые люди тянутся к нам, недавним политзаключённым, как нас уважают, как спадает страх, как нарастает в обществе подъём, создаётся критическая масса для решительного наступления. Нам нельзя было уступать, потому что на нас смотрели люди. Я выступал на собраниях Общества украинского языка в Житомире, на собраниях польской и еврейской общин (евреев очень подкупило упоминание о «самолётчиках» и Михаиле Хейфеце, с которыми я сидел), я рассказывал о Василии Стусе в библиотеках, в областном отделении Союза писателей, выступал на митингах, в частности, очень остро выступил на учредительном собрании ГФСП. Это выступление Надежда Светличная зачитала по радио «Свобода». Но меня не заносило на «экстремизм», наоборот, впоследствии вместе с Вячеславом Васильчуком и Олегом Игамбердиевым (мы были кандидатами в Верховный Совет УССР от трёх житомирских округов) нам приходилось сдерживать некоторых ГФСП-истов, которые призывали идти на штурм обкома КПУ.
Зимой 1989–90 гг. в Житомире ходили слухи, что «экстремисты» готовят еврейские погромы. Мы изготовили нарукавные повязки, пошли в милицию и заявили, что будем вместе с ней патрулировать город. Конечно, никаких погромов никто не готовил, но эта демонстрация прибавила нам доброй репутации.
Какие славные люди пришли в наш Житомирский филиал УХС! Я их до сих пор люблю: Валерий Колосовский, Анатолий Тимошенко, Александр Зазымко (он погиб в автокатастрофе), Игорь Лукьянчук, Ярослав Гончар, Александр Батанов, Александр Цыганок, Александр Прищепа, Наталья и Александр Харчуки, Иван Лавриненко, Ольга Нессен, Юрий Балабан… Пришёл такой талантливый юноша, 10-классник Максим Банников — мы его до 16-ти лет приняли в УХС. Несовершеннолетние Саша Сухачёв и Евгений Наумов. (Почему-то в Житомире самые ярые «украинские националисты» имели русские фамилии). Мы их не «втягивали в преступную деятельность» — они сами тянулись к деятельности. Саша Сухачёв говорил, что не клеил листовок разве что на самолётах, потому что высоко летают, и на кораблях, потому что их в Житомире нет. Максим Банников самостоятельно издавал тиражом 50 штук такую остроумную газетку «Полесская Сечь». Однажды он приехал со мной в Радомышль, разговаривал с учениками профтехучилища. Я не мог надивиться, откуда этот парень так много знает и умеет упорядочить эти знания? Я его рекомендовал делегатом на Учредительный съезд УХС, и он там даже выступил и добивался членства в партии с 16 лет, хотя закон позволял с 18.
Ко времени выборов в марте 1990 года в Житомирском филиале УХС было 28 членов, 18 из них в Житомире. И мы приняли участие в выборах в Верховный Совет УССР. Правда, «неформальный» УХС не мог быть субъектом выборов — мы выдвигались через уже зарегистрированное Общество украинского языка. Все сходились во мнении, что нужно выдвигать меня. Хотя мне было немного боязно, как цыгану в колхозе. Я, по правде говоря, никогда не хотел заниматься политикой. Мне бы в библиотеку, за груду книг, мне бы за кафедру…
Выдвинули меня ТУМ и два трудовых коллектива: завода «Вулкан» и ещё одного. На собрании «Вулкана» пришлось побороться с молодым коммунистом Василием Кравченко — и мы взяли верх. По правде говоря, самые глубокие тезисы выступления мне подсказал Дмитрий Мазур — что это за мудрый человек! Он знает нужды народа изнутри.
Избирательная комиссия долго тянула с регистрацией выдвижения. Я ездил в Центральную избирательную комиссию и с помощью Дмитрия Павлычко в последние дни мы таки добились регистрации. Конечно, мы потеряли много времени. Пожалуй, самыми действенными нашими листовками были моя биографическая справка и приговоры. Рецидивиста — в Верховный Совет! (Я же ещё не был реабилитирован). Это интриговало. Кроме Валерия Колосовского, мы взяли доверенными лицами преподавателя Виктора Горностая, активиста еврейского общества Иосифа Корецкого. На встречах с избирателями я становился всё увереннее. Мы понимали, что не победим, но мы ставили себе цель провести мощную агитацию за демократизацию общества и за независимость. Мы это сделали. Мы утвердили в Житомире жёлто-синий флаг. Житомирский горсовет поднял его первым по эту сторону Збруча, раньше Киева.
Вот 21 января 1990 года. Цепь единения. Я в Житомире был руководителем оргкомитета. Да мы подняли на ноги весь город! Известно же, что некоторые организации не верили в успех «цепи» и держались в стороне от акции. Даже в самом руководстве НРУ Михаил Горынь с трудом победил пессимистов. А когда Игорь Лукьянчук выехал на своём автомобиле на улицы Житомира с двумя огромными флагами (он сам сделал металлические гнёзда для древков), а я кричал из машины в мегафон лозунги — это был триумф! Приехали галичане, на стадионе «Спартак» встречаю повстанцев Романа Семенюка (28 лет заключения) и Дмитрия Синяка (20 лет). Пан Дмитрий стоял и плакал среди того разнообразия флагов: «Разве я думал, что доживу до такого, чтобы полный Житомир наших флагов! Я же здесь лесами ходил с боёвкой…»
На выборах мы набрали 6,5 тысяч голосов и заняли среди девяти кандидатов третье место. Первое занял экономист Александр Сугоняко из Гражданского фронта, второе — первый секретарь горкома КПУ Николай Журба. Во втором туре Сугоняко победил коммуниста. Это под нашим влиянием Сугоняко за время выборов стал украинцем, а начинал же кампанию «общим» языком. Теперь это одна из самых ярких в Украине личностей.
Итак, я был членом Координационного совета Украинского Хельсинкского Союза, а когда речь зашла о создании на его основе политической партии, то мне некуда было деваться: Левко Лукьяненко настоял, чтобы я становился одним из секретарей Украинской Республиканской партии и перебирался в Киев. Это было на Учредительном съезде УХС 29–30 апреля 1990 года, где большинство делегатов решили создать на основе УХС Украинскую Республиканскую партию. Совет УРП, собравшийся во время обеденного перерыва, послал меня и Валерия Колосовского в коридор посоветоваться, кто из нас, житомирян, пойдёт в Киев секретарём. Потому что и он не хотел, и я не хотел. У него были свои планы в Житомире (жениться и заводить фермерское хозяйство в селе Левков под Житомиром), а у меня в Ставках не было никаких перспектив. Единственное: я не хотел оставлять мать одну. Я согласился, и когда осторожно сказал об этом матери, то она сказала то же самое: «Здесь, в селе, ты ничего не добьёшься, здесь тебя и учителем в школу не возьмут. Иди, куда тебя берут».
УРП снимала однокомнатную квартиру мне и секретарю Петру Розумному из Днепропетровщины. Одну на двоих. Он уже одинок, а я ещё холост. Лучшего «сокамерника» я в жизни не имел! Он тоже бывший зэк, член УХГ. Я работал секретарём УРП до 14 октября 1996 года — шесть с половиной лет. В основном, я вёл издательские дела. Мы издавали Информбюллетень УРП, который едва ли не первым в Украине был введён в интернет, издавали почти еженедельный Циркуляр Секретариата, издавалась газета «Самостійна Україна». Я готовил к печати материалы всех съездов УРП, заседаний Совета, секретариата. Под моей редакцией вышло немало полезных в то время брошюр. В частности, я подготовил брошюры «Оксана Мешко, казацкая мать», «Свидетельствую» (её автобиографический рассказ), «Добром согретое сердце» (об Иване Бенедиктовиче Бровко), свою книжечку (на свои средства, но на оборудовании УРП!) «Свет людей». УРП тогда была сильной и перспективной партией.
В ноябре 1990 года мы восстановили могилу 359 воинов, расстрелянных большевиками под городком Базар. Это Житомирская организация УРП делала. Там меня побили… Ничто не даётся без усилий. Но об этом есть моя статья «Базарская трагедия».
В ноябре 1991 года кресты и таблицы с именами были поставлены. Это уже было накануне референдума 1 декабря. Я тогда был представителем кандидата в Президенты Левка Лукьяненко. Мы работали одержимо. Левко говорил: «Вы можете не избирать меня Президентом. Но я прошу вас проголосовать за независимость!» (См. статью «Судьба Украины — его судьба»).
Я до сих пор числюсь сопредседателем Украинского Комитета «Хельсинки-90». Дело в том, что после создания партии (УРП) на основе УХС у нас не стало неполитической правозащитной хельсинкской организации. Поэтому Оксана Яковлевна Мешко настояла, чтобы её создали люди, причастные к хельсинкскому движению предыдущего периода. Или же это место займут другие люди. Учредительное собрание состоялось 19 июня 1990 года — потому и название: Украинский комитет «Хельсинки-90» (УКХ-90). Председателем сначала был избран Василий Лисовый, а затем избрали трёх сопредседателей — Василия Лисового, Юрия Мурашова и меня. Так и эти дела я вёл, но в последнее время забросил их. Вижу, что теперь другой характер нарушений прав человека, так пусть этим занимаются другие, юридически квалифицированные люди.
Во Всеукраинском обществе политических заключённых и репрессированных я не занимаю никаких должностей, но приходится и там много чего делать.
Печальные события в Украинской Республиканской партии начались ещё в 1995 году, когда по настоянию Левка Лукьяненко было сменено руководство партии. То есть устранён Михаил Горынь. Я видел проблемы партии и время от времени выступал с критикой скорее не деятельности, а бездеятельности нового руководства во главе с Богданом Ярошинским и Олегом Павлышиным. А это им не понравилось. В частности, на заседании Совета УРП 13 октября 1996 года я выступил с довольно резкой критикой руководства как бездеятельного и такого, которое неоднократно нарушало Устав, отступало от Программы. Так началась дискуссия в партии. Конечно, после Седьмого съезда, который состоялся 14–15 декабря 1996 года, меня уже ни на какие должности не предлагали. Я разоблачил мошенничество во время выборов руководства, так 19 февраля 1997 года меня исключили из УРП. В моё отсутствие. Вот так. А 15 марта были исключены из УРП также Михаил Горынь, Николай Горбаль, Николай Поровский, Богдан Горынь, Олесь Шевченко. Ещё раньше приостановил своё членство в УРП Левко Гороховский. Таким образом, из членов-основателей в УРП остались только Левко Лукьяненко и Евгений Пронюк. Ну, Пронюка не было на заседаниях, но мне странно, как это у Левка Лукьяненко поднималась рука голосовать за исключение нас. Но это уже другое дело.
Овсиенко Василь. Свет людей: Мемуары и публицистика. В 2 кн. Кн. I / Составитель автор; Художник-оформитель Б. Е. Захаров. — Харьков: Харьковская правозащитная группа; К.: Смолоскип, 2005. — 352 с., фотоилл., С. 120–128:
С 1 февраля 1997 года работаю в «Мемориале» имени Василия Стуса. Это имя обязывает. Председатель «Мемориала» Лесь Танюк ещё не определил мне никакой должности. Мы готовим несколько книг, я их редактирую. Вижу, что теперь нужно сосредоточиться именно на этой работе, есть что писать, есть что издавать. Я не жалею, что меня уволили с партийных должностей. Я собственно не политик — я филолог, и даже в политике я работал как филолог. А партийную, политическую или государственную карьеру я и не собирался делать. В своё время была такая необходимость — заниматься политикой. В политику меня втянули кагэбисты ещё в молодости, и я добросовестно занимался ею до сих пор. Но на самом деле главное, что мне было нужно — это свобода занятий и свобода слова. Если бы не колониальный гнёт, я был бы добросовестным учёным, может, преподавателем. Но пока не решён национальный вопрос — он оттягивает все национальные силы. Это мне сказал Василий Лисовый ещё в 1969 году.
Я, как умел, выполнил свою политическую миссию. Может, на моём месте кто-то сумел бы лучше, но карта выпала мне, с моими недостатками и слабостями. Возвращаться мне в науку или в школу уже поздно. Я слишком отстал и дисквалифицировался. Но я категорически говорю: мы уже добились свободы слова. Болтунам я говорю: ветер свободы теперь вам даровой: стань себе на пригорке и мели, что хочешь. И «ніхто не поведе тебе в кайданах» (Т. Шевченко). А если тебя не публикует та или иная газета, то издавай свою газету. У тебя нет возможности издать книгу? Так это другая проблема: у тебя нет денег. Или таланта. Печатай на машинке, как мы в своё время — машинки теперь люди выбрасывают и заводят компьютеры. Теперь, когда у меня есть что сказать, есть что написать, то воспользуюсь свободой слова. Если напишу, то как-нибудь и издам. А политикой пусть занимаются другие люди, у которых к этому талант.
Б. Захаров: Не могли бы вы коротко определить термины «шестидесятничество», «диссидент»?
В. Овсиенко: «Шестидесятниками» некоторые молодые украинские интеллигенты стали называть себя в конце шестидесятых годов, но так, полушутя, по аналогии с русскими шестидесятниками XIX века. Этот термин утвердился за поколением уже значительно позже. Сначала его писали в кавычках. Я считаю, что этот период охватывает с 1956 по 1972 год. От XX съезда КПСС, когда был раскритикован культ личности Сталина, до арестов 12 января.
Это не были ни подпольщики, ни каким-либо образом организационно связанные между собой люди. Ячейки действовали на основе межличностных контактов. Но в конце 60-х годов уже фактически сложилась инфраструктура изготовления и распространения литературы самиздата. Авторы самиздата осмотрительно не ставили вопрос о смене строя. Но в рамках существующей системы шестидесятники восстанавливали сумму социально-психологических качеств истреблённой интеллигенции: естественное самоуважение, индивидуализм, ориентацию на общечеловеческие ценности, неприятие несправедливости, уважение к этическим нормам, к праву и законности. В этой среде царила высокая культурная и моральная атмосфера, чувствительность к новым идеям. Она противостояла как официальной тоталитарной идеологии, так и примитивизму. Она объединяла людей разных взглядов и национальностей, которые, однако, никогда не объявляли друг друга врагами: в то время всем одинаково нужна была свобода, а государственная независимость Украины представлялась вероятным гарантом такой свободы. Власть десятилетиями старательно культивировала безликую массу и тотальный страх, а тут появилась Личность — основа европейской культуры. «Ти знаєш, що ти – людина?» — спросил Василий Симоненко ещё в начале 60-х. Культурнические требования Личности неминуемо перерастали в движение политическое, антиимперское, поскольку колониальное положение было основной причиной уничтожения украинской культурной самобытности. Поэзия В. Симоненко была, возможно, первым явным свидетельством этого дорастания до политических требований: «Народ мій є. Народ мій завжди буде. Ніхто не перекреслить мій народ». Это было моральное, этическое сопротивление блестящей когорты Личностей, которые уже способны были развернуть большое национально-освободительное движение. Это понимала и колониальная власть — с этой точки зрения удар по шестидесятникам был нанесён вовремя…
Шестидесятничество прежде всего проявилось в литературе, в первую очередь в поэзии. К шестидесятничеству относят даже «Дневник» Александра Довженко (он умер в 1956 году). Первые подборки стихов и сборники стихов Лины Костенко, Василия Симоненко, Николая Винграновского, Ивана Драча, первые статьи Ивана Светличного, Ивана Дзюбы, Евгения Сверстюка — это ещё конец пятидесятых годов. Чётко это поколение выступило в начале шестидесятых годов. 1962 год — это, так сказать, литературное диссидентство, ломание скованных норм. («Художнику немає скутих норм. Він норма сам, він сам собі закон» (Иван Драч). Но было уже и шестидесятничество отчётливо политическое. После встречи в мае 1962 года во Львове братьев Горыней с Иваном Светличным, Иваном Дзюбой, Иваном Драчем львовянин Михаил Горынь организовал изготовление и распространение литературы самиздата политического характера. Скажем, «Вывод прав Украины» — книга, изданная за рубежом, а здесь её перефотографировали. Или отрывки из работы Ивана Франко «Что такое прогресс?» с критикой марксизма. Потом пошли вещи не только культурнического, но и экономического, политического характера. Это были начала политического шестидесятничества.
Ну, а термин «диссидентство» навязан нам Западом. «Диссидент» означает «инакомыслящий». То есть критик или ревизионист господствующей идеологии. «Отщепенец» — это правильно по отношению к тому, кто отошёл от своих бывших единомышленников. Но ведь были люди, которые никогда не разделяли господствующей идеологии. Они не диссиденты. У них своя идеология. И поскольку в Украине в 50–80-х годах против тоталитарного оккупационного режима действовали люди разного мировоззрения, то я бы всё это вместе называл «движение сопротивления». Этот термин предложил Валентин Мороз, назвав так одну из своих статей.
Никто сам себя не называл диссидентом, но в том обществе с кем ни поговори — все были недовольны. Наверное, в меньшинстве были те, кто разделял официальные взгляды, а все остальные — то были диссиденты или люди вообще другого мировоззрения. (Это заметил Гелий Снегирёв).
Можно определять этапные моменты. Это аресты 25–26 августа 1965 года и осуждение шестидесятников: два Горыня, Гель, Зварычевская, Осадчий, Залываха, Валентин Мороз в Галичине, Иван Русин, Евгения Кузнецова в Киеве, в Житомире Анатолий Шевчук, на Херсонщине — Михаил Масютко, в Одессе Святослав Караванский и другие.
Вторая волна — аресты 1972 года. Это, собственно, уже был конец шестидесятничества.
Третья волна — Украинская Хельсинкская группа, 1976 и последующие годы. Это очень яркое явление в нашем обществе. (См. подробнее в статье «Правозащитное движение в Украине»).
Далее нужно считать от «перестройки». В Киеве уже в 1987 году начал действовать Украинский культурологический клуб. Во Львове примерно в это же время действовали «Львовская громада», «Товарищество льва». 30 декабря 1987 года объявляется о возобновлении деятельности Украинской Хельсинкской группы. 11 марта 1988 года объявлен её список. 7 июля 1988 года провозглашена Декларация принципов Украинского Хельсинкского Союза, а также Уставные принципы. Союз быстро разрастается: ко времени Учредительного съезда 29 апреля 1990 года в УХС было 2300 человек. Она стала политической партией. УРП — начало политического плюрализма в Украине. УРП была первой зарегистрированной (5 ноября 1990 года) политической партией в Украине. КПУ тогда ещё не была зарегистрирована! Мы, УРП, имели регистрационный номер 1.
Конечно, возникало много других политических организаций. Они тоже сыграли выдающуюся роль, в частности Рух. Но собственно Рух создавали и мы, хельсинкцы. Мы были правым крылом Руха. Кстати, именно Хельсинкский Союз послал Михаила Горыня в Рух, чтобы он там стал председателем секретариата. Он там играл определяющую роль.
Б. Захаров: Как Вы можете определить роль самиздата в изменениях советского общества?
В. Овсиенко: Недавно я услышал от одного специалиста в области компьютерных технологий, что если бы шестидесятники, правозащитники не размножали самиздат, то СССР всё равно бы пал. Потому что правдивую информацию разнёс бы интернет. И, будто оправдываясь, он добавил: «Я не говорю, что они этого не должны были делать…». Итак, Империю Зла разрушила Правда. Правда против Кривды — это вечные противники. Круг людей, которые читали самиздат, не был широк. Но слово правды проникало через передачи радио «Свобода», «Голос Америки». Огромное значение имело то, что авторы самиздата действовали открыто, не скрывая своих имён. По крайней мере, на поверхности были имена, которые не скрывались, а под спудом было немножко подполья. Так сказать, резервы. Где, кто, как изготовлял самиздат — это скрывалось. Правозащитники имели огромное моральное преимущество перед режимом потому, что шли с открытым забралом. Это не подпольщики. Потому что если бы были подпольщики, то их бы разоблачали, тайно судили, и это значительного влияния на общество не имело бы. Я всегда подчёркиваю это моральное преимущество нашего движения.
В конце концов, я приведу такой пример. Того же Левка Лукьяненко привезли в 1969 году в Киев «на промывку мозгов». С ним имел беседу генерал Гладуш, заместитель председателя КГБ. Он прежде всего выразил сожаление, что Лукьяненко не расстреляли в 1961 году, а потом сказал: «Да что там вас, тех националистов — сколько вас там есть? Каких-то пятьдесят человек на всю Украину! А остальной украинский народ строит коммунизм». — «Да, — сказал Левко, — может, нас и вправду пятьдесят человек на всю Украину. Но если я даже один останусь сознательный украинец, то Украина ещё есть». И вот из той горстки (как то Василий Стус хорошо сказал: «Мало нас, дрібнесенька щопта, лише для молитов і всечекання») — из той «щопти» выросло большое движение! Он действительно разрастался в 1987–89 годах с нескольких человек! Михаила Горыня освободили 2 августа 1987 года еле живого. Приходит к нему Вячеслав Черновол: «Михаил, уже в Москве Сергей Григорьянц издаёт журнал „Гласность“. Уже в Литве есть „Саюдис“. Значит, и нам пора. Возобновляем „Украинский вестник“». — «Славик, дай мне хоть отдышаться. Поищи кого-нибудь другого». Черновол походил-поискал — и снова к Горыню: «Нет никого». — «Хорошо. Начинаем».
А теперь, слава Богу, уже вот выросло целое поколение под жёлто-синим флагом, и уже так просто его не собьёшь. Так что наше дело, как видите, побеждает. Я не такой пессимист, как некоторые люди, что хотели очень быстрых перемен, а раз их нет, то они разочаровались. Я знаю такое: нас, украинцев, жестоко уничтожали. Эта сатанинская селекция продолжалась с 1917 года до последних времён. Уничтожена лучшая часть нашего народа, взамен привезено всякое чужеродное отребье, агрессивное, матерщинное. И вот попробуй теперь из этой массы людей воспитать народ, воспитать нацию! Да для этого нужны десятки лет! Что возрождение идёт так медленно, мне вполне понятно. В 20-х годах, в условиях очень ограниченной свободы — какое было мощное национальное возрождение! Но тогда это был христианский, морально и физически здоровый народ — только малограмотный. Дали ему образование — и произошёл взрыв! Москва перепугалась, что мы станем вровень с ней, что сведём идею коммунизма на нет — и потопила нас в крови, выморила голодом. А сейчас — из чего же возрождаться? Да мы жестоко истреблены. Нам нужно вырастить и воспитать новое поколение. Оно помаленьку вырастет. Есть в Священном Писании идея о сорока годах — вот эти сорок лет и нам нужны, не меньше, чтобы выйти из «египетского рабства».
Есть ещё один пример. В Галичине перед тем, как должна была возникнуть ОУН, потом Украинская Повстанческая Армия — «Просвита» работала семьдесят лет. Вот и нам тоже надо столько поработать. Так что на наш век ещё работы хватит. И я стараюсь работать в этом направлении.
Б. Захаров: Большое спасибо Вам.
P.S. К этому интервью, данному в марте 1997 года, я, готовя эту книгу, много чего добавил, не нарушая его временных рамок. Но жаль было бы некоторых мыслей, высказанных в нескольких последующих интервью, которые касались моей личности и моего видения общества.
Распад СССР и провозглашение независимости Украины стало величайшим событием в моей жизни. Несмотря на невосполнимые потери личного характера — я, надо думать, всё-таки счастливый человек. Потому что десятки поколений перед нами изнемогали в неволе, самые активные люди клали головы за независимость, но только наше поколение за все века бесславия Господь благословил на свободную жизнь. Значит, мы для чего-то Ему нужны. Так что мы должны выполнить Его волю и наполнить Украину украинским содержанием. Не упустим этой возможности. Потому что Господь и гневается на ленивых, и лишает их Своей милости, говорит Николай Руденко.
Поскольку я одинок, личных дел у меня немного, то практически всё своё время трачу на общественные дела. На это наполнение Украины украинским содержанием. Пусть лепта моя невелика, но есть дела, которые без моего участия, возможно, не были бы сделаны или приобрели бы какой-то другой характер или оттенок. Скажем, освещение правды о российских концлагерях 70–80-х годов в Мордовии и на Урале, о многих политзаключённых, прежде всего о Василии Стусе, Юрии Литвине, Олексе Тихом, Валерии Марченко, Оксане Мешко. О Соловках, Сандармохе, Беломорканале. На этом поприще я намерен работать и дальше.
От непосредственной правозащитной работы я отошёл, потому что вижу, что теперь другие условия, теперь нужна юридическая квалификация, которой у меня нет. Одному клиенту я сказал: «Если бы вы пришли ко мне лет 20–30 назад, то я помог бы вам. Сесть в тюрьму вместе со мной».
Я не был розовощёким оптимистом даже во время провозглашения независимости. Я видел, что мы жестоко истреблённый, вытоптанный российскими оккупантами народ. Десятилетиями чужаки творили над нами сатанинскую селекцию: истребляли лучших, взамен навезли в Украину людей с чужой нам психологией, и их из Украины не выгонишь, с ними надо жить. Не ринется взамен в Украину эмиграция — западная и восточная, тем более, что современные хозяева Украины того не хотят, наоборот, вынуждают активных людей покидать Украину. Поэтому нам самим предстоит долго и тяжело работать как на национальное возрождение, так и на перестройку обломка советской, сплошь милитаризованной экономики, в экономику национальную.
Но с независимостью появилась надежда, что украинский элемент возьмёт в Украине верх. Что украинцы прежде всего станут владельцами земли и собственного хлеба — величайшего нашего национального богатства. А исторический опыт убеждает, что как только украинцы получали возможность создавать своё собственное государство — оно всегда было демократическим (Княжеская эпоха, Казацкое государство, УНР, программные документы УГВР), где и другие национальности не были дискриминированы. Но, воспользовавшись нашей ослабленностью, власть в государстве узурпировали недоукраинцы (есть люди — и недолюди, есть украинцы — и есть недоукраинцы), зачарованные на Кремль, а то и совсем чужаки. Украина для них не родина, а территория и население для грабежа. Это потому, что мы обезглавлены, что мы до сих пор нация без родовой национальной элиты, без общенациональных лидеров. В колониальных условиях такие общенациональные лидеры и не могли вырасти: способных украинцев оккупанты направляли в имперское русло, а кто противился — уничтожали. И до сих пор уничтожают. А на роль элиты претендуют малограмотные хамы криминального происхождения.
Очень не хватает нам среди политиков светлых позитивных личностей. Сейчас я знаю одну такую светлую позитивную личность, которую нет нужды расхваливать или, как теперь говорят, создавать ей имидж. Это Виктор Ющенко. Это природный украинец и истинный христианин. Этот человек по своему народу не потопчется. Потому что это его народ. Украина для него — это не бизнес, это от сердца.
Многие критикуют Ющенко. Им бы хотелось, чтобы он с деревянной сабелькой гарцевал во главе их мизерного бутафорского войска и кричал: «Геть!» и «Слава!» Но Ющенко знает, что нужно быть лидером большинства нации, а не экстремумов. Очень мудро сказал о нём мудрый «сечевой дед» Игорь Юхновский: «Это человек, который ещё не сделал ни одной ошибки». Действительно, если бы Ющенко допустил какую-то ошибку, то его быстро бы затоптали. Чужие и свои. Все попытки найти на Ющенко «компромат» были провальными: его нет, и никто не поверит, чтобы Ющенко повёл себя в чём-то аморально. Кто же сейчас, во время избирательной кампании, выискивает у Ющенко слабые места и тем самым сеет сомнения в его способностях — это вредная для Украины деятельность! Сейчас вся «свита» должна «играть короля». Ющенко блестяще, на самых высоких моральных и политических регистрах выдержал дело с увольнением с поста премьер-министра — а «свита» не смогла привести под Верховную Раду сто тысяч человек. Благодаря его имени оппозиция выиграла выборы 2002 года, но «свита» начала трещать, когда оказалось, что за Украину надо класть не только свой бизнес, но и свои головы. Меньшинство запугало слабодушных, перекупило «мажоритарщиков» и таким образом стало большинством. То есть выиграло выборы после выборов. Только на днях «недоукраинцы» снова предали национальное дело. А сейчас речь идёт о том, чтобы выиграть или проиграть Украину. «Запануємо ми, браття, у своїй сторонці» — или будем и дальше сапать буряки на чужих плантациях? Таки запануем. Потому что дрейф Украины в историческое небытие остановился. Украина в Украине набирает силу и обязательно победит.
Да, я недоволен властью. Но ещё больше я недоволен… народом. Его нужно… заменить. То есть нужно изменить его сознание малоросса на сознание украинца. Чтобы он был сам себе хозяином, а к власти, которая должна не господствовать, а лишь регулировать отношения между людьми, ставил порядочного, сознательного украинца, а не богатого чужака. Это нужно чётко осознавать: самым эффективным для всех людей, живущих на украинской земле, будет государство, которое будет иметь естественный для украинцев правовой характер. В том числе и для неукраинцев: пусть посмотрят, что творится в России. Россия возвращается в своё естественное авторитарно-монархическое русло. Россия и демократия — вещи несовместимые. В лице России мы получим нормальную соседку ой как не скоро. Поэтому я сторонник бытового национализма: пока что всё русское для нас потенциально опасно. Когда же Украина твёрдо станет на ноги, тогда будем относиться ко всему русскому спокойно. Как к китайскому или французскому.
А что я делал в последние годы — смотрите мою «Библиографию». Самое важное — то, что мы в Харьковской правозащитной группе издали четырёхтомник документов и материалов Украинской Хельсинкской группы, книжечку автобиографических рассказов участников Росохачской группы «Юноши из огненной печи», сдал я в печать книги «Три восстания Сичкив» и «Союз украинской молодёжи Галичины». Таких книг бывших политзаключённых нужно подготовить много, потому что у меня есть около полутора сотен их рассказов. Пусть наша правда станет правдой истории.
Пока я казаковал на новейшей Сечи Запорожской, мои ровесники становились докторами наук, членами Союза писателей, лауреатами премий. Разобрали лучших девушек и нажили славных деток и внучат. Не титулам, а вот этому последнему я им завидую: они обеспечили вечность своего рода. Человеческое счастье ведь и заключается именно в этом. А моя жизнь ушла на обеспечение — вот не люблю высоких слов — вечности народа, которая, впрочем, до сих пор под сомнением. Потому что выйдешь на улицу — а там не украинский народ, а «русскоязычное население». Прискорбно это говорить, но оно мне чуждо. Это результат массового отклонения от нормы. Я хочу, чтобы украинцы вернулись к нормальному состоянию, к украинской культуре в самом широком смысле этого слова. Если бы не эта проблема, я бы занимался другими делами. Я совсем не хотел «бороться», но у меня просто не было выбора: в СССР жить украинцем было уже невозможно. И сейчас тяжело жить украинцем. Нужно постоянно отстаивать это право, и не только для себя, но и для «своих по роду». Стус говорил: «Это уже судьба, а судьбу не выбирают. Так что её принимают — какая уж она есть. А когда не принимают, тогда она насильно выбирает нас». Я хоть пока что целую голову ношу на плечах в этой борьбе, которая всё ещё продолжается, и даже имею возможность утверждать свою правду в обществе. А лучшие из нас полегли…
С реабилитацией 1991 года я лишился своего единственного почётного титула — «особо опасный рецидивист». Но 12 января 2000 года мне была присуждена премия имени Василия Стуса. Она в какой-то мере компенсирует мои потери.
Я благодарен Богу, что он свёл меня с лучшими людьми моего времени. Я люблю их, а они, надеюсь, любят меня. Некоторые уже на том свете. Я не чувствую в себе ненависти ни к кому из людей. Лишь сожаление и любовь.
5 февраля 2004 года.
Опубликовано:
Овсиенко Василий. Свет людей: Мемуары и публицистика. В 2 кн. Кн. I / Составитель — автор; Худож. оформитель Б. Е. Захаров. — 2-е издание, доп. Харьков: — Харьковская правозащитная группа; К.: Смолоскип, 2005. — 352 с., фотоил. (Дополнительный тираж, с исправлениями — Харьков: Харьковская правозащитная группа; Права человека, 2007), С. 6-128:
Фото:
Василий Овсиенko — студент, 1970; в день освобождения 5 марта 1977; в неволе 1979 г.