Интервью Александра Ивановича ДРОБАХИ
Василий Овсиенко: 20 июля 2000 года ведем беседу с господином Александром Дробахой из города Вышгород на Киевщине. Прежде всего — назовите себя, пожалуйста, и начинайте рассказ о себе и о других людях.
Александр Дробаха: Дробаха Александр Иванович, житель города Вышгорода Киевской области. Живу здесь, на Киевщине, с 1963 года, вернувшись на землю своих предков. Родился 25 августа 1938 года. После окончания Запорожского педагогического института по специальности «Украинский язык и литература» и «Немецкий язык», махнув на всё рукой, поехал работать к сознательным украинцам, в Галичину, потому что в Запорожье жить нашему брату было почти невозможно — такая была антиукраинская политическая и психологическая атмосфера.
И вот прибываю я в село Поднестряны Ходоровского района и попадаю к людям с большой буквы. Директор Калинец Михаил Григорьевич и учителя устраивают встречу, как какому-нибудь премьеру или президенту. До самого утра мы знакомились, а потом я начал знакомиться с галицкой жизнью. У меня там было несколько знакомых. Сразу появились Галя Леонченко, моя коллега, знакомая Дмытра Павлычко и других литераторов. Меня очень интересовала львовская украинская атмосфера, литературная, в частности. Несколько раз я бывал на литстудиях в университете. Начал чувствовать себя настоящим человеком, попав в начале августа 1960 года в Галичину.
Как личность я уже сформировался в Запорожском институте. Когда с низов жизни поступил в институт, уже были люди, мои ровесники, которые понимали, что такое родная земля, что такое родной язык. Но ситуация в Запорожье была трагикомической: здесь когда-то была твердыня украинской свободы, украинской воли — Запорожская Сечь, а в наше время, в середине и конце 50-х годов, это была русифицированная, глубоко израненная украинская провинция.
В.О.: Вы учились в Запорожском пединституте в каких годах?
А.Д.: 1955-1960.
В.О.: А перед этим вы окончили школу?
А.Д.: А перед этим — Александровская средняя школа, Приазовского района, нашей же области. Это почти побережье. Село Александровка — место моего рождения.
В.О.: Вы до сих пор не сказали, кто ваши родители...
А.Д.: Наш родовой корень — с Киевщины. Из Маньковского района — это соседний со Звенигородщиной. Следы теряются в XVIII столетии. Прибыли в степь, правда, из Крюкова, но их дальние родственники — я уже знаю — многие есть в Русаловке, Буках — Дробахи. Наши в степи прибыли в 1860 году, когда освободилось Дикое Поле от ногайцев. На каждого парня там давали 4 десятины земли. И моя бабушка Ломоносиха поехала. У нее было 4 сына, и они получили 16 десятин земли. Отсюда начинается моя одиссея, с Дикого Поля. Там мы прожили, можно сказать, сто с лишним лет.
Когда закончил учебу в Запорожье, то уже себе представлял, что это «Дикое Поле» — страшно разорённое в духовном смысле: одно село украинское, второе — московское, третье — болгарское, четвертое — кто знает какое. То есть, познать, ощутить себя на этой земле было очень трудно. Районная газета — русскоязычная, везде господствует московство. Я это чувствовал уже с юных лет. Слава Богу, были педагоги — Иван Михайлович Маляренко и Федор Иванович Витер, Григорий Лазаревич Милус, которые нам дали заряд сознательного национального мировоззрения в старших классах. Федор Иванович Витер, преподаватель немецкого языка, говорит: «Ну, чухраинцы, начнем изучать немецкий язык». То есть, в вуз я поступил не перекати-полем. А тут уже наше национальное сознание поддержали профессора и преподаватели, передали нам духовный заряд тех людей, которые были репрессированы в 30-х годах. Это поэт Александр Олесь, писатель Владимир Винниченко, и коммунисты-украинцы, член УКП Василий Эллан-Блакитный и другие. Мы увидели, что были настоящие украинцы, которые боролись за украинское государство. Доценты Забияка, профессор Степан Самийленко вспоминали и Миколу Кулиша, и Миколу Хвылевого и других.
Вот тут овчарки КПСС и вышли на наш след — когда мы создали литературную студию, когда мы начали после XX съезда немножко чувствовать себя свободными людьми. Разговоры, встречи — тут и началось давление. Мой двоюродный брат Кулик Владимир Дмитриевич, старше меня на четыре года, тоже закончил пединститут, проявлял национальные взгляды и даже способности к художественной литературе, возможно, активнее, чем я — на него и насели активнее, чем на нас, младших. И так насели, что он страшно разочаровался в жизни, немножко подружил с «зеленым змием». Не знаю точных деталей, но его отправили в Крым преподавать украинский язык. Представляете себе, какая там атмосфера была в 1959 году? Он бросил работу учителя украинского языка и литературы, вернулся в наше село, стал каменщиком. Эта «публика» довела его до того, что он погиб где-то в начале 60-х годов в родном селе Александровке. Я тогда впервые почувствовал, как может человека загнать эта антиукраинская идеологическая атмосфера, это давление, как может отчаяться человек, когда нет опоры на друзей, с которыми можно хотя бы поговорить искренне. Вот так он был брошен в то Дикое Поле, в атмосферу, которая его уничтожила. Он из тех людей, о которых Евгений Сверстюк писал: «Блудные сыны Украины». На своем опыте понял в те годы, как тяжко идти ва-банк против империи. Я тогда немного «одолжил» философии у гашековского Швейка. И это, возможно, меня спасло, особенно когда после трех месяцев работы в школе меня забрили в москали...
В.О.: Какого года?
А.Д.: Того же 1960 года. Они, очевидно, уже имели какие-то материалы на меня из Запорожья, потому что давление было очень большое. Но если бы учителя применили все методы, чтобы отбиться от военкомата, то, может быть, меня и не забрили бы в москали. Но я не очень сопротивлялся: не тут, так там, а заберут на два года.
Началась моя одиссея в армии на Киевщине, продолжилась в Германии. За два года узнал, что собой представляет эта машина. В армии я увидел парней, которые год проучились на двухгодичных курсах офицеров. В Германии состоялось «столкновение» украинства на футбольном поле против воображаемой «сборной СССР» (состояла, в основном, из русских).
В.О.: Вон как!
А.Д.: Тут выявилось преимущество? ?? педагогов — курсантов. Мы, украинцы, выиграли у «сборной Союза». По вечерам между нами, курсантами, шли ожесточенные дискуссии, не без юмора и сарказма. Лежит 30 курсантов — из них 15 украинцев, а половина — «интернационал». В этом «интернационале» москалей где-то три четверти. Один таджик, один узбек, а то «гвардия Краснопевцевых» и других. Парни, будущие офицеры, не теряли национального лица. После этих футбольных баталий и других дискуссий мы чувствовали себя более стойкими морально.
В.О.: А где же был КГБ, где спецчасть?
А.Д.: Потом были разговоры. Вызывали поодиночке. Мы там пробыли полгода и демобилизовались. Тогда же не было никаких организаций, негде было проявить себя, кроме как в гуманитарной сфере. А тут я увидел, что еще не умерла наша сила. Парни же мало знакомы между собой, но вдруг встречается украинец с украинцем и начинают вспоминать историю, какие были рыцари, кто боролся, кто плохой, кто хороший. Ясно, что у них недостаточно было аргументов и фактов, но они проявляли себя как украинцы.
После армии, в 1963 году, я вернулся на Киевщину, устроился работать в одной школе Бородянского района, в селе Лубянка. Название немного отдает...
В.О.: Лубянкой?
А.Д.: Нет, реками и лесом. Это по дороге Бородянка — Киев, там недалеко Буча, Ворзель... Проработал там год учителем немецкого языка. Устроиться учителем украинского языка и литературы на Киевщине — было невозможно. Учителей немецкого языка не хватало всегда. Тут мне просто повезло. Из этого села я уже начал наезжать на литстудию Дмытра Билоуса в издательство «Молодь». Там со Стусом познакомился. Там тогда была еще довольно свободная атмосфера, Киев тогда кипел. Немного завидовал парням, которые там «варились», а мне армия немного перекрыла путь познания настоящих сокровищ украинского движения. Там был наш «институт», наши великие люди, там мы слышали высокую поэзию раннего Тычины, которая была прибита огнем и пеплом репрессий... Мы там уже слышали о 1933 годе, хотя мне отец и раньше говорил об этом.
Я немного вернусь к своим родителям. Отец мой из хлеборобского рода, идеология и политика там не были на первом плане. По отцовской линии двух дядей и теток было семеро, они были к политике довольно индифферентны. По линии матери было восьмеро. Они довольно активно проявили себя. Благодаря им я рано начал понимать сложность политической жизни. Дядя Ничипор, 1900 года рождения, служил на линкоре «Воля». Уже позже, через много лет, узнал о том моменте, когда украинцы 30 апреля 1918 года подняли украинские желто-голубые флаги — линкор «Свободная Россия», линкор «Воля» и другие. Дядя Нечипор — чрезвычайно интересный человек. Красивый, невероятного темперамента. Когда появлялся в селе — все играло, танцевало, пело... Вмешался он в политику. Так что в 1918 году или где-то в начале 1919-го погиб от деникинцев в Мелитополе — порубили его саблями, как и моего деда Харлама. Фамилия и того, и другого Немырюк. Так случилось, что дядя и племянник были одного года рождения, 1900-го, и служили недалеко друг от друга.
Их судьбы для меня загадка до сих пор. Пытался узнать, почему и когда ушли с кораблей матросы Черноморского флота. Не по тем примитивным версиям, как в «Гибели эскадры» Корнейчука.
...Через 50 лет после гибели дяди Ничипора, в 1968 году, когда я зигзагами приблудился в Чигирин. Встретил там одного человека, который служил вместе с ними на кораблях Черноморского флота. Он рассказал мне, что происходило тогда на Черноморской эскадре. Я хотел выяснить, куда пошел Нечипор с тем десантом — к Махно или в другие отряды. Во всяком случае, эта красная публика — председатели сельсоветов и райисполкомов — к Немырюкам, то есть к семье моей матери, относились с подозрением. Все время какие-то там подножки были, претензии, что земли много. У нас была хата и соток 80, так оставили только 20, хотя мать и в колхозе работала, и воспитательницей в детском саду, потому что имела небольшое педагогическое образование: незаконченное педагогическое училище. Из-за семейных обстоятельств она учебу бросила. Понимала, что и куда идет. Мне говорила: «Смотри у меня — и не упоминай это слово „Соловки“! Смотри. Тогда, в 1937-38 годах, взяли Крамаренко и Петра Дробаху (дальнего нашего родственника), и мы до сих пор не знаем, где они и что они, и как с ними». А про 1933 год мне и отец рассказывал, да и дед Михаил покойный, что это такое было, сколько людей погибло.
Когда в 1953 году умер идол, меня удивил отец: «Да что они там слезы льют? Все они бандиты!» Я спрашиваю: «Как — и Сталин?» — «И Сталин тоже». Его тянули в КПСС, а он не пошел. Принципиально выписывал одну лишь газету «Известия». Так что в моем мировоззрении этих красногалстучных идей не было никогда, и мне сейчас легче. Благодарю судьбу, с детских лет не был заангажирован на всю эту красную «коммунистическую белену».
Еще в Запорожье парней «вызывали» за литстудию. Говорит как-то мне О.Дзёбик (член нашей литстудии): «Вот меня „вызывали“ и сказали, что за тобой, за тем-то и тем-то надо следить, надо докладывать». Так что мне «картина» начала вырисовываться уже в 1959-60 годах. Поэтому я поехал в Галичину работать и чувствовал там себя более-менее свободно.
А после армии вернулся на Киевщину, потому что думал, что здесь все-таки бунтует, кипит наша сердцевина — Киев. Где там! — работал в селе, ну а село, что ни говори, а глухомань. Хотя прорывался в литстудию, к людям, где чувствовалось сопротивление, чувствовал себя человеком. И все-таки я решил куда-то уехать оттуда. Но немецкий язык был мне в печенках, он меня особенно никогда не привлекал. Поэтому я на него никогда не делал большую ставку. Попробовал в аспирантуру поступить, чтобы где-то в Киеве зацепиться — безуспешно. И вдруг встретил одного человека. Это был Виталий Ризнык — он немного и поэт. Он сказал: «Слушай, давай попробуем прорваться на комсомольскую стройку!» И мы поехали: туда, сюда, вприсядку. Конечно, о школе не с кем и говорить. На стройку чернорабочим можно было устроиться. Тем более, что там зазвучали некоторые фамилии, которые я в литстудии слышал, и с кое-кем немного был знаком. Мы устроились арматурщиками на железобетонный завод.
В.О.: Где это?
А.Д.: В Вышгороде, на Киевской ГЭС. Ничего себе — не хуже, чем немецкий язык преподавать.
В.О.: А ГЭС когда начали строить?
А.Д.: Ее начали строить в 1960 году. Мы приехали в августе 1964 года. Уже кипело, готовили дно будущего водохранилища — «мертвого моря». Уже все гремело, дымилось и звенело, самый разгар работы. А людей было 10 тысяч — молодежь со всего Союза, много с Украины. Публика очень интересная. Меня как литератора и как человека, который что-то думал сделать в плане нашего национального возрождения, это захватило. Где-то уже там начал звучать Вячеслав Чорновил, потом я с ним познакомился на одном из вечеров. Из парней, с которыми мы начали действовать в национальном плане, можно упомянуть Владимира Комашкова, он уже покойный, Царство ему Небесное. Сделал он для повышения сознания людей немало. (Род. 1935, ум. 10.10. 1997. — В.О.).
Хотел бы особо отметить эту вторую после института волну взлета моего национального сознания. Надо было перековываться, многое надо было читать, мыслить, многое отбрасывать. Здесь мы вошли в волну украинской духовности, которая поставила нас на ровные ноги и выпрямила наш позвоночник, который в какой-то мере был искривлен, само собой разумеется. Мог бы назвать 2-3 десятка людей, которые крутились в этой нашей компании.
Но я оспариваю тезис, который пульсирует в книге Русначенко и во многих статьях, что это было движение за гуманитарное возрождение, движение только художественного направления. (Анатолий Русначенко. Национально-освободительное движение в Украине. Середина 1950-х — начало 1990-х годов. — К.: Изд. им. Олены Телиги, 1998. — 720 с.). Как раз мы здесь, в Вышгороде, очень много говорили о политике в плане украинского государственного строительства, немного меньше действовали. Я парням говорил, что нельзя в этой среде об этом говорить открыто и с кем попало. О многом, конечно, мы говорили только в узком кругу. В будущем картина этих событий будет вырисовываться все ярче, когда будет доступ к нашим делам в тайных архивах. Думаю, что будут написаны книги (да и я обязан проанализировать все эти события). Что это было в Украине — гуманитарное движение этнографического, бытового уровня, или движение за национальное возрождение?
Хочу подчеркнуть: мы говорили, что Украина должна быть самостоятельным, независимым государством. Мы говорили об этом в очень узком кругу, я предостерегал парней, что не следует открыто говорить о наших целях, потому что все будет накрыто преждевременно мокрым колючим рядном.
Тогда же начал создавать исторический музей, организовывать литературные студии. Организационно это был музей, это была литературная студия, но на самом деле это была все-таки политическая группа. Задействовано в ней было до сотни людей. Мы совершили рейд на гору Маковку. Мы теперь знаем и свободно говорим, что такое Маковка. А тогда для меня это было невероятное открытие: ступить своей ногой, подняться на Маковку... Есть фотографии. Богдан Дырив был из Галичины и имел там знакомых людей, на которых можно было положиться. Мы с одним лесничим взошли на вершину Маковки, видели окопы. Он рассказывал нам о боях Первой мировой войны. Мои парни интересовались не только литераторами, поэзией, Симоненко и Свитлычным. Мы говорили о том, возможна ли Украина, возможны ли украинские вооруженные силы. Мы знали, что тогда произошло первое после гетмана Мазепы столкновение с Москвой. Именно на горе Маковке. Это очень важный украиноцентричный момент нашего развития.
Из парней, с которыми познакомился и с которыми даже жил в одной комнате, назову только самых пострадавших: Александр Назаренко, Василий Кондрюков и Валентин Карпенко. (Назаренко Олесь Терентьевич, род. 27.09.1930 в с. Землянки Макеевского р-на Донецкой обл. Участник движения шестидесятников, изготавливал и распространял самиздат в Вышгороде на Киевщине. Арест. 26.06.1968, осужден на 5 л. заключения по ст. 62, ч. 1; подельники Василий Кондрюков на 3 г., Валентин Карпенко — на 1,5 г. Отбывал срок в Мордовии и на Урале. Ныне живет в Скадовске на Херсонщине. — В.О.). Апогей этих событий — Киево-Вышгородский процесс, декабрь 1968 года — январь 1969 года. Об этом процессе почти ничего не написано. Не думаю, что и в книге Русначенко что-то есть. (Нет. — В.О.). Немного в прессе уже было, но я должен об этих парнях упомянуть. Это были не лучшие годы моей жизни, потому что лучшие годы моей жизни — это 1989-1991 годы, когда боролись за Независимость и получили ее. А в 60-е годы мы готовились к этому. Конечно, было очень много радостных моментов становления: того первого, невероятного...
Кроме этих трех человек, обязательно стоит упомянуть Вячеслава Чорновола, с которым был лично знаком. Он был для нас примером отчаянной отваги — была такая черта характера у него. Мы тогда были молодые и неопытные. А характер Вячеслава Чорновола тогда оттачивался не только литературой, но и знакомством с Борисом Антоненко-Давидовичем, с Иваном Гончаром и другими людьми, которых я, может, и не знаю. Я тоже был знаком с Иваном Гончаром, и с Антоненко-Давидовичем. У Гончара мы бывали несколько раз, и с Антоненко-Давидовичем имел несколько разговоров, которые дали мне возможность понять, что Украина борется, Украина есть. Вячеслав Максимович — я так чувствовал — был живой эстафетой между этими людьми и будущим. У нас были некоторые его статьи, были личные разговоры — это, безусловно, имело большое значение для нас.
Знакомство с Василием Стусом состоялось на литстудии в издательстве «Молодь». Оказалось, что мы одногодки и коллеги. Он закончил пединститут в Донецке, а я в Запорожье. Еще тогда почувствовал, что это человек характера невероятной силы, который принципиально неспособен на сознательный компромисс. Мы были не одинаковыми по характерам, очевидно, волевыми качествами также. Главное, что понял тогда, что Василий Стус самый твердый и самый неуступчивый в своем украинстве. Я увидел, что это айсберг: что он читал, что говорил — это далеко не то, кем он является на самом деле. Увидел и на Киево-Вышгородском процессе, когда судили Назаренко, Кондрюкова и Карпенко, а мы, 25 человек, были свидетелями.
В.О.: И Стус тоже, может?
А.Д.: А Стус прорывался на этот процесс. Вы знаете эту механику — нас пускают по одному, сказал там что-то или не сказал — и айда, чтобы в зале не присутствовал. Выгоняют. Каждый из нас не слышал, что говорил предыдущий. Это было в Киевском областном суде — такая сардоническая гримаса судьбы: между взорванным Михайловским собором и Святой Софией — там нам выкручивают души. Но перед этим был этот ужасный глум — допросы, разговоры. Все это мы прошли... Само собой разумеется, на душе кошки скребут, взвешиваешь, что сказать, а что не сказать, что сказал тот и что не сказал тот, и надо иметь отвагу отрицать. Эти трое парней были разные. Разные были их установки относительно следствия, но следователи что-то там из них выжимали. Тверже всех из них, может, держался Василий Кондрюков. Я помнил из разговоров с Антоненко-Давидовичем, да и другие люди полушутя говорили, что в таких ситуациях надо говорить как можно меньше, не обращать внимания на тон, мимику, на улыбки и усмешечки «собеседников», так сказать. Не раз бывало, что кошки скребут на душе и мороз по коже... Но я помнил, что надо как можно меньше говорить на эту тему. А вот парни как раз не выдержали этого завета. Александр Назаренко, может, и наговорил себе на целых 5 лет, а можно было и намного меньше.
В.О.: Он говорил, что вот некоторые думают, будто он кого-то там выдал. Такой намек был и в «Украинском вестнике». А на самом деле у него записную книжку изъяли, а там были все те фамилии и телефоны. Вот КГБ с миру по нитке и насмыкал...
А.Д.: Да, и это было. Я общался с теми парнями, которых можно назвать свидетелями. Жаль, пан Василий, что вы поздно начали в это вникать, потому что Комашков Владимир, Царство ему Небесное, знал об этом очень много, он был на острие всего нашего сопротивления... Скоро два года будет, как он умер. Он был знаком с Аллой Горской, с Иваном Свитлычным. Я тоже был знаком с Иваном, и могу сказать, что это был очень мудрый человек, его позиция была правильная, но он никогда не выпячивал себя. Среди нашей группы было несколько человек, которые сделали на пять копеек, а рассказывали, что — на целую гривну. Это человеческие слабости. Василий Стус и Иван Свитлычный не терзались ни славолюбием, ни самолюбием.
Уже говорил, что я сознательно порой играл «под Швейка», потому что бывали ситуации, что без игры можно было дать дуба. Мы же были молодые, не готовые к таким трудностям. Считаю, что самая большая заслуга шестидесятников та, что мы подхватили эстафету тех, кто боролся за свободу в УПА. Такие люди, как Антоненко-Давидович или Иван Гончар, все же не были одиноки. Их поколение было истреблено на 90 процентов. Наша среда тоже была невелика, но упорна в своей украинскости. Если бы нас в Вышгороде было тысяча, а в Киеве сто тысяч — Киев был бы украинским, а сейчас ситуация у нас была бы совсем другая.
Так что же мы тогда здесь делали, в Вышгороде? Кроме разговоров в узком кругу на политические темы, мы вели культурологическую работу, устраивали литературные вечера, путешествовали к нашим национальным святыням. Приглашали близких по духу интеллектуалов, писателей из Киева. Кто только не побывал в Вышгороде на вечерах! И я пытался организовать, чтобы побольше людей втянуть в украинскую атмосферу. Были конфликты, потому что руководство пыталось вносить малороссийский элемент. Были малороссы, были чухраинцы... Когда нас от этого отстранили, я организовал литстудию «Малиновые паруса», где продолжал эту линию с более узким кругом людей. Но и ее прикрыли. Почему «Малиновые паруса»? — говорили в кабинетах. «А вы знаете, что малина есть желтая?» А откуда я знаю — я же из степей, я даже обычной малины там не видел... Я знал, что малиновый — это казацкий цвет, не красный, и это меня устраивало. А «товарищи» снова: «А почему малиновый? А небо ведь голубое? Понимаете, что выходит?» И следователь-овчарка взял след, потому что мы записали один раздел «Украины» на магнитофонную ленту. Было мороки. «Нет, врете, это глубинные ваши замыслы, знаем мы вас!» Вот такие вещи, полные гротеска.
Ну, закрываются «Малиновые паруса», снова я хожу без нациетворческой работы.
Попробую остановиться на важных моментах нашей жизни. Вот, скажем, кинотеатр «Украина» 4 сентября 1965 года. Одна из тех вспышек, что зарядила наше сознание и дала нам силу держаться крепче. Когда Василий Стус, Вячеслав Чорновил, Иван Дзюба...
В.О.: Вы были там?
А.Д.: Да, я там был. Еще Назаренко, Богдан Дырив и еще кое-кто из Вышгорода, из нашего круга.
В.О.: А интересно, как вы об этом рассказываете, потому что разные люди несколько по-разному рассказывают.
А.Д.: Да, да, я кое-что уже и читал. Я скажу, как это в моей памяти осело. Пан Василий, если бы в дневники того времени заглянуть...
В.О.: Вы дневник вели?
А.Д.: Да.
В.О.: Ну, вы отчаянный человек!
А.Д.: Да, пан Василий. Не так отчаянный, но не такой уж и простак. Многое там было записано методом «скрымтемним» (я позаимствовал этот термин у московских диссидентов), намеками. Потому что если бы я записал: «Донцов, „Национализм“ или даже Чорновил»… Урала или Сибири не миновать бы. Многие мои бумаги попали в КГБ. Но это же нужен был огромный штат, чтобы там что-то выудить. Многое я отметал. Попробуй докажи, что это Шелухин, «Украина». За этой книгой КГБ очень охотился. Эта книга и сейчас у меня есть. Когда я прочитал ее полностью где-то в 1989 или 1990 году, то я понял, почему следователи говорили, что это бомба. Там кельтская теория происхождения украинцев. Автор — человек огненного темперамента. Таких книг, как эта, и сейчас мало об Украине. Мы читали статьи Грушевского, статьи Симона Петлюры, но книг такой проницательности и одержимости до сих пор мало. Почему их интересовала эта книга, а не, скажем, Евген Маланюк, который достался мне на одну ночь от Назаренко?.. А она попала из Киева, был у нас такой «челночный» конвейер Киев — Вышгород. Заслуга в этом Владимира Комашкова, в основном... Некоторые книги попадали к трем-четырем людям, а от них к 30-40. Но обнаружился один промах, и «овчарки» вышли на этот конвейер... Тогда человек 20-30 они «отшили», еще в 1965 году...
Вот кинотеатр «Украина». Солнечный сентябрьский день, бодрое наше настроение, сейчас начнется интересный фильм. Украинская атмосфера... Вдруг выходит Иван Дзюба... Он должен был что-то сказать о «Тенях забытых предков». И вдруг встает Стус — мне кажется, Стус, потому что некоторые говорят, что первый встал Чорновил. И говорит, что произошли аресты — мы это уже знаем. И говорит дальше (по-моему, это все-таки был Василий Стус): «Кто протестует против арестов, прошу встать». Потом — Чорновил что-то там начал говорить, такой зажигательной речью, что люди начали вставать. Вдруг погас свет. Начались какие-то выступления, речи... Я не могу дифференцировать все те детали, когда свет погас. Но когда начали говорить, когда начался этот бунт отважных душ — я почувствовал это по себе, потому что мы тоже встали. Кое-кто оглядывался, а мы — Назаренко, я и Дырив — мы стояли, как прикипевшие. Когда через некоторое время свет включили, еще что-то говорил Дзюба, но его снова начали перебивать.
А потом — фильм, огненные кони... Я не ожидал такой трактовки Коцюбинского. Потому что «Тени забытых предков» в моем воображении были на уровне этнографии. А фильм зазвучал чуть ли не как боевой клич возрожденной из пепла украинской души.
После этого службы начали действовать очень активно. Они вышли на следы этих книг, которые нас сплачивали. Были протесты, подписи в защиту арестованных людей. Нас начали вызывать на разговоры: кто, что, где, как, когда, с кем — эти долгие, нудные, многочасовые разговоры. Я увидел, что это добром не кончится.
[Конец дорожки]
А.Д.: Я хотел бы подробнее сказать о нашей культурно-политической работе. Читали поэзию Василия Симоненко, Ивана Свитлычного, произведения Антоненко-Давидовича, великих украинцев Донцова, Маланюка, Шелухина, альманах «Червоная калина», произведения Грушевского, Винниченко. Мы почти все жили в общежитии, общались ежедневно, но этого было мало.
В.О.: А где то общежитие было — в Вышгороде?
А.Д.: Да, в Вышгороде, это улица Строителей. Теперь мы ее переименовали в улицу Богдана Хмельницкого. Хочу сказать, что мечты некоторых из нас сбылись через 25 лет. Например, проспект Молодежный через месяц или два мы предложили переименовать в Ивана Мазепы раньше, чем во Львове. Но во Львове прибили таблички через три-четыре месяца. В Вышгороде два года тянулась канитель с табличками, потому что вся эта красная братия, вся эта малороссийская компания была против того, чтобы в Вышгороде была улица Мазепы. Так что уже несколько раз говорил: «Ребята, мы все-таки дожили до того времени, когда некоторые наши суперкрамольные мечты стали реальностью». А в Киеве до сих пор нет улицы или проспекта имени Мазепы, к большому сожалению.
Подчеркиваю — огромное значение для человека имеет ограничение своего круга — географического, порой, возможно, и идеологического, своей деятельности, тогда будет выше качество жизни. Потому что очень много людей хотят прыгнуть очень высоко и очень многое объять, а часто из этого получается дымок без огня.
Парни начали делать фотокопии, размножать документы. Очень серьезные документы, скажем, о голодоморе, о терроре, о судах, арестах. И распространять. Это, конечно, не могло продолжаться долго, чтобы на их след не вышла охранка.
В.О.: А какие были способы размножения?
А.Д.: Обычный фотоаппарат и увеличитель. У нас в общежитии была небольшая коморка, где хранились наши бумаги. Я, не имея опыта подпольной работы, совершил ошибку — стратегическую ошибку: когда поехал в отпуск, то там вместе с теми политическими книгами и бумагами Назаренко «накрыли» и мои бумаги. Там были, в основном, черновики, рукописи моих литературных произведений. Хорошо, что я порой вел записи эзоповым языком. Если бы писал прямо, то было бы, конечно, очень несладко. Ну, этот промах произошел из-за нашей неопытности.
Это продолжалось довольно долго — 1964-1967 годы. Несмотря на аресты 1965 года, когда был какой-то испуг. Но мы не каялись. Я продолжал делать исторический музей в «подземелье» общежития. Начальником строительства был Строков, говорят, казацкого рода, хотя то чувство было уже усыплено. Он сказал: «Дам вам комнату — попробуйте, но до вас здесь уже были герои». Я не горел таким огромным энтузиазмом заниматься только музейными делами — для меня было важно иметь помещение, чтобы мы там могли собраться, поговорить.
В.О.: Так вы там и толклись, в музее?
А.Д.: Да, мы там и толклись. Там были мамонтовы бивни, патроны, монеты, ассигнации, материалы о самых интересных людях. У меня даже сохранилась книга посетителей, там зафиксированы отзывы. Для нас главное было — поднимать наше национальное сознание и задействовать как можно большее количество людей. Это было главное задание. Когда парни начали множить документы, и делали это порой неумело, по-школярски, то я почувствовал, что нас в покое не оставят, что все это могут, как в 30-х годах, быстренько скомкать. Так оно и случилось. Мои предвидения сбылись. Некоторые из наших парней могли женщине, которая ему понравится, рассказать почти все, что мы делаем. Я категорически возражал против этой «романтики». Но когда их прижали, то потом догадывались, что могла рассказать та женщина, которой он слишком много и искренне рассказывал лишнее.
Культурологическая работа закончилась чистой политикой, и нас начали учить по кабинетам. Конечно, это было не очень приятно. Я, скажем, осознавал, что дорогу тебе, голубчик, в большую литературу уже перекрыли, потому что знают, что ты читал того и того. Курьезов «кабинетного» воспитания случалось много. Меня спасала швейковская позиция. Мы с Александром Назаренко неосмотрительно записали такие ударные отрывки из «Украины» Шелухина — я читал, помнится, вдохновенно. Сначала отрицал, что читал эту книгу. Тут мне прокручивают пленку, где звучит мой голос. И я набирался наглости говорить этим людям, что это не я! А потом: «Ну, да, ну, читал. Но это не значит, что я особенно проникался мировоззрением Сергея Шелухина. Я литератор, в какой-то степени ученый человек, мне надо знать все. Или вы отрицаете Карла Маркса и Ленина, которые говорили, что ничто человеческое нам не чуждо?». То есть иногда удавалось ставить их на место, потому что они вели себя часто примитивно и грубо. Но события развивались так, что музей мой был разгромлен.
В.О.: Когда и как это случилось?
А.Д.: Это уже был апогей. Парни увидели, что уже выходят на их следы. Весной 1968 года они переехали в Киев.
В.О.: Это кто?
А.Д.: Назаренко и Карпенко. А Кондрюков все время жил в Киеве, они только спорадически встречались. Все они работали на ГЭС, но Кондрюков где-то в 1967-68 году перевелся в Киев. Он за свой счет — это я знаю точно — издавал листовки, письма Караванского, еще какие-то там протесты. Василий это делал, чтобы не впутывать других. Когда вы с ним встретитесь, он детализирует эти вещи, потому что это интересно.
И вот в 1968 году разгромили мой музей. Кипела негритянскими протестными бурями Америка — мы это знали. Мы знали, что в Париже бунтует молодежь и что-то там очень хорошо творится в Чехословакии — это Дубчек и его «социализм с человеческим лицом». Мы надеялись — в Чехословакии произойдет прорыв к обществу здравого смысла. А потом очередь дойдет до Украины.
В.О.: Пражская весна...
А.Д.: Да, да. Охранка и Политбюро встревожились, что это может действительно перекинуться и на Украину, потому что есть почва. Кремль начал принимать превентивные меры. Конечно, мы переживали из-за невеселой перспективы: что будет и как оно будет? Если бы можно было предвидеть... А мы были неопытные, поэтому и я тоже попался на крючок, когда оставил большое количество своих бумаг и черновиков в музее. Там был целый чемодан того, что я читал и что понаписывал.
Я взял свой рюкзак и рванул зигзагом вдоль Днепра к своей сестре в Симферополь. Была такая подспудная мысль, что попадешься к чертовой душе и не познаешь своей земли своими ногами и глазами. У меня всегда была жажда пройти пешком Украину. А потом я много путешествовал и на велосипеде по Украине, и пешком. В памяти поныне Переяслав, те села, где Шевченко бывал и зарисовал церковь в Переяславе, дубы во Вьюнище. Когда я приехал туда, то ужаснулся — те дубы вывернуты вверх корнями, смешаны с небом. Дубы, которые рисовал Шевченко во Вьюнище... Где-то я записал: «Посечена и порубана Тарасова красота».
Так что в эти странствия поехал не зря, потому что думал, что если схватят, то хоть будет о чем вспоминать. По Звенигородщине бродил пешком два дня. Из Шевченково шел в Моринцы пешком. Это все был зов грозовых событий 1968.
В.О.: Это услышав, что ребята арестованы?
А.Д.: Нет, я еще этого не знал. Так чувствовал, что это произойдет. Несколько раз мы виделись, когда они жили в общежитии в Святошино. Говорили, что дела плохи, что следят за ними, порой кто-то торчит под окнами, то нагло врывается в комнату комендант общежития. Они чувствовали, но шли уже, как мотылек на огонь. Можно же было «смотать удочки» и уехать в Карпаты — молодые люди, пусть ищут ветра в поле. А у меня был отпуск. Не думал, что это случится так быстро.
В.О.: Это было лето 1968. Назаренко взяли 26 июня.
А.Д.: Да, это было в июне. Но их взяли не вместе. Кондрюкова взяли, а потом выпустили. Это Василий мне говорил. Это очень искусно делалось, чтобы, очевидно, не вспугнуть других.
Я уехал — потому что мои родители жили в степях. Была потребность увидеть их, потому что год на привязи в школе. Поехал дней на 20 по местам украинских освободительных движений. Кстати, мы с Евгением Обертасом в 1996 году этот мой рейд повторили, но уже на его авто. После этих рейдов я могу спокойно сесть за этот материал и написать серьезную вещь. Потому что никогда не пишу чисто теоретические вещи, о чем услышал или прочитал. Одна из формул моего творчества: пройти, услышать, почувствовать, поговорить — и только тогда могу за что-то серьезное браться.
И вот я попадаю в Переяслав, в Чигирин, в Холодный Яр, в Капуловку, в свое родное Запорожье на остров Малую Хортицу... Это уже через 18 лет после окончания вуза, совсем другим человеком. Переночевал на Хортице одну ночь. А потом подался через степи в Симферополь к сестре. Бахчисарай. Ялта. Перед тем на полдня заглянул к известной художнице Т. Пате в Петриковку (Царичанский район).
Возвращаюсь в Вышгород — а тут погромчик. Мне говорят, что ребята арестованы. Это не было, как гром среди ясного неба, где-то во мне уже сидело, что к этому идет. Меня кольнуло: а наша коморка в общежитии? А коморка — схвачена. И тогда мне стало очень невесело, потому что подумалось, что начнут копать, глубоко копать, и специалисты поймут, кто им попался. Правда, я с десяток стихов Маланюка переписал, и они были со мной. Осталась проза. Позже понял, что Маланюк, Донцов их интересовали больше всего. Но нет документа — «дела нет».
Началась канитель. Музей разгромлен. Правда, кое-что удалось спасти. Секретарю комсомольской организации скомандовали: «Вперед! Ату!». Он выносит бивни, зубы и другие экспонаты. А тут нагрянул «директор». Ну я и говорю ему: «Да ты куда?!» И так прямо к нему: «А ну, вытряхивай, потому что я сейчас...» Он не захотел со мной ссориться, оставил.
В.О.: И куда они дели то, что вынесли?
А.Д.: Выбросили где-то там, пан Василий, куда они могли эти вещи деть? На свалку. В 1938 году в Вышгороде был историк и педагог Марчук Иван Сидорович, мой коллега. Он создавал музей в церкви Бориса и Глеба, там, на Горе. Мне местные жители рассказывали, что его музей был разгромлен так же, как и мой. И я это предвидел — знаю, что это за публика. Эмоционально не был потрясен — воспринимал это на уровне интеллекта, что надо что-то делать, хотя за это могут мокрым рядном накрыть. Так и случилось.
В общем, у меня хватило ума без истерики сказать: «Иди отсюда, это не ты собирал, это людское, потому что я сейчас тебя тут...». Даже толкнул его локтем, говорю: «Иди, делай свои комсомольские дела». Это секретарь парткома натравил комсомольцев: идите, громите музей. Они чужими руками это делали... У комсомольца хватило ума не ссориться со мной, не драться, и он ушел. Таким образом, где-то две трети материалов, которые у меня были, спас. Знал, что комнату можно было ключиком отпереть. Когда уезжал, то оставил 20 филинов на столе — это ради эксперимента. У меня были такие рисунки: «Пугу, пугу, товарищ из Луга». Я их оставил. Думаю, найдут — пусть разгадывают ребус. Ну, они глянули, может, не поняли.
Дальше невозможно было жить в общежитии. Кипело, шумело и гремело. Это даже немного нравилось, потому что мы расшевелили эту мертвечину. Поэтому я удрал на улицу Топильню. Нравится вам название или нет?
В.О.: Топильня?
А.Д.: Топильня. Топильце в Вышгороде. Там я жил у одного человека, который говорил: «Это кривопузые москали...». Спрашиваю: «А чего ты их называешь „кривопузые“?» Говорит: «Эти кривопузые и мне допекают». Его дед был репрессирован. Тот дед был вообще таинственный. Когда они начали восстание в 1919 году — новопетровцы, вышгородцы, старосельцы и еще десяток сел — штурмовали Киев, погиб начальник губчека товарищ Николаенко, то его дед был одним из участников восстания. Потом деда так прижучили тюрьмами и ссылками, что он пять лет, когда вернулся, ни слова никому не сказал. Только: «дай», «на», «иди». Родственник этого деда решился взять меня на квартиру. Не знаю, может, у него и был разговор: «Кого ты взял к себе на квартиру?» У него был сарай — полусарай, полубудка, полуземлянка, — но там была печка. Там я жил полтора года. Там, где вы были, в тех ужасных условиях, не знаю, как бы я себя вел, но здесь это меня особенно не допекало, потому что надо же выживать. Никогда не жалел, что мы там раскрутили...
Эти разговоры, эти майоры, капитаны, лейтенанты... Конечно, не хватало интеллекта, который был у Сверстюка. Как-то спрашиваю: «Пан Евген, как вы так могли с ними говорить, как философ?» А я — черт его знает, как сумел, выкручивался, врал, отрицал. Пока не «прижали» к стене — не признавал это за факты. Знал, что они люди абсолютно аморальные, так что быть с ними моральным — значит топить себя, или попасться на такой крюк, что кровавым потом изойдёшь. Поэтому отрицал даже там, где мне потом вышло боком, но, думаю, что это была правильная позиция. Может, у меня не было того интеллекта и той моральной высоты, с которыми разговаривал с ними Евген Сверстюк. У нас же такая была «паутина», задействовано было, я же говорю, свидетелей 25. Кто что мог сказать — не известно. Надо было уже идти ва-банк, отрицать, пока тебя не припрут к стенке. Конечно, что выжмут, идет в «дело». Эти разговоры велись на улице Владимирской, на Розы Люксембург. Кстати, Кондрюков достал как-то свое «дело». Из него можно определить, кто и что говорил и что кому конкретно инкриминируют. Я там зафиксирован в двух моментах, хотя можно было в 222 моментах быть зафиксированным. Они из этой горы материалов взяли то, что шло под статьи.
В.О.: Если бы это 1937-й год, то все вы загремели бы на тот свет.
А.Д.: Да-да-да, и без разговоров. А тут репрессии были выборочные.
Тут моя книга в «Радянському письменнику» должна была выйти. Поэзия. 1967-68-й год. Мнётся, шлифуется, редактируется, отбрасывается, толчется. Готовят писатели Григорий Коваль и другие. Крутится «Собор» Олеся Гончара. Я зашел к Владимиру Пидпалому. Владимир говорит: «Иди бери бутылку коньяка». А я же думаю, что это моя книга уже на подходе. «А для чего?» — «Иди, я тебе сказал». Я пошел, приношу, а он вынимает: «Вот смотри, видишь?» — «Собор». Я думал, что он о моей книге скажет. Знаю, что, наверное, дела не будет, мальчик. А он мне показывает «Собор». Я смотрю — черно-красная суперобложка. Тогда роман вышел в серии «Романы и повести», а это издание в супере. И весь тираж уничтожен, 100 тысяч. Может, уничтожено не 100 тысяч, для показухи немного выбросили на рынок в Киеве и во Львове. Пидпалый выхватил несколько экземпляров. И говорит мне: «Я тебе, Сашко, дарю эту книгу». И подписал. Она у меня до сих пор есть.
В.О.: А я, между прочим, купил то издание, а потом кагэбисты у меня его забрали.
А.Д.: Ну, само собой разумеется. У меня она горела, когда я жил в Вышгороде. Уже в 1970 году, когда я женился. У меня там была коморка, где лежали книги. Не знаю, как так случилось, но дверь загорелась. Огонь начал добираться до моих книг. Как-то случайно заметил дым и туда — дверь уже выгорела и несколько книг загорелось, в том числе «Собор». Сгорела эта черно-красная суперобложка, а сама книга еле-еле подгорела. Я ее выхватил. Это целый сюжет. Потому что у меня еще есть порезанная книга о декабристах, которая вышла в «Молоди». Их головы отрублены еще раз. К чему я веду? Тогда мы поговорили с Пидпалым, я поблагодарил и говорю: «Как моя книга?» Говорит: «О, не спрашивай — иди к заместителю директора, он знает. Я не знаю». А тут же лето 1968 года, процесса еще нет. Гавкнет моя поэзия. Так уже спокойно думаю. Если с Гончаром такое дело, то... И выходит моя книга... Я забыл ее взять, как-нибудь покажу вам.
В.О.: А как она называется?
А.Д.: «Папоротник». Но желто-голубая суперобложка! Небольшая, малюсенькая книжечка, вся желто-голубая. Когда мне дали сигнальный экземпляр — у меня мороз пополз по спине то ли от радости, то ли от страха. Желто-голубая! Только папоротник черный, плотина. Голубая вода, фон голубой, все остальное желтое. Я понял, что этой книжечке суждено под гильотину попасть. И она была посечена на солому, тихонько. Мне кто-то из парней все-таки выхватил где-то в Галичине несколько штук. Наверное, где-то немножко проскочило, или Бог его знает.
В.О.: Значит, Владимир Пидпалый редактировал. Издательство какое?
А.Д.: «Радянський письменник». Нет, мою книгу редактировал не Пидпалый, редактировал ее Григорий Коваль. А с Пидпалым я общался, у нас были близкие отношения. На студии познакомились в «Молоди». А Гриць Коваль, который редактировал, тоже неплохой дядечка, но много чего повыбрасывал. Мне говорили, что книга может не выйти, а может и выйти. Там еще Иван Немырович работал. Я ему тоже доверял, потому что он очень интересовался: «Что там у вас в Вышгороде? Кипит? Как ты там задействован? Что там такое?» Тогда же из-за книги и дела Дзюбы в Союзе писателей была поляризация — парней активных и сознательных наказывали. Я не говорил им о политических перипетиях, о следствии, потому что не знал, как это они воспримут. Тут и так все на лезвии. А потом, когда говорил с директором Анатолием Морозом, они же, очевидно, «челноками» к тем, кто решает дела, наведывались. Так я сказал, что у нас в Вышгороде ничего особенного. Ну, была литература. Эти же разговоры были еще до моего отъезда летом 1968 года. Спрашиваю, выйдет ли книга, потому что уже мои ребята интересуются. Директором издательства тогда был Анатолий Мороз, а главным редактором Дмытро Мищенко. Может, они что-то и знали. Но говорю, что ничего особенного. Читали литературу, Винниченко, Грушевского. Не говорю же, что читал Маланюка или Донцова. Правда, сказал, что читал, но тогда, когда почувствовал, что и он тоже читал такие вещи, которые были тогда архикрамольными...
Итак, нас дергают на допросах, а меня скребет: как же моя книга? Где-то в конце сентября или в октябре дали мне в издательстве 5 экземпляров. А в магазинах «Папоротника» нет. Потом оказалось, что из школы была написана какая-то кляуза, кто я такой. Это, очевидно, чтобы приплюсовать к тому, что было в деле. Потому что в Укрглавлите (правильнее цензурном комитете) бумаг не было. Так, только разговоры, «одна баба сказала». Кинулся искать свою книгу — нет! В Союзе туда-сюда, искоса так смотрят на меня, отстраненно... А потом закрутилась эта канитель в общежитии: где жить, как жить, как вырвать свои рукописи — а рукописи не отдают, потому что хотят, очевидно, собрать на меня как можно больше компромата. Так я книги и не нашел. А года через три или четыре один человек мне сказал: «Ты знаешь, а у меня есть десяток экземпляров твоего сборника». — «Как?! Мне Комашков сказал, что мою книгу имеет один человек в Крыму, какой-то там писатель». Он, Комашков, просил: «Ты же хоть мне подари». Говорю: «Нет!» И Комашков мне тогда намекнул: «Так знай, у кого она есть». Я уже внутренне согласился — хорошо, что хоть так.
Судебный процесс начался аж в декабре 1968 года. То есть ситуация уже определена: трое — за решетку, еще 25 человек — свидетели. Комашков, я, художник, мой друг и приятель Щербина Борис (сейчас в Вышгороде возглавляет районную организацию КУН), девушки, причастные к литературе, — Надежда Кирьян (она теперь член Союза писателей), Людмила Шереметьева — это жена ученого Ярослава Дашкевича. Мария Овдиенко — сейчас на орбите Общества «Просвита» в Броварах. Петр Йордан — один из нашей группы, уже уехал из Вышгорода. Дырив Богдан и другие. Дело было чрезвычайно нудное для них. К большому сожалению, люди о нем не знают, разве что кроме вышгородцев. Надо будет написать, порывшись в материалах, в схронах, но мне кажется, что туда не так просто прорваться. Пытался это сделать, но недостаточно настойчиво. Хотел бы забрать свой дневник за те два года, который хранит очень много интересных фактов того времени. Но я не знаю, как это сделать...
В.О.: Можете ли вы его забрать из того дела? Дело все-таки не ваше.
А.Д.: Да. И удастся ли мне вырвать тот дневник? Но попробую, потому что хотел бы, чтобы за этой лавиной воспоминаний не пропустить какие-то очень важные моменты нашей жизни, нашей молодости. Многое, конечно, у меня уже зафиксировано, но это одно дело, а другое дело — когда оно еще будет зафиксировано и у вас.
Скажем, о Василии Стусе у меня сложилось впечатление еще тогда, что не случайно он дантова профиля. Это человек невероятной твердости. Впоследствии я узнал из рассказов, какой он себе позволил жест еще в Донецке на собрании студентов вскоре после прочтения выступления Хрущева на XX съезде. Это документ большой силы, он очень повлиял на нас. Так вот Василий Стус вскоре на каком-то собрании сказал прямо об ужасной русификации в Украине.
Когда происходил этот киево-вышгородский процесс, хоть кошки на душе скребут, но не хотелось прогибаться и выдать на-гора то, что им наиболее нужно. Вижу, не пускают в зал заседаний суда — кто-то там прорывается, кто-то отходит, а Василий пришел и спрашивает: «Началось?» Говорю: «Да». Он ходит нервно из угла в угол. Пробую что-то говорить ему — не получается диалог. Помню лишь его резковатые слова: «Ты только поменьше говори. Ты только поменьше говори». В таких чрезвычайно острых ситуациях некоторые слова или истины воспринимаются на все 1000% — не на 100, а на 1000%. Считаю, что мои ребята слишком много сказали. Если бы люди были более грамотными, если бы кто-то подсказал, то было бы совсем иначе не только в этом нашем деле, но и во всеукраинском деле. Что ж — опыт приходит только с практикой.
В.О.: Нас же никто не учил, как вести себя на следствии.
А.Д.: Да, да. Наверное, заслуга шестидесятников заключается в том, что мы начали с колыбели свое политическое сопротивление. В одном произведении пишу, что «я преступник, потому что украинец, я контрреволюционер с колыбели». Подобное не удалось бы совершить нам, если бы, не дай Бог, у нас было мировоззрение творческой молодежи 80-90-х.
Процесс состоялся, прогремела гроза. Приближался 1972 год — апогей нового погрома, того украинского возрождения, которое началось с 1956 года, во время «холодной войны». 16-й год. Мы в Вышгороде на себе ощутили этот погром, разгром. Нас разбросало по всей Украине. Начались годы застоя, болотные годы. Но все-таки мы что-то потихоньку делали — каждый работал, писал. В частности, Комашков, с которым я встречался время от времени. Он, правда, крутился по всей империи аж до Сахалина, где-то работал, зарабатывал. Но писал. Иногда читал мне свои сатирические вещи. Сейчас его дочь и некоторые культурные деятели хотят издать его наследие. Стоило бы издать. Он не очень серьезно смотрел на свое литературное творчество. А литература требует огромного труда. То, что он написал, надо было бы издать, чтобы оно вошло в многотомную историю украинского диссидентства. (Издано: Владимир Комашков. Вышгород. Избранные произведения / ОО «Музей шестидесятничества»; Составление О. Роговенко, В. Чорновил; худ.-оформитель Г. Севрук. — Харьков: Фолио, 2004. — 176 с.)
В.О.: Вы знаете, Николай Плахотнюк как-то организовал вечер, посвященный Комашкову. К сожалению, я там не был, но говорят, что был очень хороший вечер.
А.Д.: Эту тему и вы поднимали, пан Василий, когда писали о конце шестидесятников. (В упомянутой книге А. Русначенко, на с. 543-550. Это «школярский» текст. Разве что название хорошее. Да и не вычитан он. Не мог я написать «шестидесятники». Только «шістдесятники». И дата: 1973 год, а не 1987! — В.О.). Это действительно был конец определенного этапа политического движения, когда все было накрыто мокрым рядном... Я думаю, что опыт, который мы приобрели в годы «оттепели» — правильно говорил Вячеслав Максимович, и вы так думаете, пан Василий, — он пригодился в общественно-политической жизни конца 80-х — начала 90-х годов, во времена украинских освободительных состязаний. Без шестидесятничества мы вряд ли имели бы отвагу сделать то, что мы сделали во многих городах и селах Украины в 90-х годах.
В.О.: Да, это был тот фермент, та «мельчайшая щепотка — лишь для молитв и всечеканья», о которой писал Василий Стус.
А мне интересно, как обошлись с вами, свидетелями по тому делу — подверглись ли вы каким-либо репрессиям? Как правило, свидетелей тоже они гоняли, как сидоровых коз.
А.Д.: Безусловно, пан Василий. Во-первых, я отбыл 25 лет учительской солдатчины в школе. Мне там было совсем невесело, даже когда директором школы была моя жена. Действовать было очень трудно, просто почти невозможно. Я на 15 лет был абсолютно выбит из литературного процесса. Не мог издать книгу 15 лет. Путь в литературу был пе-ре-крыт — по замыслам тех, у кого лица заканчиваются пятачками.
В те годы изучал революционный опыт некоторых народов, которые освобождались. Как освобождалась Италия из-под австрийского ига или Греция из-под турецкого. Понимал, что есть закономерности движения, которые творят украинскую революцию, через которые нельзя перепрыгнуть. Скажем, клонирование политических партий — это не наше изобретение. Было сто партий в Грузии, было сто партий в Румынии. В этом больше минусов, но здесь есть и плюсы. Мы не можем это перепрыгнуть, это надо воспринимать с умом и не драть до крови грудь...
В.О.: В Польше было 240 партий.
А.Д.: Да, это объективный процесс. Это надо воспринимать на уровне интеллекта, а не на уровне эмоций, потому что дай сердцу волю — заведет в неволю.
Во все те годы я пытался что-то делать, но дальше районного уровня выйти не удавалось.
В.О.: Вы с 1964-го и дальше работали на строительстве?
А.Д.: Нет, я поработал арматурщиком один месяц, второй, третий. А тут в Вышгороде начала организовываться школа рабочей молодежи. Зашел к директору. Он спросил, какая у меня специальность. Сказал, что украинский и немецкий язык. Директор: «Хорошо, но меня интересует, как вы можете работать среди рабочих и сможете ли набрать себе людей». Говорю: «Попробую!» И вот мы там начали набирать. Это еще с 1964 года. В школе рабочей молодежи я работал три вечера в неделю, а остальное время я был, по сути, неконтролируемый.
В.О.: Ага, вольный казак?
[Конец кассеты 1]
В.О.: Кассета вторая. Рассказывает пан Александр Дробаха, а записывает Василий Овсиенко. У нас сегодня 20 июля 2000 года.
А.Д.: И вот настали самые темные годы XX века — 70-80-е годы. Душу отводил в библиотеках, воспитывал своих детей и учил рабочих. Пробовал что-то сдвинуть с мертвой точки в общественной жизни, но это давалось очень тяжело. Скажем, я организовал литературную студию при районной газете, но это уже была далеко не та вольница, которая была в шестидесятые годы.
Пробовал работать в легальной структуре. Было такое Общество охраны памятников истории и культуры. Тут не без трений был одним из организаторов районного Общества, но меня поддерживало областное Общество, где был ответственным секретарем Остап Адамович Пасика — чудесный человек, патриот. Он недавно ушел, Царство ему Небесное. Он был просветом в моей жизни в те годы — он и журналист, и резчик, один из основателей УТОПИК. Он врезал свое имя в историю Украины, особенно в последние годы. Остап Пасика довольно известный человек. Он меня поддерживал, и я некоторое время, кажется, с 1976 года, работал лектором в Киевском обществе охраны памятников истории и культуры, ездил по всей Киевщине.
У меня было две лекции. Одна — легальная, а вторая — подпольная. Одна — «Марксистско-ленинская политика охраны памятников истории и культуры», а вторая — «Культура Киевской Руси». Иногда я делал из них симбиоз. Называл лекцию так, а начинал говорить с Киевской Руси. Два раза это не сработало, полетели какие-то «доносы» из провинции. Пасика только разводил руками: «Я тебя должен выгнать с работы». Он меня на год официально «увольнял» с работы. Кто-то фиксировал: очень много говорилось на лекции об истории, а не об охране памятников, которая началась в 1917 году. Бывали всякие там гротескные, цирковые моменты... Иногда попадал (в Богуславе или в Яготине, например) к нашим людям, которым многое мог сказать, и люди принимали меня с широкой украинской душой и пониманием. Правда, не позволял себе таких ультрареволюционных вещей, но о Грушевском, о Похилевиче, Костомарове, об исследованиях трипольской культуры, об украинском рушнике, который был длиной в несколько тысячелетий, — в те годы можно было немного рассказать. Тогда действовал Иван Гончар, мы с ним общались. И хотя на него была атака за атакой, но он делал доброе дело, закладывал фундамент мировоззрения тех людей, которые пришли в Общество.
Тогда же и Тронько работал, издавали 26 томов «Истории городов и сел Украины». О них сейчас, с нашей высоты, можно говорить по-всякому, но тогда они определенную роль мотора интереса к краеведению, родной земле сыграли. Тут надо отдать должное «птенцам гнезда Шелестова», они немножко раскрутили Коммунистическую партию Украины, приблизили к нашей Украине.
Тяжело было работать — был закрыт доступ к архивам. Несколько раз пробовал попасть в партийный архив — но беспартийному и без рекомендаций туда нельзя было прорваться. Так что многие оставались на капитальном маргинесе науки.
Такая вот жизнь была. Она не замерла, чем-то питалась, и я кое-что написал в те годы, даст Бог, издам что-то из тех своих «заголенищных» стихов, когда мы бежали через мостик и ухватили кленовый украинский листок.
Сработало в 1988 году, когда мы начали борьбу за Украину. Было шесть русскоязычных детсадов в Вышгороде и две русскоязычные средние школы, а уже через год-два все садики были украиноязычными. Это уже была конкретная работа.
Что касается Руха, Украинской Республиканской партии, Конгресса украинских националистов, Конгресса украинской интеллигенции — к этим организациям я был причастен, в некоторых организациях был инициатором, «скрымтемным» председателем, но об этом мы поговорим, возможно, в другой раз, потому что это новая страница украинского освободительного движения.
В.О.: Но все-таки я хотел бы, чтобы вы сейчас хотя бы обозначили важнейшие вехи своей жизни после 1972 года доныне.
А.Д.: Школа рабочей молодежи с 1964 года по 1991 год, когда меня избрали заместителем председателя Киевской областной организации УРП. 26 лет с лишним работал в этой школе, которая имела разные модификации — то она была заочной, то вечерней, то школой работающей молодежи. Потом ее ликвидировали и перевели нас в дневную школу. Было уже совсем мало людей, так что я немного поработал в дневной школе. Но все эти годы усиленно работал над своим внутренним образованием, над своим «я», над своим совершенствованием на завтра, на будущую школу. Уже говорил, что развернуться тогда было абсолютно невозможно. Культурническая работа на уровне айсберга: лишь то, что сверху виднелось.
Моя книга стихов вышла аж через 15 лет, «Твердыня весны», издательство «Молодь», 1983 года. Это 1/5 или 1/10 из того наследия, что имел из поэзии, а из прозы туда ничего нельзя было втиснуть. И то преимущественно лирические стихи. Так их проработали, что сейчас ее реставрировал. Должен реставрировать, потому что «паровозов» там не было. Разве что «паровозик», там о субботнике. Редакторы так работали, что это цирк. В русской поэзии бытовала такая фраза «скрымтемним» — ее можно расшифровать как «скрыто темнить», писать эзоповым языком. Кое-что удавалось, но беспощадное око цербера забиралось и на глубину. «Твердыня весны» — это Украина. Так я для себя мыслил это название. Там несколько стихотворений, которые косвенно работают на эту тему. Например, в стихотворении «Твердыня весны», которое заканчивается тем, что весна — это наша Отчизна. «Отчизна, вся весенняя — Ты» — так оно заканчивается. Должен был писать вместо «Украина» — «Отчизна». А Отчизна — это очень широко. Сейчас я хочу издать книгу «Украинская весна», там треть или, может, две трети — стихи, написанные до 1989 года, начиная с 1964-го, где видна подспудная работа. Поэзия, как вера, держала, была якорем спасения, чтобы дьяволу душу не продать, потому что удержаться тогда было очень тяжело.
В.О.: После книги «Твердыня весны» были еще? Назовите их, пожалуйста.
А.Д.: Да, потом я издал книгу, которая уже более-менее меня удовлетворяет, и не стыдно мне за стихи, которые там напечатаны, — это «Вышгород сердца» («Украинский писатель», 1987 год). Это уже «оттепель», там много таких стихов, которые попадут в «Избранное», если мне удастся с Божьей помощью издать когда-нибудь то избранное. В эти же годы, 1984 года, я параллельно отдал книгу в «Молодь», которую назвал «Книга перемен». Более оригинальные стихи я дал в «Вышгород сердца», а сюда некоторые с политическими намеками, потому что почувствовал, что после 1985 года глиняные ноги империи начинают оседать, будет какой-то процесс, раз они решились на перемены. Могу для примера прочитать стихотворение 1985 года. Оно очень короткое:
Бриз благодатний перебудови.
А Києві гине мова.
У Києві хвороба,
Українофобія,
Україножери -
Тут революціонери.
Это 1985 год. Стихи в основном очень короткие, вообще тяготею к лаконичной поэзии, потому что надо показывать, а не говорить и рассказывать — пусть ученые рассказывают.
И вот настала, считаю, лучшая, самая счастливая пора моей жизни — 1989 год. Когда она закончится, не знаю. Хотелось бы, чтобы быстрее. Потому что мы допустили досадные промахи во время украинской освободительной борьбы. Это, во-первых, промах 1991 года, который заключается в том, что мы вместо Акта о независимости 24 августа 1991 года должны были принять Акт о восстановлении украинской государственности 1918–1920-х годов. Думаю, тут вы со мной согласны. Во-вторых — несправедливая приватизация. Третье — что мы не добились закона о политических партиях, из-за чего имеем карикатурную политическую жизнь. Мы этого не могли понять, к сожалению, в 1989, в 1991 году — только теперь поняли.
Мы начали и вышли на финишную прямую нашей самостоятельности, независимости и государственности, вышли с чрезвычайно большим подъемом. Видел в Вышгороде и на Киевщине. Это было на моих глазах. Ведь был инициатором многих мероприятий, брал на себя ответственность. В своей книге «Вышгород семи ветров» пытался воссоздать эти события, потому что как не вспомнить людей, которые работали на энтузиазме 10 лет, настоящих патриотов, которых власть сейчас не видит? Особенно память надо раскрутить в 2001 году, когда будет 10 лет Независимости. Мы должны помочь власти понять, кто двигал украинскую революцию, кто сидел в окопах — говорю о Киевщине, о Вышгородском районе. В моих списках до сотни людей, которые работали на энтузиазме, жертвенно. Забыть их, не вспомнить — будет большой грех.
Мы начали, как я уже сказал, с якобы чисто культурнических и просветительских вещей, но для украинцев — это тоже политика: детские сады, школы в Вышгороде. До политических организаций было Общество украинского языка имени Тараса Шевченко. Это была не только просветительская и культурническая организация. С первых шагов считали ее политической организацией. ТУМ создали в Вышгороде 4 февраля 1989 года, я был председателем. Наша организация была зафиксирована у Павлычко как двадцатая во всей Украине.
Мы начали брать быка за рога — имею в виду райком партии. Взяли на вооружение Тараса Шевченко. Во всем объеме его жизни и творчества. 9 марта 1989 года организовали в Вышгороде первое большое и настоящее празднование Тараса Шевченко, на полную мощность. Это была моя инициатива, я вел этот вечер. Мы попытались найти общий язык с райкомом партии, а они сказали: «Только без политики». Хорошо, сказал я, будет без политики. Ну, те же ребята понимают политику, когда между глаз тычешь фамилиями или их плохими делами. Вы же сами понимаете, пан Василий, что такое Шевченко, когда он заговорит в полный голос. В зале было где-то 450 человек — впервые. Мы провели чрезвычайно высокого уровня разговор о поэзии, об Украине, о Шевченко и куда нам и к какой Украине идти. Задействовано было очень много людей.
Тогда — не в 1989, а в 1990 году — уже начала работать наша символика, хотя и не без сопротивления райкома. Нам не ставилось требование, чтобы только без политики. Это было только в первый год. Позже райкомовцы прибегли к чрезвычайным трюкам. Дмытро Васильевич Павлычко схватился за голову в восторге или от отчаяния, когда я ему сказал, что они пытаются торпедировать нашу работу тем, что весь райком партии вступил в Общество украинского языка. Он говорит: «Такого в Украине еще не было!» Говорю: «Да».
В.О.: А в концлагерях такое было! Там есть СВП, «совет внутреннего порядка», то есть суки, которые помогают администрации. Туда заключенных агитируют индивидуально. Конечно же, порядочный человек туда не идет. А Чорновил (он был очень остроумный человек!) в шутку предложил диссидентам: «Давайте все туда вступим и наведем там порядок». И им администрация отказала! Каждому индивидуально, что, мол, вы еще «не встали на путь исправления».
А.Д.: На такой жест способен действительно талантливый человек. Такой «трюк» выкидывал нередко Наполеон. Вот пример. Иногда нужно, чтобы политотделы и газеты долго работали на какую-то идею, а талантливый человек придумает за миг. Солдат с карабином заснул на передовых позициях. По закону военного времени — расстрел. А Наполеон Бонапарт взял карабин и достоял вахту карабинера-гвардейца до конца. А карабинера приказал отнести в казарму, чтобы он там отоспался. Когда он возвращался с передовых позиций в расположение войск, все войско кричало: «Вива император! Вива Наполеон!» Так я говорю, что нам таких «трюков» всегда не хватает, но это потому, что не хватает талантливых людей.
Когда мы начали с Тараса Шевченко, то у нас таких номеров было немало. О некоторых я уже упоминал, а о некоторых я упомяну позже, чтобы немного вас заинтриговать. Возможно, мы когда-нибудь запишем такие вещи, потому что это целая эпопея.
В следующем, 1990 году, я задумал устроить 9 марта так, как мы делали раньше, но уже с нашим флагом. Были некоторые терзания, выставлять его или нет. Все-таки закрепили небольшой сине-желтый флаг. Шевченко весь в могучей осанке. Сценарий. Думаю так: давайте, ребята, предложим выступить представителям всех политических партий. Уже был Рух, был ТУМ. И компартия. Были почки «зеленых». Интересно, что будет говорить первый секретарь райкома партии? От Руха говорил я, от Общества украинского языка Комашков, от «зеленых» — тоже наш человек. Когда я предоставил слово компартии, то вышел первый секретарь райкома Александр Чередниченко и говорит: «Уважаемые товарищи! Поздравляю вас с женским праздником!» В зале — немая сцена! Но что его сбило с толку? Приглашая его, я намеренно сказал: «Слово имеет уважаемый добрый пан Чередниченко — первый секретарь райкома партии». А он идет и выкрикивает: «Я не добрый пан! Я не добрый пан!»
В.О.: А кто — злодей?
А.Д.: Так из зала и кричат: «Злодей! Злодей!» — и с того конца, и с этого. Такой хохот в зале поднялся... Это был невероятный трюк, я не ожидал и не надеялся на такой эффект. Он вышел — то красный, то белый... Начал говорить: «Я вас поздравляю с 8 Марта!». У него заговорило вчерашним, потому что он был сбит с толку. Он еле оправился. Мне едва удалось успокоить зал. Я не очень хотел успокаивать людей, само собой разумеется, и сделал большую паузу. Что-то он там мекал и бекал. А потом в заключение мы начали петь «Боже великий, єдиний, нам Україну храни!» А райкомовцы — не встают.
В.О.: Не встают?
А.Д.: Не встают. На них снова из зала люди начали кричать. Они медленно, медленно, но поднялись на минуточку. Сработал инструмент зала. Пели они или нет, но они увидели, что люди — это сила. И это благодаря нашим умелым действиям, благодаря Тарасу Григорьевичу Шевченко. Он с нами был в окопах. Если нам пришивать какие-то ярлыки — то надо пришивать и Тарасу Григорьевичу Шевченко, что он сякой-такой, националист и контрреволюционер. А этого они уже себе не могли позволить, потому что это уже себя абсолютно скомпрометировать.
В следующем году, в 1991-м, я предложил ребятам написать на сцене такие слова: «Когда же мы дождемся Вашингтона с новым и праведным законом? А дождемся таки когда-нибудь!» И не подписали, что это слова Тараса Шевченко. Перед началом праздника райкомовцы забегали, засуетились и ко мне: «Что вы пишете такие вещи о Вашингтоне — кого вы тут вспоминаете? Мы Шевченко собираемся праздновать». И снова не мы, а люди, учителя им сказали, что это из поэмы Шевченко «Юродивый». Они не поверили! Они пришли к нам, и снова такое закрутилось... Да это из поэмы «Юродивый», слова Шевченко, люди добрые! Тогда они немного успокоились. Мы выкидывали на передовую даже такие «термоядерные» слова Тараса Григорьевича Шевченко.
Когда мы разрабатывали сценарий, то взвешивали, на каких строках акцентировать, что выбросить — это тоже целая эпопея. Ведь я возглавлял оргкомитет, меня перебить или убедить — это же просто невозможно. Чтобы вместо поэмы «Еретик» или «Кавказ» читать «Тополю»... Тут они проигрывали. «Кавказ» — единственное ныне самое правдивое произведение о кавказских событиях того времени. Потому что кавказские народы до сих пор защищаются от России. Начались инсинуации против меня, что я, мол, против Пушкина. Они бросили в атаку учителей, которые могли бы мне что-то забросить и пластинку перевернуть. Так я говорю: «Да Пушкин прославлял царизм — так можно ли его сравнивать с Шевченко?». Приструнили мы тех «интеллигентов».
Даже во время независимости у нас идет вечная полемика между газеткой «Слово» (бывшее «Свет Ильича») и нашей газетой «Вышгород» (городского совета). А редактор «Слова» Линовицкий — это человек все-таки вечно красный. Пробовали его воспитывать, «на ковер» вызывали, чтобы обращал внимание на изменения в жизни — ничего. Районная власть сотрудничает с ним и считает, что он проводит идеологическую линию власти. Царапают грудь до крови, клянутся Президенту, что они его поддерживают — а на самом деле поддерживают тех красных баронов, которые руководят, а не представители Президента. Президент с ними ничего не может сделать. Или не имеет желания?!
В.О.: Вы сказали, что в 1991 стали заместителем председателя областной организации УРП. Вы и до сих пор в УРП?
А.Д.: Когда в 1994 году создали Киевскую областную организацию, то избрали другого человека. А я вернулся в свою районную организацию, до сих пор председатель районной организации и стараюсь держать руку на политическом пульсе. У нас есть Рух, Конгресс украинских националистов, есть Украинская республиканская партия, но на уровне района мы часто делаем одну работу. И пока кто-то сверху не внесет в эту работу какую-то веху, которая все взбудоражит, мы работаем вместе.
В.О.: Вы еще где-то работаете, кроме партии?
А.Д.: Да, я немного подрабатываю. Официально я уже пенсионер — чернобыльский. На 5 лет раньше... Но приходится крутиться, пан Василий, и там, и там. Немного дети помогают.
В.О.: Вы упомянули, что женились в 1970 году. Назовите, пожалуйста, имя жены, фамилию. И детей назовите поименно.
А.Д.: Лариса Павловна — моя жена. Ее девичья фамилия Панасюк. У нас трое детей. Но это еще не все. Когда я женился, у нее было двое детей. И наших трое — Ярослава, Галина и Тарас. 1970-го, 1972-го и 1973 года рождения.
В.О.: И еще: назовите свой почтовый адрес и телефон.
А.Д.: Вышгород, Киевская область, улица Днепровская, дом 3, квартира 59, код 07300. Телефон 8-(296)-5-42-44.
В.О.: Пан Александр, не хотели бы вы рассказать что-то более конкретное о людях, с которыми вы сотрудничали и подверглись определенным репрессиям?
А.Д.: Я уже немного говорил о них. Хотел бы сказать о тех людях, которые работали в украинском освободительном движении с 60-х годов и продолжили эту работу с 1989 года и по сегодняшний день. Но надо сначала сказать о тех ребятах, с которыми мы общались и работали в 60-е годы.
Я только мимоходом упомянул Богдана Дырива — рабочего, интеллигента, он родом был из Ивано-Франковской области. Сейчас он живет в Киеве. Он еще с тех лет был предан интересам Украины, украинской государственности, украинской идее. Я с ним очень много общался, бывал в странствиях. Когда кому-то из нашей группы надо было помочь материально, то он оказывался тем человеком, на которого всегда можно было положиться. Думаю, что он до сих пор остается на этих же позициях. Правда, наши дороги немного разошлись из-за того, что он уехал в Киев. Но мы все эти годы время от времени видимся на митингах, на демонстрациях, хотя все реже.
Вспоминал об Александре Назаренко. С ним мы больше всего общались, даже жили в одной комнате общежития, были приятелями и друзьями. Родом он из Донбасса. В нем украинский характер и украинская нация проснулись, так сказать, уже здесь, в Вышгороде. Возможно, под влиянием тех людей, с которыми мы общались: Свитлычного, Чорновола, Бориса Антоненко-Давидовича и других людей, которые были ферментом того времени. Он стал на путь борьбы. Сделал что мог в те годы. И поплатился за это морально и пятью годами неволи. Хотя, если говорить откровенно, тюрьмы можно было бы избежать. Но это тема другого разговора.
О Василии Кондрюкове могу сказать наиболее позитивно. Василий выделялся тем, что у него Украина была на переднем плане, а «я» всегда было на каком-то там N-м плане. Имел черту, которая должна быть присуща человеку, который становится на опасный путь борьбы со всемогущей империей. Был немногословен, что он делал — об этом мало кто знал. Мы были знакомы, но не общались. Это теперь он мне рассказал, какие дела делал. Он и теперь неравнодушен к политическим делам, даже вступил в Украинскую республиканскую партию, в нашу Вышгородскую районную организацию, председателем которой я являюсь уже десять лет. Приглашаю на митинги, на праздничные торжества ко Дню независимости в Вышгороде. Когда я говорил людям, что вот это тот живой человек, который «сидел в окопах», который пострадал, то люди воспринимали это с пониманием. Василию это не очень нравилось с его суперскромностью. Но это его плюс. Знаете, сколько у нас таких людей, которые сделали на копейку, а шума — целые цистерны.
Валентин Карпенко — один из тех, кто занимался конкретным делом, а не словом, не только агитацией. О нем я тоже скажу доброе слово. Он душевный человек, склонен к искусству, к литературе, как Кондрюков и Назаренко. Украинские художники, поэты, деятели сыграли большую роль в формировании их характеров. Валентин Карпенко, пожалуй, больше всего помогал Назаренко в печатании листовок — технологией, средствами. Они были арестованы не просто так.
Хочу сказать о Владимире Комашкове. Он особенно много сделал для нашего просвещения книгами — они через него шли, — рассказывал об Алле Горской, Иване Свитлычном, Иване Дзюбе, обо всей этой когорте одержимых людей, которые двигали украинское возрождение. С ним всегда было интересно. Если я, скажем, был прикован к письменному столу, как раб к веслу на галере, то Владимир бывал на всех мероприятиях, был со всеми знаком. Для многих нас его слово было очень важно и нужно. Этого не может понять тот, кто не бывал в нашей душной атмосфере тех лет. Комашков во многих случаях был для меня надежной опорой, когда мы создавали Общество украинского языка, потом другие общественные организации, в частности, Народный Рух Украины. Потом он ограничился церковной деятельностью.
Были у нас достижения, были у нас и промахи, потому что были разные люди в наших организациях, даже намеренно засланные, которые давали информацию. Были случаи, что реагировать надо было моментально. Провоцировались стычки, была попытка создать второй Рух — Вышгородский Народный Рух. И делал это человек, который отсидел — Грищук. Он нас обвинял в том, что мы создали Рух официальный, а он создаст Рух подпольный. 5 тысяч человек на митинге — и тут мы преобразовали Общество украинского языка в Рух, а совет Общества украинского языка преобразовали в совет Народного Руха. Это, конечно, был авантюрный трюк, это было мое предложение, но я посоветовался с двумя заместителями и другими ребятами: решимся ли мы это сделать, не провалят ли нас — давайте попробуем. И вот тут приходит этот человек из Вышгородского Народного Руха с запиской и говорит: «Мы не признаем вас. Сейчас пойдем на митинг и скажем, кто вы такие». Представляете, пан Василий, какая была ситуация? Нервы уже сдают. А Грищука «накручивали» некоторые люди, он все-таки авантюрного склада человек. Иван Александрович Грищук говорит: «Я воспитал для Украины Василия Симоненко! Я его воспитывал в Черкассах!» Вот такие вещи он себе позволял. Его «Чапаем» называли в Вышгороде. Хотя он кое-что и сделал, взбунтовал людей в 70-е годы. Но вот тут такой напряженный пик отношений — и что нам делать? Я ему пишу: «Пан Грищук, если вы хотите убедить нас в том, что Вышгородский Рух — это настоящий Рух, а мы нет, то придите к нам и будем советоваться». У нас же совет человек 15, все активисты. Не пришли они. Спрашиваю ребят, что будем делать? Раз они не пришли — это значит, что они струсили, они просто боятся вынести на люди дискуссию, кто «рухливее» — они или мы. Они не решились.
Как-то на экологическом митинге, который мы созвали, они хотели взять верх и вести его. Но нас же до ста человек. Наши люди просто сделали живую цепь, посадили его у «цепи», принесли кресло и сказали: «Можешь выступать». А там же море людей, такие выступления... Вы же знаете первые выступления — было до 5, 6, 10 и 20 ораторов. Уже двадцать два часа, а речи звучат...
Закончилось съездом Народного Руха 8–10 сентября 1989 года. Я сижу дома с парализованной рукой и чуть ли не половиной тела и думаю: ехать — не ехать? Как не поехать на съезд — это же впервые в жизни. Превозмогая свой недуг, я решил, что все-таки поеду. Еле выдерживаю все эти боли, но ведь на твоих глазах творится история!
Я вспомнил такие напряженные моменты. Их было много. Нам надо написать об этом. Пусть это будет первая ласточка. Если бы мы сделали так, как в Швеции или в Норвегии, где каждый район издает свой том. Это не только краеведение. Там зафиксированы великие люди и события. Тогда легко было бы воспитывать детей. Они же сейчас почти ничего не знают о событиях 60-90-х годов...
В.О.: Если мы этого не сделаем, то никто не сделает. Мы должны это делать. Вот мы с вами сейчас это и делаем.
[Конец дорожки]
А.Д.: Кое-что уже печатается. В книге Русначенко о Киево-Вышгородском процессе всего несколько предложений. (Ничего нет. — В.О.) Так какое же может иметь представление Киевщина об этом всем?
В.О.: Вот вы это дело знаете, так, может, и вправду написали бы о нем? Попробуйте добиться доступа к делу. Кто же это сделает, как не вы?
А.Д.: Я надеюсь, что с вашей помощью выйду на людей, которые знают эту технологию.
В.О.: Если они реабилитированы — а все осужденные по 62 статье реабилитированы, — то есть доступ к делу самим осужденным, или же по их разрешению кому-то другому могут предоставить. А если осужденных уже нет, то надо спрашивать разрешения родственников.
А.Д.: Да есть эти ребята. Какая форма этого заявления или письма?
В.О.: Я никогда этим не пользовался, но это надо идти в СБУ. Можно расспросить Сергея Билоконя, Анатолия Русначенко, как это делается.
А.Д.: Я уже работал в архивах — исследовал украинское революционное движение Вышгородщины и Киевщины 1917-22 гг. Знаю, что они там кое-что дают, а кое-что спрятали. Искал атамана Струка — и даже не знал его имени. А ведь это была вторая революционная повстанческая армия Украины по количеству участников после Нестора Ивановича Махно. У того было 30 тысяч, и здесь было порой задействовано не меньше. А мы же ничего не знаем. Разговаривал с дедами, которым по 90 с лишним лет. У меня есть запись разговоров, но одно дело они рассказывают и фамилии называют, а еще лучше, когда проверить это по архивным данным. Вот выхожу на Струка, но не знаю, как его звать. Иду в архив — это уже во время избирательных кампаний, когда мы мотались по Чернобыльскому району. В его родном селе были, Гринев, Чернобыльский район. Мне предложили в архиве дела 15 Струков. А атамана Струка среди них нет, потому что это дело в архиве СБУ. Они, наверное, дали маху: из 15 Струков было одно дело его родственника, двоюродного брата. Он вспоминает атамана Струка. Таким образом мне удалось почувствовать весь тот размах украинского освободительного движения на Полесье. Это было действительно мощное движение, очень много людей действовало, много дел они сделали. Киев брали несколько раз. Нестор Иванович не решился на такое.
Это было видно из тех конкретных материалов по Вышгородщине, которые исследовал. Родственники людей, с которыми говорил, были репрессированы за участие в этой борьбе. Они об этом говорили. Что мы знаем о Галичине, о Киевщине, об УПА на Киевщине 1943-56 гг., о последнем бое у Бородянки? Мы же почти ничего не знаем. Надо политическим партиям ставить вопрос, чтобы архивы открывались. Потому что доколе так будет продолжаться?
В.О.: Спасибо, пан Александр. Мы нашу тему вроде бы более-менее исчерпали. Запишем на бумагу, а вы сможете дорабатывать и расширять до бесконечности. Может, это не так скоро будет — но ведь мы с вами еще не старые. Я вам благодарен.
Это был пан Александр Дробаха из Вышгорода, а записывал Василий Овсиенко 20 июля 2000 года в Киеве на улице Петра Сагайдачного, 23.
А.Д.: Только надо, чтобы была не Петра Сагайдачного, а Гетмана Петра Сагайдачного.
В.О.: Пусть будет так.
[Конец записи]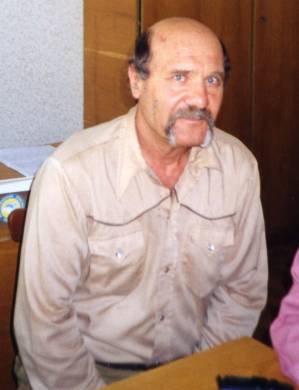
Интервью
Дробаха Александр Иванович. Интервью
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Обратите внимание, что перевод может быть не совсем точным. Оригинальная статья
Из когорты шестидесятников. Учитель, писатель, просветитель, публицист, краевед.
ДРОБАХА АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
Похожие статьи
Интервью. К 90-летию Михайлины Коцюбинской
Интервью. Узник Сиона Натан Вершубский: адвокат Виктор Медведчук подставил меня в 1985-м
Интервью. Интервью Евгения Захарова о роли адвокатов в делах против советских диссидентов
Интервью. «Нас обвиняли в создании террористической группы…»
Интервью. Боцян Иван Семёнович