СТРАНСТВИЯ ЖИЗНИ
Интервью Петра Павловича РАЗУМНОГО
11 и 13 декабря 1998 года, 29 апреля и 25 ноября 2001 года.
С исправлениями П. Разумного.
Опубликовано в журнале «Курьер Кривбасса» в 2006 году, ч. 196, 197 и 198,
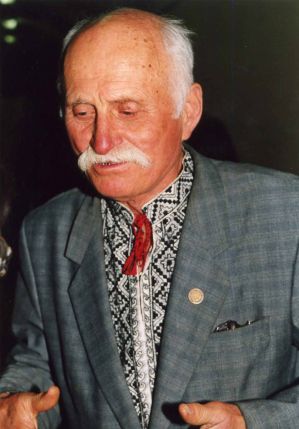
В. В. Овсиенко: 11 декабря 1998 года беседуем с паном Петром Разумным в квартире Василия Овсиенко — Киев, улица Киквидзе, 30, квартира 60.
П. П. Разумный: Я, Разумный Пётр Павлович, 72 года, родился 7 марта 1926 года в селе Чаплинка Магдалиновского района Днепропетровской области. Мои родители в тот же год, когда я родился, переехали по переселению на правый берег Днепра, где были свободные земли, которые не обрабатывались со времён революции. Это были переложные и целинные земли. А переехали потому, что здесь, на новом месте, давали больше земли, по 12 десятин на семью, и на время освобождали от налогов.
Итак, детство моё прошло во вновь созданном селе Пшеничное. Оно было создано и названо так пионерами — переселенцами с левого берега Днепра.
Отец мой, Павел Петрович Разумный, — младший сын в семье, родился в 1898 году. Мать — Денисенко Федора Степановна, родилась в 1896 году. Они поженились в начале 1917 года. Как рассказывала мать: «Идёт революция, а мы женимся».
Я теряюсь, что говорить и в какой последовательности... Попробую продолжить этот рассказ, сосредоточившись на собственных наблюдениях.
ДЕТСТВО. ГОЛОД
Детство моё прошло в широкой степи, где, сколько глазом окинешь, не было ни одного деревца, а только курганы и терновник. Деревья, которые теперь украшают нашу местность, были посажены пионерами и местными жителями.
Когда возникал вопрос, почему родители переселились с обжитых мест на новую землю, мать всегда говорила, что она не хотела переселяться, но отец должен был, потому что он опасался, что может быть подвергнут репрессиям за то, что был участником подпольной организации в 1921-22 годах, которая называлась «Парни в шелюгах». Шелюга — это такая ива, что росла в днепровских долинах. Я потом расспрашивал своего дядю и узнал, что какой-то учитель из Галиции организовал несколько десятков человек, которые оказывали вооружённое сопротивление экспроприации, проводимой большевиками, и прятались в этих шелюгах. Они встречали подводы, гружённые хлебом, разоружали и прогоняли стражу, которая, как правило, убегала, и хлеб возвращался назад. Парни тоже разбегались, а потом снова сбегались, как повстанцы. И мой отец вёл такой двойной образ жизни. Мать, бывало, когда отца уже не стало, говорила, что ей такая жизнь не нравилась, что она угрожала отцу донести властям, если он сам не прекратит. А он сказал ей: «Приду и убью и тебя, и детей твоих, а если не я, то придут другие и убьют». Мне кажется, только это и сдерживало мать. Она часто жаловалась на отца, что вот он такой-сякой, никогда её не слушал. А ведь было уже двое детей — старшая сестра моя Елизавета, 1917 года рождения, и младший брат Иван, ныне покойный, 1919 года. Вот мать и говорила: «Вот у тебя уже дети, а ты куда ходишь и что ты делаешь? Тебя заберут — а я что буду делать?» Но он никогда её не слушал и, наоборот, угрожал. Мать не решилась донести, и таким образом дожили они до 1926 года. А когда представилась возможность переселиться, то переселились, потому что уже начинали вылавливать тех, кто оказывал сопротивление.
На новом месте мои родители обжились. Хотя было шестеро детей, но отец за несколько лет стал самым зажиточным человеком в селе. Он первым организовал нескольких хозяев в артель, приобрели инвентарь, даже молотилку. С группой людей приобрёл двигатель с приводом для молотилки. Итак, отец, тяжело работая, заслужил славу хозяина, который умел распорядиться на земле. За это позже его объявили кулаком, потому что он был самым богатым в селе.
Надо сказать, что мой отец происходил из зажиточной семьи. Мой дед, Пётр Леонтьевич, который умер от голода в 1933 году, имел 50 десятин земли и стал в конце XIX века беднее только потому, что он должен был эту землю разделить между своими старшими сыновьями и остался с маленьким куском земли. Потому что таков был обычай: делить землю между детьми. Поскольку мой отец был младшим сыном, то при нём жил и его отец, а мой дед Пётр Леонтьевич.
Когда началась коллективизация, то — я так себе представляю — некоторые люди знали, что скоро будет коммунизация, и дёшево продавали свой инвентарь. Мужики, которые были организованы и которые не обращали внимания на то, что там будет в будущем, а жили сегодняшним днём и заботились о сегодня, — они просто дёшево скупили этот инвентарь и потому так много его имели. Это мои выводы из того, что я слышал позже. Моя мать не могла мне этого объяснить и, помню, дядя Денис, брат моего отца, тоже не мог этого вопроса объяснить. Они говорили, что всё время существовала угроза коммунизации, о ней говорили постоянно, но хозяева на это не обращали внимания — они просто хозяйствовали, работали на земле, имели свои планы и старались их выполнять. Тот, кто хорошо работал, тот и жил зажиточно, а те, что работали не очень усердно, жили себе как-нибудь на земле, которая зарастала сорняками, а они едва себя прокармливали.
Я вспоминаю, какова была реакция отца на то, что в наш двор приходила бригада большевиков, которые организовывали колхозы. Отец не хотел идти в колхоз. Он был из тех, кто в колхоз не пошёл, а пошёл на каторгу. Однажды — я уже помню этот эпизод — где-то в начале 1932 года пришли забрать коней. Четверо — двое из нашего села, а двое активистов из сельсовета. Секретарь сельсовета с наганами за поясом. Отец сказал, что он не будет отдавать коней. Они спросили, как это он не будет отдавать? Отец сказал: «А вот так!» Взял лопату — и они попятились со двора. Мать к отцу, а он с лопатой на плече обошёл вокруг хаты. И пока он обошёл, активисты сбежали со двора. Больше они за конями не приходили.
Но вскоре они пришли забирать самого отца. 16 ноября 1932 года целая ватага этих разбойников пришла в хату, арестовала отца, отвезла в сельсовет, а потом в соседнее село. Через неделю судили его под предлогом невыполнения хлебосдачи. На самом деле он её выполнил вдвойне, но его осудили на 10 лет заключения. Сослали его на строительство канала «Москва — Волга», где он и умер от истощения. Как свидетельствовали люди из соседних сёл и двое из нашего села, которые тоже были осуждены, выжили и вернулись, отец организовал или принял участие в побеге из того лагеря. Они сначала бежали в леса где-то на север от Москвы, а потом повернули на юг, и тут их схватили. Их по дороге очень били. Они были доставлены назад в лагерь очень истощённые. Отец от того побоя уже не оправился, так и умер от истощения и — как я догадываюсь из рассказов — от гангрены, которая у него образовалась на ноге вследствие тех побоев. Итак, он умер в Пасхальный Чистый Четверг 1933 года. Я посчитал — это, кажется, было 10 апреля.
Мы вскоре узнали, что отец умер, а нас осталось шестеро. Надвигался голод, но нам удалось выжить, потому что отец наш позаботился о нас... Шла тотальная экспроприация зерна, всех пожитков. Забрали у отца и велосипед, что был на ходу, а второй отец закопал в саду разобранным, в специальном ящике. Его тоже нашли и забрали. Отец спрятал три ямы с зерном. Мать знала, где эти тайники. Нас спасло в голод именно это зерно. Если бы не эти три ямы, у нас абсолютно не было бы шансов выжить, потому что всё было забрано. Забирали так тщательно, что даже на чердаке сметали помёт с зерном — это зерно со всяким мусором. Где-то там в кувшине была фасоль — забрали. Где была ещё какая-то горсть чего-то — вымели и позабирали. Но отец сумел спрятать зерно в трёх ямах. Две ямы были во дворе, и они их не нашли, хотя тыкали кругом железными прутьями. А одна яма была в поле. Мать рассказывала, что он применил такой хитрый метод: они тыкали под стенами внутри каждого помещения, а он отступал полтора метра от стены, копал яму и потом трамбовал её. А они посредине не тыкали, не могли догадаться, что яма именно под ногами, а не спрятана под стеной. Говорит, тыкали десятки раз, обтыкали всё помещение — и не нашли. Такая была маленькая хитрость, которая удалась. Так покойный отец помог нам выжить. Ему было уже всё равно, он умер, но нам приходилось очень тяжело.
Нам приходилось прятаться с тем, что мы едим. Потому что село вымирает, умирают люди — а мы не умираем. Активисты именно этим и интересовались. Я помню, как пришла во двор группа этих разбойников во главе с таким Вергуном Игнатом Макаровичем, первым партийцем в селе. Они все стали таким рядком, вызвали мать и допрашивают. Этот Вергун поставил вопрос так: «Где хлеб? Федора, где хлеб?» — «Какой хлеб, дядьку? Я не понимаю, о чём вы говорите». — «Ты мне не ври! Где хлеб? Ты посмотри, — а мы стоим рядом, — ты посмотри: у неё дети все живы, и никто не умирает. Значит, хлеб есть. Где хлеб?» — «Нет никакого хлеба!» — отвечает мать. «Пойдёшь в сельсовет». Повели мать в сельсовет. А это пять километров. Её там держали до вечера, пугали, наганом под носом водили. Она не призналась. Так обошлось, больше её не трогали. А хлеба не находили.
И ещё был один эпизод. Эти разбойники провели, так сказать, эксперимент, чтобы доказать, что мы едим что-то такое, что нас держит на свете. Это, очевидно, зерно, которое где-то спрятано и о котором мать не хочет рассказывать. Один из тех активистов пошёл в нужник и кочерыжкой достал экскременты, в которых видно было не полностью переваренное зерно. Наверное, оно было недостаточно истолчено в ступе, вот в желудке и не разварилось. Принёс на кочерыжке, поднёс матери это наглядное вещественное доказательство. Позвали всех: «Смотрите, они едят пшеницу, вот, посмотрите». И снова мать терроризировали и допрашивали, где хлеб. Так мать в дальнейшем пряталась от них, убегала где-то в кусты, когда они приходили, или в хате где-то пряталась. А мы закрывали двери. Они окна, к счастью, не выламывали, потому что если бы выломали, то обнаружили бы мать и потом снова забрали бы в сельсовет, зачем она закрывает двери. Мы кричали, что матери нет дома, а мы не откроем. Ну, они стёкла вынимали, кричали в вынутое стекло, а окна не выламывали: «Откройте двери!» А мы не открывали. Потому что мать сказала ни за что не открывать. Боялись страшно, но не открывали. Вот таким способом выжили.
Дед мой жил не при нашей семье, а у дяди, то есть у своего сына, Дениса Петровича, который был старше моего отца. Дядя Денис, детей не имея, сбежал от этого насилия. Бросил жену, отца и мать (мать, то есть бабушка моя Лукия, тоже там жила) и не появлялся некоторое время. За это время дед Пётр умер, мы его похоронили. Я эти похороны помню. Умер он в девяносто лет. Он был пожилой человек. Что-то он ел, была у них какая-то еда, они спрятали пшеницу, доставали и ели, но из-за преклонного возраста он не мог выдержать того полуголодного существования. Он не выдержал — умер. Некому было его хоронить. Невестка, то есть жена моего дяди, которая была дома, не хотела хоронить. Так мать моя взялась похоронить его, хоть мы жили в другой хате. Мать позвала нас, старших: меня и старшего брата Михаила, двадцать второго года рождения. У нас была такая ручная тележка на двух колёсах. Завернули деда в какое-то тряпьё, положили также две лопаты на ту тележку, чтобы закопать, и так повезли вдоль села. Людей нет. Не к кому обратиться. Мать говорит: «Может, кого-то попросим, чтобы нам помог похоронить, ведь надо же копать яму». На краю села стоит мужчина у ворот. Мать обращается к нему: «Дядьку, пойдёмте, помогите нам похоронить». — «Никуда я не пойду — я и сам туда посматриваю. Я сам еле живой». Вот мы докатили ту тележку до кладбища, выкопали какую-то такую совсем неглубокую ямку и положили дедовы останки. Закопали сами. Мы это делали полдня, потому что очень мы все ослабли, полдня этим занимались, до вечера. Еле мы это сделали. Так мы похоронили деда, который умер с голоду. Это эпизод из голода.
В некоторых соседних сёлах людоедства не было. А в моём селе было. Это был факт, так сказать, очень резонансный на всю округу: женщина зарезала дочь. А было это так. Дочь была семнадцатого года рождения. Звали её Елизавета. Она была красивая девушка, шестнадцати лет. Она ходила в Кичкас раз в неделю. Кичкас — это сегодняшнее Запорожье. Так тогда называли ту сторону Запорожья. А там строили плотину. Муж этой женщины и три сына, которые были ненамного старше нас, где-то десятого года рождения, — все сбежали из дома и где-то там работали на той плотине. И тем выжили, что там работали, потому что им там давали какую-то небольшую порцию, какую-то еду и что-то в придачу — горсть крупы или ещё что-то. Задача этой Елизаветы была (она единственная дочь была, а то всё братья) принести что-то от братьев себе и матери, чтобы не умереть с голоду. Вот она и ходила пешком в Запорожье — это так напрямик полями километров 45–50. За день дойдёт, за день придёт. Ну, что-то долго её не было, несколько дней. За эти несколько дней мать сошла с ума от голода. И когда дочь пришла с какими-то пожитками, тогда, как догадываются, она набросилась на неё и зарубила топором. Отрубила голову, бросила в колодец и принялась варить мясо из неё. Это мясо сложила в два котла. Как потом стало ясно, она наелась того варёного мяса и тут же умерла. Люди заметили, что она что-то долго не выходит из хаты. Соседи позвали, как говорится, понятых, чтобы не самому заходить в хату. Зашли — она была мертва. Увидели, что это человеческое мясо, все признаки были. Заглянули в колодец — нашли там голову. Один из тех активистов, который перед тем ходил по селу, выметал остатки у каждого хозяина, что умирал от голода, теперь тоже умирал с голоду, потому что ему уже не давали ничего из тех продуктов, нечего было брать. Власть уже им не занималась, он погибал с голоду, и когда увидел это варёное мясо, начал его тут же, на глазах у людей, есть от этого голода. Тут появились представители власти, схватили его как соучастника преступления, но пока довели до сельсовета, он умер.
Это был человек по фамилии Козинка. Я даже помню, как этот Козинка уже как проситель пришёл к нам во двор и просил что-нибудь дать. «А ты же, — говорила ему мать, я это хорошо помню, — а ты же сам вот забирал у людей». — «Забирал, — говорит, — я виноват, но ты же видишь какой я теперь, дай мне что-нибудь». — «Что же я тебе дам? — говорит мать. — Я тебе дам горсточку зерна кукурузы — что тебе с неё?» — «Да дай, а я побью его молотком, сварю и съем». Откуда ни возьмись старшая сестра Елизавета — ей уже было шестнадцать лет, она хорошо помнила, кто ходил и как они выметали и выбирали всё со двора, корову забрали и всё. Старшая сестра говорит: «Не давайте ему ничего — прочь со двора!» И вытолкала его в плечи со двора, того слабого человека, голодного. А вскоре он съел кусок того человеческого мяса и умер.
Вот такие эпизоды из голода я помню. Память, наверное, хорошо работала, потому что это было очень обострённое чувство: что бы его съесть, чтобы не умереть с голоду. Итак, мы пережили очень тяжёлое время.
В. В. Овсиенко: А в какое время года это было?
П. П. Разумный: Это было в 1933 году, начиная с зимы и кончая... Дед умер 10 мая, ещё голод продолжался, потому что в мае ещё нечего есть. Хотя рожь уже выбросила колоски, но активисты ходили ловили, кто колоски брал — страшно били детей, кто колоски собирал. Страшно били детей кнутами. Они на конях были, как вот в кино показывают. А две семьи даже выселили в Коми АССР за то, что рвали колоски — под предлогом. Потому что был план: две семьи из села надо было выслать. Не знали, кого схватить, а тут на тебе: одна женщина нарезала колоски — её хап с двумя детьми и выслали. И один мужчина тоже послал детей за колосками, и его схватили. С женой и детьми выслали. Тогда две семьи выслали. Эти две семьи вернулись все живые из той ссылки. Они оттуда сбежали. Их привезли в Коми АССР и бросили где-то там на пустыре. Они побрели, где-то там в сёлах перебыли, кто-то их там подкормил, и так шли пешком, до Москвы дошли и пришли пешком аж сюда. Уже по более тёплому краю шли. Там были более богатые люди, которые давали им немного еды, потому что это были маленькие дети и женщина.
Вот с зимы 1933 года был голод в селе такой, что люди начали пухнуть и умирать. До урожая, я бы сказал, до июня, потому что в июне уже появилась какая-то растительность, которую уже можно было есть. Из неё делали, как называли у нас, моторженики и липеники. В других сёлах это иначе называлось. Всякая такая смесь травы с чем-то там. Где-то, может, какое-то зёрнышко. Всё это замешивали, пекли и ели. Ели лебеду, цветы акации. Они сладкие. И прочее, что можно было есть. Те эпизоды из голода надо описать. Я немного описал в своей биографии, как просил покойный Зиновий Краковский, но коротко. А таких деталей я не описывал, потому что это не было уместно в автобиографии.
Я хотел бы ещё вспомнить, как именно в голод я начал ходить в школу. Отец нам всегда твердил и мать говорила: «Я не оставлю детей неграмотными. Они все будут грамотные». Отец не осуществил этого, потому что его уничтожили, но он всё-таки помог нам, и мы все действительно стали грамотными. Четверо из нас шестерых получили высшее образование. Брат Иван был офицером в армии, а сестра Елизавета — медицинской сестрой. Все мы учились, имели какую-то специальность — учитель, инженер, так что завещание отца осуществилось без отца.
Мне не было 7 лет, как я начал ходить в школу. Учил нас такой Олесь Потапович Дергачёв, я бы сказал, украинизированный москаль. Из тех москалей, которых в XVIII веке пригнали этапом на Украину для освоения новых земель. Их, как у нас говорили, меняли на собак. «Это те, которых на собак меняли». То ли из литературы, то ли из рассказов это передавалось: «Это из тех, которых на собак меняли». Такое было к ним презрительное отношение. Потому что их часть села очень отличалась от украинской части. Там, где жили кацапы, которых на собак меняли, — там не было возле хаты ни одного фруктового дерева, а росли только случайные деревья: где-то там клён сам посеялся, акация — и голая хата. У них почти так же до сих пор. Правда, они почти все разбежались по городам. Но те, что остались — всё равно возле их хат ну вдруг два дерева фруктовых — больше нет. Там, где украинцы живут, там видно, что они хозяева, они знают, что детям нужно есть не только вишенки, вот и сажают деревья. Этим они отличаются.
Итак, из той когорты был мой первый учитель, который, кстати, до сих пор жив. (Рассказ записан 11 декабря 1998 года. — В. О.). Ему 94 года. Я у него несколько лет назад взял интервью. Я побоялся, точнее, не решился задать ему главный вопрос, хотя он мне частично ответил: не жалеет ли он, что участвовал в экспроприации в селе, помогал тем разбойникам ходить по селу и терроризировать людей?
Как он это делал? Непосредственно сам он не участвовал, скажем, в протыкании железным прутом земли вокруг хаты, в поисках тех ям, где должен был быть хлеб. У него было ружьё, и он ходил следом за этой командой разбойников. Он знал, к кому идут, потому что ходили не ко всем подряд, а выбирали, кто жив, кто имеет, так сказать, вид живого человека, к тому и шли, потому что там должен был быть хлеб, иначе он бы уже умер. Это была основная примета: если живы все дети, то туда надо идти искать, потому что у них есть хлеб. Так этот Дергачёв Олесь Потапович со своим ружьём всегда не доходил метров сто до хаты, где искали хлеб, и там будто разглядывал небо, где ворона летит, и время от времени стрелял: бабах, бабах. И этим напоминал, что они тут церемониться не будут — будут стрелять тех, кто хлеба не отдаёт. Это был его метод. Итак, если эти разбойники, эта ватага искателей зерна при деле, то Дергачёв их сопровождал так на расстоянии, стреляя в воздух, или если собака попадалась — собаку убивал. Убил и нашу собаку, между прочим, во дворе. Это уже был голод, и мать её использовала: мы ту собаку съели.
Что мы ещё ели такое нетрадиционное — я же не сказал, почему мы выжили: ранней весной, на Евдокию, вылезает из норы первый суслик. Старший брат Михаил умел хорошо их ловить. Мы их ловили и ели. Они очень вкусные, я помню. Думаю, что и сейчас их можно было бы есть. Они животные, которые едят траву, зерно. Совершенно чистые, красивые животные, грызуны. И мы ели их. Это было большое событие — когда поймали суслика, то мать варила целый котёл супа или борща, который съедали с большой пользой, потому что это мясо. Это одна из статей, которая дала нам возможность выжить. Ловил сусликов старший брат, а я был только связным. Он поймал — я тогда бегом в хату, приносил. Брат был удачливым ловцом. Ему удавалось их ловить почти каждый день. Было трудно найти нору, где они живут или где вылезают. Это самое главное было — найти, а если найдёт, то уже три дня будет ловить, но поймает его. Это был способ выливания, но трудно было воду носить. У нас их выливали и позже, когда уже не надо было их есть.
ШКОЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
Так вот, я хотел сказать, как нас учитель, Олесь Потапович Дергачёв, учил. Это были первые уроки, как себя вести при советской власти, какие граждане должны вырасти при советской власти. Школа была в хате дядьки, которого выгнали, и он куда-то подался на Кичкас (Запорожье). Первый вопрос был: «Дети, кто знает, кто слышал, что кто-то из родителей, отец или мать, брат или сестра что-нибудь говорили против советской власти?» На этот вопрос никто никогда не отвечал, потому что было непонятно, что значит против советской власти. А он каждый раз спрашивал. Правда, он никогда не расшифровывал детям этот вопрос на примерах, но всегда спрашивал это. Я теперь думаю, что его обязывали этот вопрос задавать. Он всегда был одинаковым, и всегда на него никто ничего не отвечал.
Но второй вопрос, который он задавал, — это: «Кто видел, или может слышал, как кто-то из родителей прятал хлеб?» Молчат. Ну, хлеб — это зерно: пшеница или ячмень, или что-то другое. Поднимает руку такой Миша Мостовой — потом он умер с голоду, все пятеро детей умерли, и отец их умер. «Я хлеба, — говорит, — не видел, а зерно видел, как прятали родители». Рассказал где. Тогда наш учитель, Олесь Потапович Дергачёв, закрывает нас на щеколду: «Сидите, читайте!» И пошёл туда, где зерно прятали. Очевидно, позвали кого-то из сельсовета. Через час-другой видим: едет воз, на возу какие-то мешки. Значит, зерно нашли. И ведут того дядьку за возом. Идёт тот дядька, два вестовых из сельсовета сопровождают его.
Вот такие у нас были ежедневные упражнения на «кто что видел». Второй раз тот же Миша рассказал, как его сосед через дорогу, по фамилии Лляный (или Льняный), прятал в стоге соломы на огороде плуг. Это равнялось зерну — плуг надо было сдать в колхоз. Сам не идёшь в колхоз — а плуг сдай! А он не сдал, а спрятал. Тогда наш Олесь Потапович Дергачёв тоже запер нас и пошёл в сельсовет. Тот плуг на возу везут, а Лляного ведут. Идёт он за возом пешком, за ним идут вооружённые стражники.
Так что рождались павлики морозовы везде.
Я спрашивал в своём интервью Олеся Потаповича: «Почему вы участвовали в этом? Вы могли и не участвовать». — «Не мог я не участвовать». — «Почему? Другие же не участвовали?» Назвал я таких, что не участвовали во всём том, хотя у них забрали всё. — «Ну, что ж, — говорит он, — если бы я не участвовал, то и меня забрали бы». Такой у него был аргумент. «Ну, — говорю, — вас забрали бы или не забрали, но вы поспособствовали тому, что те люди умерли с голоду». — «Ну, такое время было, — и разводит руками. — Потому что если бы, повторяю, я не участвовал в этих походах по селу, то меня бы забрали. Меня бы уничтожили, потому что мой отец был объявлен кулаком».
Но я не осмелился спросить главное, потому что тут пришла его дочь, а она была большая активистка. Она немного младше меня. Была в райкоме, или как это называлось?
В. В. Овсиенко: Райком или райисполком.
П. П. Разумный: Райком — это те, что там служат. Но были нештатные активисты, с десяток человек. Та дочь пришла, глянула косым глазом — потому что она знала о моих настроениях. Я не хотел при ней спрашивать, потому что она могла броситься на меня, такая она неуравновешенная. Так что я не спросил главного: не жалеет ли он о том, что лишал людей материальных средств и полсела вымерло с голоду? Я не спросил этого. Если доживу и если он будет ещё жив, то поеду и спрошу. Должен спросить, потому что это для меня важно.
Это вкратце о моём обучении в младших классах.
Нас переводят в школу в соседнее село, и я впервые увидел, что в соседнем селе вымерло людей больше, чем у нас. Соседнее село называется Крутое — это старое село, не переселенческое, а коренное. Там я увидел хаты, в которых люди вымерли полностью или их выселили.
Кажется, нашему селу ещё повезло, что к нам прислали только одну семью кацапов. Их иначе не называли, только кацапы. Не русскими, не москалями, а кацапами. В хаты, которые опустели от людей, что поумирали, сбежали из села, или их выселили, поселяли кацапов. У нас появилась только одна кацапская семья. Но в соседнее село Крутое, куда я ходил в школу в 3–4 класс, — полсела кацапов наехало. Я впервые увидел их. Такие долговязые какие-то, в лаптях, в каких-то таких ужасных, жалких зипунах. И самое главное — все громко матерились. Я впервые услышал эти непристойные слова, которые идут из уст людей так, будто какое-то благословение. Потому что, я помню, в нашем селе дядьки прежде чем сказать какое-то непристойное слово, оглядывались вокруг, нет ли детей и женщин поблизости. И только тогда выдавливался из себя этот матюк, и таким тихим голосом. А тут я вдруг услышал, что матюк — что-то такое, как вот «добрый день», то есть привычное слово. Мы так на них засматривались и разглядывали их с близкого расстояния, как неизвестных людей, как какое-то неизвестное племя, которое очень кричит, матерится и суетится. Потому что они, я помню, занимались тем, что спиливали и пилили вдоль деревья, даже осокори, которые росли в старых сёлах. Поспиливали их на доски. Они сделали такие специальные приспособления, пилили и страшно громко постоянно и всегда матерились. Их предприятие было во дворе школы, так что мы всё это слышали и на перемене, и перед учёбой, после учёбы. Было довольно интересно видеть этих новоприбывших людей.
В последующие годы, в пятый и другие классы, я ходил в школу ещё в другое село, уже дальше.
В. В. Овсиенко: Как оно называется?
П. П. Разумный: Село Безбородьково. Я туда ходил до конца школы. Ежедневное хождение 5 километров туда, 5 километров назад. Тяжёлое было дело. Мы часто были полуголодные, но выдерживали, потому что хотелось учиться. Я помню, что больше всего, чему я учился в школе, — это перечитывал книги из школьной библиотеки. А было там, как я впоследствии оценил, глядя на уже послевоенные библиотеки, довольно много хороших книг. Я, помню, прочитал Майн Рида на украинском языке, Жюля Верна и Диккенса на украинском языке я читал, хоть я мало что там понимал, только сюжет. Вальтера Скотта, помню, на украинском языке я читал. Эти книги, переведённые с английского, с французского, абсолютно исчезли после войны. Я их в библиотеках уже не видел.
Учился я так себе, посредственно, но не хуже всех, я бы сказал, на четвёрки. Тогда четвёрку обозначало слово «хорошо». Я думаю, на четвёрку учился стабильно. Тогда в табелях была такая графа — «особые наклонности к отдельным дисциплинам». Мне учителя всегда писали: «К украинскому языку». Очевидно, я был просто начитанный. Учителя это знали, а может, это проявлялось в моей речи. Я не помню, чтобы грамматику знал хорошо. Ещё помню, что когда поступил в институт, то быстро ознакомился с украинской грамматикой, и она мне не была трудной. Я восстановил эти знания.
В. В. Овсиенко: Вы когда окончили школу?
П. П. Разумный: Я бы сказал так: я бросил школу в 1941 году.
В. В. Овсиенко: А сколько классов окончили?
П. П. Разумный: Я не окончил 9 классов.
В. В. Овсиенко: Почему?
П. П. Разумный: Потому что я бросил. Я скажу так: дожились мы до такой нищеты, что моя работа должна была быть уже подмогой во дворе — ну, не во что обуться, нечего на себя надеть. Вот старший брат как-то окончил школу с большими трудностями, с большой бедой — педагогический техникум. Его направили на работу куда-то в Магдалиновский район, в районо там что-то делать. Но он не поехал. Я теперь понимаю, почему он не поехал. Я бы сказал, что он в полном смысле слова был без штанов. Абсолютно ободранный, обшарпанный. Ему не в чем было появиться на людях. Так что сговорился с одним своим соучеником, с которым вместе ходил в школу, и они сбежали куда-то на Кавказ.
В. В. Овсиенко: Как имя брата?
П. П. Разумный: Михаил. Теперь покойный уже. Сбежали на Кавказ. Так вот сейчас убегают бездомники. Они видят, что дома надо всё бросить и работать в колхозе. Он этого не хотел. Так он рассказывал позже. Но надо же как-то жить. Подались — кто-то им рассказал, что на Кавказе легко жить. Где-то они странствовали, где-то подрабатывали. Собирали цитрусовые, как он потом рассказывал. Война его застала на Северном Кавказе. А сюда уже немцы пришли. И он с Северного Кавказа в 1942 году осенью пришёл пешком аж до дому. А я уже был в Германии к тому времени.
Итак, я бросил школу в 1941 году. Просто нищета допекла уже до того, что нет сил держаться. Идти в школу и ничего не есть или... штаны по колено, нечего на плечи взять, потому что мать сама не могла нас обеспечить всем этим. Жили с огорода. Платили тогда на трудодни по 300 граммов зерна — если платили. Мать за день не зарабатывала и трудодня, как зарабатывали те, что были на постоянной работе. А такие, как она, зарабатывали, как это называлось, «50 сотых», полтрудодня, а 70 сотых — это уже много. Я сразу пошёл к телятам. Ухаживал за телятами с одной старшей женщиной. То есть больше помогал. Сразу пошли мне трудодни, начали давать на трудодни какое-то зерно. Принесу килограммов пять зерна, толчём, едим кашу. Младшие — брат Степан (1928 года рождения, позже стал инженером на железной дороге), сестра Екатерина (1930 г.р., позже стала врачом) ходили в школу, а я бросил. Как-то я угадал её бросить, потому что война началась в 1941 году, так что уже никто в школу не ходил. А при немцах школу возобновили на один месяц, но потом распустили и не было её во время войны.
То есть я уже стал в семье кормильцем. Это уже было огромное облегчение, потому что я зарабатывал на себя и немного на братьев, на сестёр, а мать на себя зарабатывала, то есть можно было как-то прожить. Легче стало. Я хотел пойти в ремесленное училище, потому что тогда они создавались. Меня не отпустили, потому что пускали тогда тех, кто совсем не учился, а я учился на четвёрки. Таких директор не отпускал. Это было и позже, и после войны такое было, что кто хорошо учился, того никуда не отпускали. А кто плохо учился — иди себе в ремесленное училище! Меня не отпустили. Я был разочарован этим, и это была одна из причин, почему я бросил школу. Я бы сказал так, что мать способствовала этому, а я не возражал.
ВОЙНА
Чутьё не подвело меня, потому что та школа через два месяца закончилась, а на каникулах началась война.
В. В. Овсиенко: Когда к вам пришли немцы?
П. П. Разумный: К нам в августе. Когда началась война, я уже был полноправным работником в семье. Приносил доходы в дом, хотя денег не было — были трудодни. Но я уже живо приспособился к тому, к чему приспособились колхозники: воровать. Если можно украсть — воровал где-то там то или другое, или третье. Словом, учился жить по советским законам. Вижу, что старшие воруют — и я с ними вместе.
Я собрал ватагу ребят, пошли мы в лесополосу играть в войну. Видим через пшеницу, через поле всадник к нам скачет. Конь уже, видно, уставший был, скачет неохотно из соседнего села напрямик, не по дороге, а прямо через пшеницу. Доскакал до нас. Мы были на краю села на дороге. Он, не переводя духа: «Война началась. Война с немцами. Немец напал». И поехал в контору рассказывать. И мы за ним пошли следом. Я ребятам говорю: «Этого не может быть — с немцами у нас есть договор о ненападении». Я уже читал газеты. У нас сосед выписывал и давал мне читать, и мы философствовали: кого там бомбили, где бомбы падали, про Лондон — там уже шла война. В 1939 году Польша была завоёвана. Война уже шла. Сообщали, как бомбили, кто и кого. «Это неправда, — говорю себе. Такой я философ тогда был и политиканствовал уже. — Этого не может быть, потому что был пакт о ненападении». Так его расхвалили, тот пакт, что в каждой газете рисунки, рукопожатия: подписали Молотов, Риббентроп, дружба, договор — всё такое. Дружба была. Пакт о ненападении был. И я не поверил на слово, но когда всадник рассказал мужикам, которые где-то там гуляли, лузгали семечки возле мастерской, потому что это было воскресенье, то я уже начал верить. Потому что мужики уже начали озабоченно об этом говорить между собой: «Война началась. Война началась».
Ну, война началась. Готовятся к эвакуации. Сначала скот. Посылают моего дядю Дениса гнать скот на ту сторону Днепра — это от нас километров тридцать. Там была сооружена паромная переправа, на паром скот загоняли и переправляли. А туда его гнали своим ходом. Мой дядя рассказывал, что скот догнал до Луганска, а там немцы догоняют. Он сбежал от того скота и вернулся назад. Бросил, потому что немцы их там «накрыли».
А тем временем председатель колхоза, который был из соседнего села, присылает ко мне вестового, чтобы я отвёз его, председателя, домой на «бидарке». «Бидарка» называется, двуколка такая. Я его отвёз домой, потому что это уже было позднее время. Я был такой послушный. Всегда что скажут — я сделаю. Надёжный я был работник, старательно делал всё, что мне скажут. Помню, как только вестовой пришёл, я тут же накинул на себя одёжку, взял кнут и почти вместе с вестовым пришёл. Председатель колхоза похвалил меня: «Вот с такими мы Гитлера разобьём!» Тот бедный председатель колхоза поехал в эвакуацию со своей семьёй. Запряг пару хороших коней, лучшую повозку снарядил, но когда выехал на запорожскую плотину, то в этот момент её взорвали, и он исчез там где-то в Днепре. Кое-кто уцелел, потому что взорвали только часть моста — машинное отделение, и именно там он погиб. Его фамилия была Гамзин, председатель колхоза. Так он погиб без войны, без немцев — от своих.
Был такой эпизод, уже с приходом немцев. Скот-то наши погнали, для нас это было незаметно — выгнали и всё. Но когда начали массово гнать скот из других регионов, то вы не можете себе это представить, это трудно описать! Это был сплошной, без перерыва между стадами поток коров, коней, овец. И свиней гнали. Свиньи быстро сбивали ноги, так их загоняли где-то в овраг, где можно было напиться воды, и они там лежали. Люди их воровали. И я в том числе воровал, пока они валяются. Тогда мы начали мясо есть, потому что оно паслось вокруг нашего села. Это сплошной поток скота, который шёл маленьким шагом, и шёл, и шёл, и шёл.
Как раз перед этим потоком, когда он ещё не шёл так массово, меня и одного дядьку посылают с фондовыми конями. Был такой фонд в каждом колхозе, десяток или больше коней, которых для войска кормили, их не имели права запрягать. Это были настоящие кони, красивые. Мы их объезжали, учили, чтобы они хоть не боялись хомута, но их нельзя было ни на какие работы брать. И вот вдруг их решили отвести в Верхнеднепровск — есть на Днепре такой городок — и сдать их в войско, потому что они были предназначены для войска. Мы запрягаем пару коней в гарбу, а гарба — это такая длинная решётчатая повозка для соломы, вы знаете. А у нас гарбы такие большие, каких я нигде больше не видел. У вас на Полесье нет таких повозок. Они едут легко. Ими возят солому и снопы — накладывают полно, да ещё и поднимаются такие два желоба, и она такая три метра в высоту гарба. Пара коней её тянет. Итак, к этой гарбе мы привязали вокруг десятерых коней. Ну, я помощник, а дядя Лука Юрченко коней не боялся, он верхом ездил на тех фондовых конях. Приехали в райцентр Солёное. Нас направляют в Верхнеднепровск. Нам в колхозе не сказали, куда дальше ехать. Дали нам в Солёном по буханке, такие красивые караваи, по полкилограмма топлёного масла — итак, дали нам паёк как таким, что уже будто мобилизованы.
Мы за день приезжаем в Верхнеднепровск. Там уже коновязи готовы, мы привязали, кормим коней, поим — такая наша работа. На второй день нам даже прислали концерт — артисты плясали, пели. А это кони со всего района. Я в своей жизни не видел так много коней, это сотни и сотни. И все кони лучшие — фондовые, специально их кормили, они не запрягались, только для войска.
И вот такой эпизод. Коновязи такие — сто метров, сто метров, сто метров. Полковник со «шпалами», как помню, сухопарый, с ним свита офицеров, какие-то гражданские ходят, осматривают коней. Возле них были ветеринары, в зубы заглядывают — конь дармовой, а ему ещё и в зубы заглядывают! Этот эпизод интересен тем, что было два выступления этого полковника перед нами, потому что за один день он не мог обойти всех коней, оценить их зубы, ноги и всё. Но в первый день он немного обошёл, коней рассмотрел, а потом собирает нас вместе и рассказывает нам: «Мы разобьём немца! Обязательно разобьём, потому что мы применили такую тактику: вот запускаем немцев к себе, тогда окружаем их и уничтожаем. Таким образом фронт продвинулся немного сюда, мол, по эту сторону советской границы, но это потому, что мы их запускаем, чтобы потом уничтожить. Таким образом мы их уничтожим». Некоторые дядьки, которые поверили этой сказке, говорят: «О, так они мудро делают — запускают их, а потом окружают и уничтожают!» Мой дядя не был такой наивный. Был молчалив, он махнул так рукой. А фронт ещё был далеко — немца и близко нет. А помню, самолёты летали прямо над землёй, таким бреющим полётом, вверх не поднимались, потому что вверху их уже немцы видели, а внизу они как-то ещё прятались за ландшафтом, их не было видно.
А на второй день, когда полковник уже осмотрел коней, то сказал так: «Эти кони, что вы привели мне сюда на осмотр, ничего не стоят, они никуда не годятся. Это не кони, а клячи. Забирайте их, ведите домой, кормите, чтобы они были пригодны служить в армии, и чтобы с их помощью мы разбили немцев, которые напали вероломно!»
И мы, эта ватага людей, с которыми были сотни коней, привязываем их к гарбам и едем назад. А когда уже ехали назад, то нельзя было ехать по дороге, потому что по всей дороге шёл скот, включая овец, и чтобы не сбивать ноги, то всё шло помаленьку — кони, коровы и овцы. Мы должны были съезжать с дороги и ехать где-то более чем за сто метров от дороги, чтобы не попадать в этот сплошной поток скота. Долго мы ехали полями. Крутили туда-сюда... Доехали домой, на следующий день я отдыхал, на работу не пошёл, потому что приехал из командировки, и меня не звали. Смотрим мы с младшим братом Степаном — самолёты летят с юго-западного направления. Летят помаленьку, жужжат, как вот мухи осенние, и такие какие-то, как вот у нас У-2, бипланы, с двумя крыльями, неповоротливые. Мы стали спорить, чьи это самолёты, потому что в газетах (а газеты же я читал и показывал младшему брату) были нарисованы самолёты — немецкие, румынские — какие они. Брат запомнил, что такие самолёты-бипланы — румынские. А я не запомнил. Он говорит, что это румынские, а я говорю, что нет, это советские самолёты, у немцев не было такого типа самолётов. Пока мы спорили, вдруг услышали свист — свист, бомбы падают на дорогу там, где вот скот идёт. И эвакуированные люди, которые почему-то через наше село бежали из Винницкой области, из Молдавии, из Николаевской области. Эти шесть самолётов решили разбомбить весь этот сплошной поток скота и людей. А на село ни одна бомба не упала — как-то всё поперёк дороги и под острым углом они падали. На дороге упали, как мы проследили, три бомбы, а остальные упали в поле, где росла суданка. Каждый самолёт только по бомбе бросил — такой был у них порядок.
С того дня движение скота и эвакуированных прекратилось, на дороге никого не было. Скот вообще прекратил движение, разбежался, а те, кто хотел бежать дальше, по дороге ехать уже не решались, а только полями и ночью, а днём сидели где-то там под деревьями, по рощам прятались. А немецкие самолёты летали, хотя они нас не трогали, но наблюдение вели.
Был такой эпизод мародёрства с моей стороны, если говорить сегодняшним языком. Кто-то там сказал, что где-то там в овраге овцы пасутся, которых пастухи бросили. Пошли мы втроём — я, брат мой младший и там ещё один — пошли посмотреть на тех овец, как они себя чувствуют. Поймали по штуке и тянем их так напрямик. Оттащили так уже, к селу приближаемся, когда какой-то шелест слышим. Оглянулись — прямо на нас летит самолёт. Так на нас спускается, уже видна та его рамка, через которую он прицеливается, длинные колёса-шасси. Это самолёт-разведчик, как я потом дал ему определение, он в газетах назывался «рама». И прямо на нас летит. Мы притихли, к земле прижались, а он летел, ну, может, сто метров от земли. Мы не успели испугаться, как он вывернулся, полетел вверх и ушёл. А мы овец не бросили. То есть он разглядел, что там нечего стрелять, и не стрелял. Рассказывают, что немцы стреляли во всё что попало — а этому не стоило стрелять, потому что увидел три овцы и ребят. Он спустился так низко, чтобы хорошо видеть. Такой вот эпизод мародёрства.
Мы наелись мяса и хлеба, потому что урожай уже был собран, заготовок советских уже не было, а пока немцы пришли, мы набрали хлеба по потребности — сколько кто хотел, столько брал. Так много было пшеницы на токах собрано, что её не разобрали. Брали умеренно или я не знаю, по каким признакам — по заработку ли, или что. Люди перестали брать. А когда немцы пришли, то наложили на тот хлеб арест, но это уже не было ни для кого никакой бедой, потому что каждый имел в хате зерна, сколько надо.
Ещё я бы хотел рассказать эпизод, о котором раньше намекнул. Он, может, не очень удачный. Как я стал украинцем, с чего это началось. Я помню, у отца по воскресеньям собирались члены его товарищества со своими жёнами. Бывало их 8–10, они все вместе выпивали бутылку водки, не больше — все десятеро пили, и выпивали бутылку водки. Были очень весёлые, пели и сетовали на то, что забирают хлеб, что всё забирают, потому что Украина всегда была... Помню, один постоянно цитировал: «Украина хлеборобная, немцу хлеб отдала, а сама голодная». Вот на такую тему всегда разговаривали, и это мне запало в голову, что Украина хлеб производит, а немец забирает. Какой немец, где немцы? Но когда уже немцы шли, то я думал, что это, наверное, те немцы, что вот сейчас идут.
По какому-то поводу пошли мы как-то в поле — дядьки, по-моему, решили посмотреть, как там пшеница собрана или как снопы лежат. Тогда снопов много было. Молотили немного, а то всё было немолоченое, но в копнах. И насобирали листовок. Один, самый грамотный, пока все собирали, начал громко читать: «Украинцы, жители Кривого Рога! Разбитые большевики, панически убегая, уничтожают плоды вашего труда». Это я восстановил точно или почти точно, у меня где-то это было записано. «Не давайте им делать это!» И рассказывают, как не давать: «Убивайте их, прогоняйте их, помните, что вам оставаться на этой земле, вам надо жить на этой земле и пользоваться её плодами. А без этого вы умрёте голодной смертью. Не давайте выгонять скот, жечь хлеб» и т. д. Вот меня это больше всего поразило: «Украинцы, жители Кривого Рога!» Я оглянулся на этих украинцев — это только на меня такое впечатление произвело, ни на кого больше. С того времени я помню, что мы украинцы, хоть и не жители Кривого Рога, но что-то такое особенное. Вот так.
Но вот немцы заняли Днепропетровск и приезжают в наше село на отдых. Это полное село автомобилей. А село наше было очень в деревьях — деревья возле каждого двора, и лесополоса вокруг села. В нашем селе можно было спрятаться — это был единственный способ маскироваться от самолётов. Могла бы, наверное, и дивизия спрятаться. В селе было автомобилей со 150. Были автомобили, а вооружения тяжёлого не было, только автоматы, пулемёты на некоторых автомобилях, а пушек и другого снаряжения не было, и снарядов я не видел.
Так вот этих отдыхающих немцев — это тоже меня поразило — каждое утро и каждый вечер собирают на сельской площади и они молятся. Их капеллан, как теперь я знаю, перед ними что-то говорит или читает-читает, потом становятся на одно колено, постояли-постояли, встали. Нам было интересно наблюдать. Вот уже мы знали: немцы каждый день дважды молятся.
Об этом уже какое-то понятие было, потому что, помню, мать-отец возили меня на Пасху святить кулич. Это в соседнее село, там был приход. У нас был священник из соседнего села, его жена-попадья была моей крёстной. Так что мой отец верующим был. Этого священника, кстати, активисты убили, и его жену-попадью, то есть мою крёстную мать, убили, ещё и насмеялись над трупами: сложили их так в непристойной позе. А убили так. Была у нас председатель сельсовета Петухова, кацапка из тех, что переселились когда-то из Белоруссии. Их называли «литвины», они на таком языке говорили, как вот белорусы говорят, на каком-то таком полукацапском. Очевидно, это были белорусы, но я это и до сих пор не выяснил. Их называют литвинами, и село называется Сурско-Литовское. Но они на русском языке говорили и сейчас говорят. Эта Петухова была вечно пьяная, пистолет подвязан к кожанке, непристойно материлась, била мужиков вот так ручкой нагана, когда ей что-то не нравилось. Такая была разбойница. Так она вызвала священника и поставила вопрос так, чтобы он прекратил править Службу Божью. Рассказывают, священник отказался, сказал, что будет служить Богу, и закон позволяет ему отправлять Службу Божью, и никто не может запретить. «Я тебя угроблю, поп!» — сказала она, и потом её цитировали. Действительно, в тот вечер пришло трое, убили попа и попадью, поиздевались над ними — и всё, после этого никто никого не искал. Знали, кто убил. Двое из них быстро покончили с собой. Один спился — так пил, что сгорел, а второй повесился. А третий, по фамилии Липка, и после войны ещё был где-то начальником милиции на левом берегу в каком-то районе — это можно выяснить, потому что это известно. Липка фамилия. Тот заслужил аж начальника милиции за такие подвиги. А священник был убит ещё до войны этими террористами.
Я, кажется, что-то начал уже о войне говорить. Так вот немцы приехали отдыхать, и нам было интересно наблюдать за ними. Однажды немец зовёт меня: «Komm! Komm!» Вытаскивает словарик и читает: «Золома». Я не разберу, а второй немец подходит к нему: «Солома». Где солома? Так я показываю где. Поехали, я показал, где солома. Был у нас недостроенный клуб — только стены из глины, и всё. Они настелили соломы и там спали. В хатах они не размещались, а спали все на соломе — тёплое время, дождей не было.
Потом был такой эпизод. Они пошли на молитву, а мы пошли пошарить по их автомобилям, что стояли. Я нашёл такую длинную и прямую саблю — не казацкую, а будённовскую. Я её взял, мы идём, нас целая ватага, и по очереди рубим деревья. Один дядька встретил нас, поругал и сказал немедленно положить назад, потому что нас немцы перестреляют. Я никуда не положил, а на чердак к себе принёс, и даже не знаю, где она, та сабля, делась. Я её тогда не искал, а немцы тоже не искали.
А то ещё раз, помню, немцы меняли — ничего не забирали у нас, но меняли яйца на зажигалки, на камушки к зажигалкам. Так мы должны были принести сколько-то там яиц. Если хочешь иметь зажигалку, то неси сюда яйца. Носили им яйца, меняли.
Колхоз ещё же был, была небольшая свиноферма. Я помню, они первым зарезали и привезли на кухню хряка. Не кабана, а хряка убили, и он пошёл на кухню. Так даже дядьки удивлялись и смеялись, как они хряка едят, потому что дядьки никогда бы не ели, у хряка нет вкусного мяса, а такое какое-то с запахом. Так немцы брали из колхоза, но не у дядек — не было такого, чтобы кто-то у кого-то что-то взял. Говорят, какие-то там немцы были в соседних сёлах, что кур ловили, не хотели ничего, кроме кур. А у нас немцы этим не занимались.
Основная масса немцев уехала из села, осталось немного. Была ремонтная мастерская в селе, где-то там десятка два немцев, которые, очевидно, коммуникации поддерживали, между сёлами прокладывали провод прямо по земле. Это телефонная связь. Они ремонтировали пулемёты в нашем селе. Там было такое место с земляной насыпью, и в ту насыпь они стреляли. Там они какую-то линию рисовали и по той линии стреляли. А мы разевали рты и бегали вокруг них, чтобы посмотреть, как это делается, и нам каждый день предлагали: а ну-ка постреляй — ты постреляй, ты постреляй. Кто только не хотел, тот не стрелял. Нажимать на гашетку и — р-р-р-р — это было так интересно из пулемёта пострелять! Они были такие дружелюбные — никто им ничего не вредил, те коммуникации никто не рвал, и никаких репрессий со стороны немцев я не помню.
Образовалась комендатура в соседнем селе, там где сельсовет, так мы обязаны были из каждого села дежурного туда посылать. И меня посылали, потому что я самый послушный и самый умный иногда. Я там бывал еженедельно при том коменданте. Он посылал с пакетами. Я брал пакет за пазуху и верхом на коне на таком импровизированном седле со стременами ездил выполнять это. Раз в неделю случалось ездить в соседнее село на маслозавод. Была записка, чтобы этому коменданту давали полкилограмма масла в неделю. По этой порции привозили и вручали. Там не было такого, что бери сколько хочешь, а брали ту порцию, которая им полагалась. Я представляю себе, сколько бы советский комендант себе оттяпал.
Помню, зима 1942 года была такая суровая, что тем немцам было страшно тяжело. Это были, очевидно, тыловики, а не те, что на фронте. Одеты они были в свои шинели, и они просто-напросто гибли от того холода. Только что — и в хату. Забегали в первую попавшуюся хату, грелись, жаловались, что «холёдно-холёдно». Холод парализовал их, потому что это было для них неслыханно. А зима была суровая, и очень много снега было.
Помню такой эпизод. У нас завелось, известное дело, сало. Этого ещё без отца не было, чтобы у нас было сало. Я говорил, мы использовали доходы от того скота, который кругом бродил. Пришло два немца в хату зимой 1942 года и показывают свиток грубой, как брезент, материи, хоть она какая-то такая и мягкая, и довольно толстая. И хотят за ту материю сала. Мать посмотрела, выйдет ли из этого что-нибудь, прикинула, что будут штаны, которые она потом мне сшила. Мать открыла такой большой ящик, полный солёного сала. Немцы говорят, что три штуки. Это три четвертины сала. Мать даёт только две. Немцы настаивали на своём, мать не уступала. Пришлось согласиться.
В. В. Овсиенко: Пётр Разумный. Кассета вторая, 11 декабря 1998 года.
П. П. Разумный: Взяли меня на работы, связанные с налаживанием дорог. Дороги были, известное дело, в ненадлежащем состоянии, потому что их разбили во время больших переходов после начала войны. Нас послали на дорогу Днепропетровск — Кривой Рог, чтобы мы там подправляли её, подсыпали щебень, песок нам подвозили. Мы этим занимались, правда, на своём содержании, немцы нам только привозили воду и руководили этими делами, а мы харчи брали из дому. Работали посильно, никто не пытался норму нам дать или требовать, чтобы мы делали обязательно сколько-то там — просто так помалу работали без всякого насилия над нами, работа шла помаленьку.
Кажется, тогда я впервые почувствовал, как я одинок на свете. Помню, залез я в камыши над речкой, и стало так на душе грустно. Я подумал, что я в мире один со своими проблемами, как сегодня говорят, и что мне никакая сила не поможет — только сам себе. Какая-то грусть на душе. Помню тот эпизод как ощущение новой жизни, которая уже мне настала, потому что я уже подрос, подросток — 15-16 лет уже мне. Я почувствовал какую-то такую ответственность перед будущим и было ощущение, что я один, один... Страх перед будущим... Я бы назвал это, что так я в себе проснулся, но это ненадолго.
OSTARBEITER
Нас вдруг отпускают по домам, и отпускают, как потом оказалось, для того, чтобы потом мобилизовать в Германию. На каждое село было назначено определённое количество людей, их надо было выделить. Выделяли сами, выделял староста в совете с другими. Я бы сказал так, что выделяли справедливо: принимали во внимание, сколько детей в семье, принимали во внимание, сколько парней, сколько девушек, потому что это было важно, сколько парней, сколько девушек. Позже брали подряд, но в 1942 году ещё, можно сказать, считали и комбинировали. Итак, было назначено на село четыре парня и две девушки взять, и жребий — это не был жребий, но только было определение — пал на меня, ещё на трёх парней и двух девушек. Мы, можно сказать, спокойно, добровольно поехали в Германию. Везли нас на возах, провожали, как в дальнюю дорогу провожают, всё село вышло провожать. На возы сложили свои харчи. Харчей было достаточно, напекли тех коржей, что не поднимешь. Что можно было взять, то взяли, а брать было что. Набрали с собой хорошие сумки, немцы-то побуждали к этому. Одежды, конечно, такой не было, были полураздетые. Нас привезли на станцию.
В. В. Овсиенко: Какое это было время года?
П. П. Разумный: Это было 22 июня 1942 года, ровно через год, как началась война. Нас привозят на станцию, там загружают в вагоны. В каждом вагоне два немца на гамаках висят в воздухе, а мы вповалку лежим на полу вагона. Мы взяли с собой некоторые вещи, чтобы подстелить. Немцы едут в отпуск без оружия и за нами присматривают, чтобы был порядок, чтобы не убегали, например. Никто не убегал, потому что немцы смотрели, и также не было настроения убегать, я помню. Я не собирался убегать, я думаю, что интуитивно угадал, что бежать некуда, надо ехать, потому что вот здесь, в Харьковской области возле Лозовой, ещё шли бои. Правда, в 1942 году они уже подвинулись дальше на восток, а зимой ещё шли бои. Я помню, даже немец рассказывал, что там бои, показывал: «Лозовая, Лозовая...» Рассказывал, как немцы день и ночь не выключают двигатели танков и автомобилей, потому что нельзя было на тех морозах запустить двигатель. А как наступление советского войска — нельзя двигаться, вот и день и ночь работали двигатели.
Нас привезли в Днепропетровск и в тот же день повезли в направлении Пятихаток. В Пятихатках мы были в тот же день к вечеру. Там нам организовали первую горячую еду. Нас выпускали из вагонов — немцы стояли сбоку и смотрели, чтобы никто не убегал. Нам сказали взять с собой миски. Подставлял миску, наливали туда горячей еды, это был какой-то суп. Мы ели с теми коржами, что были. Хлеба не давали, потому что хлеб у нас у всех был. Мы ели уже в первый день вечером, хоть мало кто хотел. В первый день мы почти не хотели всего этого, потому что уехали из дома, настроение — едешь куда-то, неизвестно куда, что это будет — аппетита у нас не вызывало. Помню, в Пятихатках почти никто не воспользовался, почти никто, выходили из вагонов, чтобы немного проветриться.
Я впервые увидел, как какие-то парни то ли симулировали, то ли изображали из себя сумасшедших, ненормальных. Они шли прямо на немцев, спотыкаясь, немцы их толкали, немцы их били, они падали и снова шли, вот так. Было это зрелище очень неприятное — это первое неприятное зрелище, которое я увидел, что над человеком совершают насилие без явной причины, потому что те люди проявляли себя как неспособные мыслить и управлять своими действиями. Таких я заметил двоих. Они хорошо получили по рёбрам. Они подставляли свои рёбра, и немцы не стеснялись по тем рёбрам пройтись сапогом, потому что они шли прямолинейно и хотели уйти, а этого немцы не позволяли. Итак, нарушали то, что было заведено, — никто никуда не идёт, а все едут в Германию.
На второй день, помню, нас так же остановили и кормили горячей едой в Шепетовке. Там некоторые уже начали есть, потому что не все так запаслись едой, а были такие, которых, наверное, из дома не снарядили, как следует, или не было кому дать. Так там уже ту баланду ели больше людей. На четвёртый день... Вот из Шепетовки до Варшавы доехали, наверное, за два дня, как я помню. И в Варшаве кормили нас так же. Было как-то так интересно, что в Варшаве поварихи были уже полячки, которые говорили на каком-то непонятном языке и как-то одеты были не так, как наши люди — чистенько и красиво одеты. У них были большие достатки, чем у нас, и до войны, и во время войны, очевидно. Помню такой чрезвычайно интересный эпизод, что вышли из вагонов девушки, парни, все молодые. А полячки были лет 40–50, не меньше, и они заманивали: «Идите сюда, убежим», «Idz tu — uciekaj ze mną!» Я не видел, чтобы кто-то воспользовался этим, но я думаю, что можно было бы воспользоваться таким приглашением сбежать, потому что немцы не так уж и присматривали, уже надзор был ослаблен, а нас было много, и движение было большое, что можно было бы отделиться от группы и сбежать. Помню, ко мне подошла одна полячка, дёрнула меня за плечо и говорит: «Где твоя грудь, где твоя сила, что ты такой слабый?!» — я маленький, наверное, был и на вид не сильный. Но было видно, это были только слова, что она меня за плечо тянет куда-то в другое место, то есть от группы оттягивает под тем предлогом, что она беспокоится о моём виде, который её не удовлетворял. Ну, а я как-то так к ней повернулся боком, отвернулся и на этом кончилось. Был там какой-то торг: те женщины, по непонятным для меня до сих пор причинам, хотели кого-то отделить и кого-то забрать с собой. Я думаю, не случайно, потому что это молодые люди ехали, а среди тех, кто это делал, как я помню сейчас очень точно, — молоденьких не было. А это всё — женщины, следовательно, может, такие, что и без мужей, потому что война прошла, сколько их уже поубивали и убийство продолжалось. Такой был в Варшаве эпизод.
Ровно через неделю, 29 июня, мы приехали в Галле. По дороге нас поражало: на переездах поезд останавливался. Люди ждали. Поражала какая-то их, как по мне тогда, праздничность: все будто в праздничной одежде. Все те женщины с колясками... Сначала я не понимал, что это за коляски, а это были детские коляски. Они нас разглядывали, как экзотических зверюшек, потому что это едет оттуда, с Востока, завоёванное племя. Какое оно было на вид. Их, наверное, интересовало, что это за молодые, красивые люди, как я сегодня думаю. Это были разного возраста люди, преимущественно женщины — и молодые женщины с детьми, старшие, которые присматривали за внуками своими, но тех колясок было так много с обеих сторон переезда... Это было зрелище — эти люди собирались, пока стоял поезд, чтобы нас разглядывать, а мы их разглядывали.
Наконец приехали в Галле. Парней здесь отделяют от девушек. В вагонах мы были вместе, так, как из села ехали, так и были. Я спал возле одной девушки, и так мы любезно обнимались-целовались, потому что это было как-то так, как когда-то на вечерницах, — без таких специальных намерений, а были какие-то такие любезные взаимоотношения. У меня было тогда детское представление об этом всём, но ведь — паренёк... Нас отделяют, мы проходим санитарную обработку. Раздевают нас, намазывают места, где растут волосы, таким вонючим салом. Мы прошли хорошую баню, душевую, нас начали группировать в небольшие команды. Мы там переночевали, вот искупались, переночевали, а на второй день нас уже группируют. Сорок человек нас берут и везут сорок километров на запад — городок Айслебен-Лютерштадт. Я когда-то сказал одному немцу, здесь в Киеве, что я был в Лютерштадте — Айслебен-Лютерштадт, он говорит: «А, Лютерштадт... Лютерштадтов по Германии сотни. Там, где бывал Лютер, там Лютерштадт в его честь. Такая привычка у немцев», — так мне объяснил этот немец. В этом Лютерштадте прежде всего заметили три огромные трубы, которые дымят — это было наше предприятие, которое, как выяснилось, плавило медную руду на полуфабрикат.
Нас поселили прямо на территории завода на трёхэтажных нарах. Поскольку мы свои продукты уже доедали, то нас кормили баландой и уже давали хлеб. Некоторые уже были хорошо голодны и это всё поедали. Я сначала не мог приспособиться к тому морковному супу, я не мог есть шпинат — ну не мог и всё, он мне был такой противный, как вот варёная лебеда. Не мог есть брюкву, но голод, правда, заставил через пару дней всё это поедать. Для нас такая еда была настолько неблагоприятной, что я чувствовал, что от той еды погибнешь. Это я впоследствии оценил, что это была лучшая еда из тех, что у меня были в жизни, где я находился на казарменном положении, то есть в Германии, в армии и в зоне — по три года я там был. Так вот здесь кормили лучше всего, то есть рациональнее всего. Та овощная еда действительно поддерживала. Овощная еда — не постоянная каша или кашевый суп, как в армии давали: плавает там где-нигде зёрнышко варёное, а то всё вода-баланда, а этот — густой овощной суп, сваренный на бульоне — был хорошей едой. Потом привыкли, было уже лучше.
Послали нас, как кого распределили: где покрепче, послали кокс разгружать из вагонов вилами в четырнадцать зубьев. Такие вилы, короткая рукоятка, так что надо не разгибаться, потому что если разгибаешься, то немцы кричат: эй, давай! Вагоны задерживать не можешь, кокс сбрасывай. Двери открываются на обе стороны, сбрасываем как можно быстрее. Вагоны, правда, небольшие, не такие, как у нас, и короче, самые большие на 22 тонны, а были по 16 тонн — это сравнительно малые вагоны. Итак, если махнул вилами аж до угла, то можешь бросить аж сюда. Меня, как среди них не самого крепкого, а, наоборот, может, самого слабого, как на вид и на кондицию, да и с дороги я, — меня туда не послали, потому что это была самая тяжёлая работа, действительно адская. Послали меня на так называемый шторц. Это была за территорией завода вот такая шлаковая гора, на которую вывозили расплавленный шлак и выливали там. Он там застывал, обливал колею с железными шпалами, и наша задача была тот шлак, который попадал на колею, на шпалы, сбивать ломом вниз, в пропасть. Сбивая его, мы постепенно удлиняли эту гору, потому что шлак шёл и шёл всё время, а потом каждые три дня колею подвигали ближе к пропасти, чтобы шлак выливался вниз. Это было наше задание: когда ломами по команде подвигали её — zwicken немцы называли. То есть когда лом подкладываешь и что-то двигаешь, тогда это называлось zwicken, есть такой глагол у них.
Итак, работа была сравнительно нетяжёлая, и то на воздухе. А такая гора высокая, что далеко видно, и внизу колея, идут поезда — в одном направлении медленно идут, потому что это на гору, а в другом направлении быстро, потому что это вниз. Там такой рельеф изрезанный, и вот всё зависело, потому что это паровозы таскали, а они не были такие мощные, как теперь. Когда эшелоны шли медленно, то мы разглядывали, что везут на Восток, потому что туда медленно шли, а на Запад быстро. Так мы и разглядывали: амуницию всякую везут. Однажды даже немцы рассказывали, что Гитлер ехал по той колее, потому что сначала ехали дрезины, потом пара вагонов, потом ещё пара вагонов, потом ещё пара вагонов — всё было такое запутанное... А в конце дрезины пулемёты стояли. Так это всё промчалось быстро, что мы... А немцы шептали: «Гитлер, Адольф Гитлер...» Или «Фюрер, фюрер...».
А руководил нами дед, инвалид такой, офицером он был в первую войну, без обеих ног, но на протезах, но ходил сам без палочки, Отто Ульрих. Он ко мне хорошо относился, потому что я там стал уже, так сказать, переводчиком, и по всем вопросам ко мне обращались, потому что я там какие-то слова помнил со школы, потом год прожил уже при немцах — что-то запомнил. Короче, имел какой-то набор слов, что можно было объясниться, поэтому я был за переводчика, потому что там сложных разговоров не было. И они меня посылали за кофе. Вот в определённое время через пару часов после начала смены был Frühstück — немцы садились, ели бутерброды, а мы ничего не ели, потому что мы тот хлеб, что нам давали утром, съедали ещё в казарме, и кроме того ничего не было, но кофе пили. Это был такой чёрный-пречёрный кофе, не натуральный, а какой-то сваренный из злаков, очевидно, из жжёного ячменя. Он был таким вкусным, что его можно было пить, как пиво. Они нам давали: пейте сколько хотите, только чтобы наливали в свою посуду. Один такой Kaffeekanne — такой высокий чайник — я приносил, поручали мне носить кофе. По дороге я же мог мусора набросать... Я приносил, ставил, они садились и ели. Будка такая, в ту будку я не заходил, нас туда не пускали. Нам нечего было есть, так мы должны были пить кофе, кто хотел, кто имел посуду, немцы наливали. Немцы присматривались к нам и иногда так тайно подкармливали — тот принёс кусочек бутерброда, тот бутерброд принёс. Подкармливали в первую очередь меня, потому что я был самый маленький. Тот Отто Ульрих, что руководил этим делом, два раза приглашал меня к себе домой. А дом его было видно с горы, он показывал мне. Вот так с горы видно сёла кругом, церкви в каждом селе. Приглашал меня домой, не боялся, это для них не было чем-то таким. Он, очевидно, был членом их партии, помню, носил значок члена национал-социалистической партии. Приглашал и там пытался расспрашивать о нашей жизни. Я рассказывал, как мог и что мог — позже-то я мог немного больше рассказать.
Работали с нами по очереди французы, бельгийцы — гражданские. В 1943 году — пленные англичане, когда Сицилию взяли. Когда дуче украли под тем предлогом, то именно в то время появились пленные англичане, которых захватили на Сицилии, очевидно. Это была небольшая группа, человек двадцать, они носили свою форму, сзади был нарисован квадрат. У французов был нарисован на форме пленных треугольник, у нас был знак «Ost». Хотя на работу не обязаны были его носить, но когда выходили в другое место, нас обязывали носить знак «Ost», мы пришивали. У меня есть фотография с тем знаком.
Тут интересно сказать, какой был у нас уровень свободы, это очень важно. Мы не были в концлагере, мы были в Arbeitslager, как называли они, и это было полусвободное существование. Мы могли после работы идти спокойно в город и в поле. Часто это запрещалось, но нам разрешал шеф, он имел какое-то влияние в своей партии в том городе. Он нам разрешал ходить, только упрекал, когда кто-то что-то воровал и попадался, или кто ломал деревья, вместо того, чтобы сорвать плоды, ломал ветки — это было такое.
Был такой интересный эпизод, о котором стоит рассказать, как один переводчик, Штефан, поляк, переводил то, что говорил шеф, — это отдельный разговор.
Итак, мы работали на этой горе, и это было нашим спасением. Там не было тяжело работать, там было красиво, мы всегда могли наблюдать, какой красивый немецкий пейзаж в тех местах — это такие невысокие горы, красивые леса, это такая синева. Для меня это было в новинку, потому что я жил и вырос в степи, такого не видел, и для меня это была экзотика наблюдать, какие красивые места есть на свете. Не видел я лесов, и мне всегда хотелось пойти в тот лес.
Поскольку мы вели такое существование, что разрешения у нас официального не было, но кто ходил, тому не перечили. Мы ходили по городу, подрабатывали у немцев, кому там надо уголь вбросить... Они подвозили уголь под окошко, ведущее в подвал, туда внутрь вбрасывали уголь, закрывали окошко, и там он хранился. Там высыпан уголь, там высыпан. Если мы шли, то немцы уже знали: «Komm, komm». Давали за работу кусок хлеба или и буханку, или давали карточку. Карточка, когда у кого была, на неё платили деньги. Я помню, мне платили, как малому, меньше всех, но это было 36 марок. На эти деньги можно было купить много хлеба, а если бы были карточки, то даже колбасы можно было купить. Позже мы и покупали. Когда американцы начали с самолётов бросать в виде экономической, так сказать, диверсии карточки на хлеб и на мясо, то тогда немцы засуетились. Они начали очень внимательно присматриваться, кто её даёт. А нам удавалось отоваривать карточки даже через немцев, потому что немцам доверяли, а нам не доверяли — видят, что остарбайтер, так где взял? А если полицай, то ещё и побьёт. Так что приходилось не полный лист давать, а обрывать. Так я говорю ещё раз, что мы подрабатывали, а как сезон, то рвали яблоки, груши рвали. Давали нам груш такую сумку, что и не поднимешь — неси себе. Только вот единственное было, что как увидишь полицая где напротив, то лучше зайди в переулок или куда-нибудь спрячься. Он не ловит, специально не гоняется, но если ты напротив, то он может спросить: «Ausweis?» — есть ли документ. Надо было Ausweis иметь. Полицаи за нами не гонялись, надо было только внимательно смотреть: если идёт навстречу — сверни в сторону в улочку или где под деревья, или где-то в сторону туда, и он за тобой не будет идти, хотя он и видит, что это что-то подозрительное. А полицай носил такую высокую кокарду, что видно было далеко — такая, как вот у Вильгельма II шапка на нём высокая.
Я приспособился: одной бакалейщице, фрау Кауфман, которая жила на Гиттештрассе, я каждый день приносил яблоки, которые я зарабатывал, отдавал ей все, а она мне давала крупы, вермишель, всякого такого — за те яблоки. И она хотела, чтобы я приносил, потому что она ещё потом кому-то отдавала. Так вот у немцев всё было по карточкам. Груши, яблоки — это всё должно было быть по карточкам. А когда нам это давали, то это тоже было нарушение, но другого выхода у них, видно, не было, потому что мы дармовая сила — на эти десять килограммов яблок мы работали несколько часов и зарабатывали их. А потом я ещё приспособился зимой. Зима там у них снежная, так что можно было ходить в яблоневые сады и среди той листвы искать яблоки, что падали, незамеченные сборщиками. Это была такая подмога витаминная, что вы не представляете. Сейчас не собирают тех мёрзлых яблок. Они маленькие, но вполне съедобные.
А потом мы научились не только зарабатывать, но и воровать. И немцы на это смотрели сквозь пальцы. У них по полям везде бурты с картошкой, морковью, свёклой, а в амбарах, которые также размещены на полях, были сложены снопы с зерном, немолоченые. Они как-то не спешили молотить, молотили его целую зиму. С одной стороны, полно зерна, метров 5–6 вверх наложены снопы, а тут молотилочка стоит, и они помаленьку его молотят целую зиму. А мы приспособились влезать в тот амбар, потому что там такая щелочка была. За пару часов намнёшь руками, только надо было тихонько это делать. Принесёшь несколько килограммов пшеницы — это уже что-то, потому что пшеница — это крупа. Долго варишь её, но варить можно было долго, это было зимой. Посреди комнаты, где были деревянные нары, стояла плитка, которая горела постоянно. Лазили мы по буртам, приносили картошку, прятали её под полом, а там двойное дно — прятали туда её. Немцы, которые за нами присматривали, прекрасно это знали, но никогда туда не заглядывали. Они же видели, что мы варим картошку, так мы же где-то берём её, ту картошку, видели, что пшеницы нам не дают, а мы её варим. «Откуда это?» — кричит один шуцман. — «Да нам один дал...» Покричал-покричал — это только форма, никогда они не искали. Я бы сказал, что отношение было снисходительное.
Однажды меня поймали на картошке. Ходили-ходили целую ночь, искали, картошки не хотим, пшеницы не хотим — наелись, хотим моркови. И искали морковь до рассвета. Возвращаемся, когда уже видно, идём через станцию, и тут нас полицай схватил на колее. Колея была под лагерем. Мой старший напарник Иван Карпенко из Киевской области, Макаровского района, побежал, а полицай как раз возле меня оказался. Я уже не мог никуда бежать, он же с пистолетом. Тот побежал, а он — бах, бах — вверх два раза выстрелил и остановился, и тот остановился. Он его за руку, меня вперёд пустил, пошли. Привёл к начальнику лагеря. Начальник лагеря герр Треплер выслушал, задумался, за щеку взялся, потом встал — а тот полицай рассказал, как кто себя вёл, мол, этот убегал, а этот не убегал. Так он тому по щекам раз-раз! Это ему за то, что убегал, а мне ничего. Посадил нас на три дня в карцер. В карцере кормили так же, как на работе, но там было холодно. Посидели мы три дня в карцере за такое дело и всё.
А бывало, нас ловили на картошке. Пошли мы картошку в буртах брать, и как-то долго её добывали, пока дорылись: мёрзлая земля, по картофелине тянешь-тянешь... Видим, с другой стороны бурта (а бурты такие длинные-длинные) какие-то там огоньки. Идут несколько человек, немцы. Как они нас заметили так далеко? То ли кто-то донёс, то ли кто видел. Нас четверо было. Идут другими рядами и вдруг напротив нас поворачивают прямо к нам, и — «Halt! Sonst werde ich schießen!» — «а то буду стрелять». Мы уже не убегали. «Руки вверх!» — подняли руки вверх. «Руки опустить, пошли». Привели нас к себе в будку, там тепло. Сел такой старенький дедушка, задумался. Ружьё у него стоит. «Ну чего вы вот пришли?» Тут я начал: «Да есть нечего, мы голодные, вот и решили...» — «И я голодный, хотя я живу здесь. Вам же дают, и мне столько дают, так я же не иду воровать», — в таком плане пожурил нас дедушка. Потом отпустил: «Идите домой». Такой был эпизод.
Но и другой эпизод был. Ребята из Михайловки — тут село такое есть — набросились на деда, который их поймал, ружьё у него вырвали из рук, бросили в сторону и бежать. Хоть бы разрядили. А тот, недолго думая, то ружьё схватил и достал их, хотя они далековато убежали: ранил их в ноги, не знаю, всех или двоих, их там тоже было четверо. Тогда два дня всем нам ноги осматривали, оголяли зад — нет ли где-то признаков того ранения. Я думаю, что немцы, которые осматривали для формы, увидели и промолчали, но никого не арестовывали именно за то, что ружьё отобрали и выбросили.
Единственный, кого послали в концлагерь — так это одного, который с девками снюхался, и где-то там у неё то ли переночевал, то ли переспал, то ли в кусты завёл её. Ту немку посадили отдельно, а его послали на три месяца в концлагерь. Три месяца концлагеря — это было страшное дело, полгода мало кто выдерживал. А этот выдержал три месяца и вернулся живой. Этот концлагерь равнялся смертной казни во время войны. Мы были в лагере труда, а не в концлагере. У нас были условия лучшие, какие можно было представить, потому что нам разрешался выход в свободное время за пределы лагеря, а немцы сквозь пальцы смотрели на то, что мы ночью ходили по полям, и что можно было стащить, тащили. Потому что те поля были полны картошки, свёклы, моркови, даже пшеницы, а некоторые находили даже фасоль — это уже были счастливчики, потому что фасоль питательнее, чем пшеница, и варится лучше.
Вот такой у меня быт в Германии был. В трёх местах я был. Один город — это был Айслебен, где производили полуфабрикаты, второй город — Хельбра, пять километров, — тоже полуфабрикаты, а третий город Хетштедт назывался, четырнадцать километров, где уже из этих полуфабрикатов плавили чистую медь, чистейшую. Такие цилиндрические формы, тигель, их заливали металлом, медью. Моя задача была огромной металлической железной ложкой брать из печи расплавленный металл и доливать в формы, чтобы был определённый уровень. Просто из крана нельзя было залить ровно, где металл падал, там образовывалась ямка. Чтобы не перелить через верх, должны были доливать металл этой ложкой. Я это делал, пока не обжёг себе левую ногу. Так обжёг, что аж три недели лечился. Вот как металл хлынул мне на ногу — это страшное дело. Хотя мы ходили в деревянных пантофлях, обмотанных онучами, — всё это прогорело, и я обжёг ногу.
Меня перевели на другую работу, электролиз назывался. Там путём электролиза из медных пластин выплавляли серебро, оно выпадало отдельными кусочками, а медь оставалась. Такие пластины краном подавали в бетонную ванну, где была какая-то кислота или смесь кислот (мы ещё в школе изучали электролиз), и на дно выпадало серебро. Этот бассейн с серебром охранял вооружённый шуцман, он пристально смотрел, чтобы никто ничего не вычерпывал из той кислоты. Это была тяжёлая работа, она была страшно вредная. Да и другие работы я выполнял, полегче. Другие работали в цементном цеху, тоже тяжёлая была Staub — такая тяжёлая пыль.
Нас там застало освобождение. Американцы пришли 14 апреля 1945 года, освободили наш лагерь. Мы, помню, утром 14-го (это была суббота) видели, как с горы шла колонна автомобилей. Тогда колонн не было, потому что немцы боялись на дорогу выехать автомобилем — самолёты летали и буквально охотились, кто появится на дороге, расстреливали его: то ли велосипедист, то ли мотоциклист, то ли автомобиль. Немцы не появлялись. А тут видим, целая колонна идёт — это, наверное, уже американцы, потому что немцы говорили, что американцы идут с Запада. Видим, немцы куда-то делись. У ручья, что протекал возле лагеря, ребята нашли брошенные пистолеты, патроны, подобрали всё это, потому что интересно — это немцы побросали, наши шуцманы. А выше нас был лагерь английских пленных. Мы были посередине, они были выше, а внизу был польский лагерь. Так они сначала открыли польский лагерь, мы увидели, как поляки вышли, а потом подъехали к нам. Мы побежали к воротам, хотели открывать, но американец говорит: «Убирайтесь» — наехал на ворота, раздавил их бронетранспортёром, железные стенки разбил. Мы жали ему руки. Там восемь человек было на платформе. Это была целая процедура, целый час жали руки американцу. Весь лагерь вышел, 450 человек, по-моему, там было — свобода!
Американцы отъехали, мы немедленно бросились через овраг на станцию — там была маленькая железнодорожная станция. Стояли вагоны, мы их начали открывать и то, что там находилось, присваивать, грабить. Ребята обнаружили, что там стоит две цистерны спирта. Начали спирт брать, всякую посуду искать и наливать. А уже были слухи, что этим спиртом травились многие, слепли многие, его называли древесный спирт, какой-то неочищенный. Помню, я тот спирт целую неделю даже прятать не хотел. Он был вполне приличный, люди напивались, а напившись ходили в немецкие дома, которые были поблизости, пытались грабить их. Американцы прекратили это. Мы убытки немцам делали, конечно, даже стали вооружаться. Я запасся спортивным пистолетом — длинный, и стрелял четырьмя патронами. Так красиво стрелял, что одна утеха. Это такие мелкокалиберные патроны. Нам разрешили грабить станцию целый день. Я там взял себе обувь, были там какие-то эвакуированных вещи, которые перевозили в другое место. Так я обулся, потому что был полубосой. Взял какую-то такую красивую шинель, подбитую мехом, какое-то пальто, как потом оказалось, женское. Всё, что под руки попалось, потому что этого всего много, и каждый тянет, мне попалось то, что никто не брал. Вот такое было. Оно и ненужное, потому что это было лето. Такое, как рубашка или что, не придумали взять. Я помню, как со станции вышел, так гражданские немцы нас окружили и на всё это смотрят с таким удивлением и завистью, потому что и они бы не прочь, но кто их туда пустит — в первую очередь мы бы не позволили. Американские солдаты сбоку стоят, даже на нас не смотрят, а мы всё это шмонаем. Как только я вышел с теми вещами, сразу переобулся, своё выбросил, а это несу, немка одна подбегает ко мне и говорит: «Да это женское пальто, зачем оно тебе?» Я глянул: «Ну, тогда бери», — отдал ей то пальто. А шинель ту я вёз с собой, она как раз как на меня была, небольшая, молодого, видно, офицера. Так у меня её потом отобрали советские солдаты. Я не воспользовался ею, потому что лето было, она ненужная была, но я возил всё это с собой.
На второй день американцы уже запретили шмонать, там уже не было ничего, так наши переключились на пьянство. Я ещё раз говорю, что целую неделю не брал спирта в рот, я просто боялся, так хотел увидеть последствия того выпивания. Потом начал и я пить, потому что было безопасно пить тот спирт. Нас начали подкармливать американцы. Привозили прямо под лагерь мясные консервы и раздавали их. Кто подошёл дважды, тот дважды взял по одной банке. Негр раздавал — тогда много было негров — американских солдат. А консервы были немецкие. Кто раз подошёл, тот раз имел. Хлеб нам привозили печёный, давали на неделю по буханочке.
Английских пленных солдат быстро отправили на аэродром и отвезли домой, поляков тоже вывезли быстро, а мы там были целый месяц. Однажды, через неделю-две после того, как нас освободили американцы, нас вдруг сажают на грузовые автомобили «студебеккеры». Поселились мы. Там, по-моему, по тридцать умещалось. Повезли на запад, в городок Нордхаузен. Нордхаузен — это городок, где делали «Фау-1», «Фау-2». Там был подземный завод. Этот Нордхаузен — я вот впервые увидел — был абсолютно уничтожен, до последнего дома. Какой дом был не уничтожен, его, видно, расстреляли, специально бросили на него бомбу. Это надо было придумать, чтобы ни одного целого дома! Я потом узнал из газет, что уничтожали городок для того, чтобы уничтожить всех специалистов, которые занимались теми «Фау». То подземное достичь нельзя было уничтожить, а специалистов можно было, потому что они сверху жили — их семьи и они.
Итак, такая была система. Почему-то нас довезли до того Нордхаузена — и вдруг разворачивают и везут назад. Это целый день везли до того Нордхаузена. Я думал себе, как же быстро американцы ездят. Это была скорость километров восемьдесят, расстояние от автомобиля до автомобиля два метра, к вашему сведению. Два метра — это нельзя представить! И скорость 80 километров. Мы думали, что непременно будет авария, но из 50 машин мчалось и никакой аварии не случилось. То есть такие умелые были ездоки на автомобилях. Вдруг разворачиваются, привозят нас назад, разгружают — всё, даже не сказали, куда нас везли. Нас просто кто-то вернул по какой-то причине. Потом я уже догадался, что это агенты советской армии делали всё возможное, чтобы наши люди все вернулись в Советский Союз, потому что это, мол, власовцы, предатели. Были агитаторы и в нашем лагере — такой капитан появился, но в гражданском. Очень восхвалял Советский Союз, говорил, что Сталина не будет, колхозов не будет, возвращайтесь назад. Сталин вот, пока война, то он правит, а как война кончается, то он уже обеспечил себе отдых, потому что он уже имеет право на отдых, пусть уже младшие руководят — так он сказал. Сталина не будет, так что нет препятствий, возвращайтесь все назад, там будет очень роскошная жизнь, вас там ждут ваши родственники. А именно тогда крутили без конца по радио речи Сталина в связи с окончанием войны, девятого мая это было. А нас освободили четырнадцатого апреля. Я спрашиваю одного капитана: «Как это Сталин руководит государством, которое говорит по-русски, а он говорит с таким кавказским акцентом?» А я тогда впервые услышал голос Сталина, что он так лепечет — бель-бель-бель. Капитан на меня посмотрел так долго, что это, мол, такой опытный сукин сын, и говорит: «Он руководить уже всё равно не будет, руководить будут новые люди, молодые, а Сталин уже, можно сказать, отжил своё, так что пусть сидит и лепечет, не переживайте».
Между прочим, был у меня в Айслебене эпизод: пришёл к нам в команду на шлаковую гору такой рыжий-рыжий, приземистый, крепкого телосложения немец в очках, с красным лицом. Немцы на него показывали пальцем: «коммунист». Я помню, как его звали: Отто Хайнрих. Я до сих пор помню этот интересный эпизод. Этот Отто Хайнрих к нам присматривался. Такой молчаливый, но философствовал среди своих немцев, а они переглядывались и смеялись над этой философией, потому что он говорил им что-то такое антисоветское. Он пришёл из концлагеря. Его выпустили. Ему было лет 55, а может, и больше. Он ко мне как-то ласково стал относиться, приносил мне бутерброды, яблоки приносил и рассказывал, что его сын служит в Париже, в авиации, что у него дома жена, что она приглашает меня прийти поработать, картошку не то копать, не то буртовать, не то сажать одновременно. В общем, он затащил меня к себе.
Это было село, километрах, может, в трёх от той горы. Я пришёл к нему раз, он показал мне свой красивый огород — такие узенькие дорожки, всё ухоженное, что жена не ступает ногой на ту землю, где что-то растёт, а ходит только по тем дорожкам и достаёт до растения с дорожки, так что земля никак не затаптывается. Поливает это всё, ухаживает. Там растёт всё такое пышное — кольраби, шпинат. Всё растёт как-то так густо, красиво. И салат растёт, и другая трава, которую они едят, и она выращивается в большом количестве на маленьких участочках. Это показала мне его жена, чернявая такая, не рыжая, а чернявая. А потом накормила меня: дала целый котелок картошки, чем-то там приправила, я её ел сколько хотел, потому что вкусно было ту картошку есть, это была непривычная еда, ведь мы же только баланду ели. Пожаловалась, что не знает, что варить, потому что не из чего. Я говорю: «Так у вас картошка вкусная». — «А, эта картошка, она уже надоела».
Заводит меня Отто Хайнрих в боковую комнату, включает приёмник, ловит Москву. Я услышал, что Москва говорит таким глухим голосом. Диктор рассказывал, как на одном предприятии в Москве люди что-то там производят для фронта, с каким энтузиазмом они выполняют по нескольку норм и отказываются от зарплаты — на строительство танков. Он меня спрашивает: «Что там рассказывают?» Я толком не мог ему объяснить, потому что для меня это были сложные вещи: «выполнять план» — это не та лексика, которой я владел. Но как-то мне удалось ему объяснить. Он говорит: «Ну, это неинтересно». И он мне больше не включал. Я думаю, что это было опасно, потому что запрещалось слушать чужое радио. Приёмник нужно было зарегистрировать. Он был ко мне ласков и приглашал ещё и ещё. Вижу, что он не интересуется никакой моей работой, потому что я ни от какой работы не отказываюсь, а только вот накормит меня и такие разговоры всякие ведёт.
Однажды он снова зовёт меня в ту комнатку и говорит: «Petro, kanst du mit Pistole schissen?» В 1944 году он мне сказал, что Львов взят. Когда Львов был взят, вы не припомните? Это ориентир, когда у меня с ним был этот разговор. В 1944 году, очевидно, весной это было? Он сказал: «Lemberg, Lemberg, Lemberg...», а я даже и не знал, что такое Lemberg. Когда он показал по карте, я догадался: а, так это же Львов. Итак, он спрашивает меня, умею ли я стрелять из пистолета? Говорю: «Нет». Немцы (ещё в Пшеничном) давали стрелять из пулемёта, из пистолета — это было единственное место, где я мог научиться, ну, не научиться, но я стрелял. «Хорошо, — говорит, — ты будешь снаряжён пистолетом, хороший костюм на тебя наденем, придёшь однажды ко мне, дадим тебе билет, ты поедешь с помощником в одно место». С каким-то помощником я должен был поехать куда-то, неизвестно куда. Я на это ничего не сказал, очевидно, я не среагировал на это, по его мнению, положительно.
Я пришёл в лагерь, у меня был друг-приятель из соседнего села, он уже покойный. Я позвал его в сторонку и рассказал всё это. Для меня это был неожиданный поворот: что мне делать? Я не представлял, что мне делать — соглашаться или не соглашаться? После этого, кажется, была та кампания убийства заговорщиков против Гитлера. Это было после 20 июля. На него 20 июля покушение было. Я не могу сказать, было ли это связано. Этот друг мне посоветовал больше к тому Отто Хайнриху не ходить. Да я и сам испугался, откровенно скажу. А чего я буду ехать? Я не знаю, что они имеют в виду, я в кого-то должен стрелять, где? Был разговор о пистолете, он спросил, умею ли я стрелять из пистолета. Так ведь уже ясно, что я должен был бы в кого-то стрелять. Как он хотел использовать меня, понятия не имею. Я к нему больше не пошёл. Я с ним здоровался, но не разговаривал. Здоровались, как правило, немцы, да и мы здоровались, когда, как положено, на работу приходили, но я отстранился от него, и он понял, что я не иду на его уговоры. Он был очень грустный, очень молчаливый, и, я думаю, обеспокоенный, но безосновательно боялся меня. А я только одному парню сказал, а он никому не мог сказать, потому что был такой же трус, как я, а может и больше. Точно больше, потому что он никогда не ходил воровать ни свёклу, ни картошку, а только ел то, что я приносил, и меня, так сказать, обслуживал: варил, принёс — ешь. Я ведь поставщик продуктов, а он только потребитель. Он боялся, он ни разу не вышел в поле ночью воровать, боялся даже об этом говорить, то есть он был трус побольше. Поскольку он мне посоветовал этого не делать, сказал, что они меня где-то убьют, напугал меня, то я пообещал подумать. На другой день немец увидел меня и понял, что я не соглашаюсь. Я ещё раз говорю, что он был очень грустный, очень обеспокоенный, молчаливый, мы с ним вообще перестали разговаривать. Он перестал ко мне обращаться, как раньше, ничего мне уже не рассказывал, а только обходил меня, как будто мы ничего не знаем. Ну, обошлось, ведь я же никому ничего не сказал. Я его видел до конца войны. Надеюсь, что он не попал ещё раз в какую-нибудь передрягу.
Так что у меня в Германии был шанс прославиться — и я отказался. Я не был героем, я скажу, ни при каких обстоятельствах я не был героем, но и не был уж таким большим трусом — я был таким середнячком, который, может, интуитивно искал золотую середину, и, может, каким-то неведомым мне чутьём я обошёл эти рифы.
И позже были такие эпизоды в жизни, что я на риск не шёл. Вот здесь уже, когда я вступал в Хельсинкскую Группу, то я уже решил окончательно и сказал себе, что я сознательно решил, что рискую жизнью, но должен, потому что я уже дальше не могу. Я должен был идти, я себя заставил. Это вытекало, так сказать, из всей моей жизни, я должен был присоединиться. Я, может, не был бы так убеждён и не присоединился бы к Группе, если бы регулярно не слушал радиопередачи «Голос Америки» и «Свобода», которые практически меня к этому подготовили. Можно сказать, железно подготовили.
Больше ничего такого интересного в Германии я не запомнил, что было бы достойно внимания. Нас вербовали в Бельгию на шахты, в Австрию, и, кто соглашался, везли без раздумий автомобилями на аэродром — и на самолёт. Я не решился на это, хотелось домой, я не захотел больше никуда ехать, для меня было достаточно немецкой неволи, я представлял себе, что лучше не будет и там. И, видимо, я правильно представил, потому что те люди, что поехали в Бельгию, в Англию — я даже знаю некоторых из них — они там мёда не ели. Они материально были защищены лучше, но это люди, которых взяли на шахты, в основном на шахты. Это та работа, на которой бы я, наверное, никогда не согласился бы работать. Я только единственный раз спустился в шахту. Там, где мы работали в Германии, между теми заводами были терриконы породы, выброшенной из подземелья, где добывали медную руду. Медная руда в Германии была очень слабая. Немцы говорили, что меди там было полтора процента, и они её добывали. Тогда как в Конго такой процент доходит до тридцати, вот такая там руда. А там полтора процента — и они её добывали. Правда, они использовали часть шлака, делали из него такие форменные камни, которые продавали в Голландию, Францию, видимо, за какие-то такие бартерные операции, потому что это было во время войны. Мы изготавливали тот камень — заливали формы горячим шлаком и грузили его на вагоны. Так что отходы от выплавки использовались хорошо, того камня было очень много и он был очень качественный. Этот камень, думаю, тысячи лет простоит. Из того камня были сделаны дороги и тротуары; тротуарные камушки были десять на десять, а эти были двадцать на пятнадцать, по-моему. Были такие продолговатые красивые камни глубиной сорок сантиметров. Кладёшь в землю — вечно стоять будут, это был прекрасный строительный материал.
ФИЛЬТРАЦИОННЫЙ ЛАГЕРЬ
Итак, нас готовят домой. Совершенно добровольно мы возвращаемся домой. Можно было ехать в другой город, но я не поехал, потому что не захотел. Все советовались, говорили — не хочу, домой, домой, домой. Поехали мы домой. Нас сажают в вагоны, везут целый день — езда была медленная, там то, там другое, там остановки длинные. Привозят к какой-то реке, где был взорван мост, высаживают — это была Эльба, а по ту сторону Эльбы уже было советское войско. Нас переправляют, то есть мы переходим пешком через понтонный мост — и там уже советские чиновники работают. Какой-то в униформе без погон... Перед нами выступали негодяи без погон, чтобы можно было — я потом понял — о нём думать, что он и высокий офицер, и низший офицер — как хотите думайте, а он себя ведёт, как большой барин. Погон не было, это, наверное, так было поставлено, чтобы нас запугивать своими чинами, а может, чтобы...
С нами начали обращаться очень непочтительно. Во-первых, нам дали понять, что мы все предатели, негодяи и что нас будут проверять, чем мы там занимались в Германии. На все эти намёки был ответ такой: массовое бегство. Бежали, но большинство ловили. Это была неприятная история — когда ловили, то тех уже паковали в вагоны и везли в Советский Союз, а там судили как предателей, и они все пошли на урановые шахты. Там их держали по восемь-десять лет, а когда выпускали, паспорт не давали — это были в полном смысле рабы, это были несчастные люди.
В.В.Овсиенко: А когда вас передали?
П.П.Разумный: Передали 16 мая 1945 года. Это был месяц и два дня со времени освобождения. Я подчёркиваю: я добровольно вернулся, я не должен был двигаться на запад. Американцы нас повезли бы в какие-то там лагеря для перемещённых лиц, такие лагеря они уже делали. Displaced persons, «Ди-Пи» назывались те люди по-английски — перемещённые лица. Если бы мы хотели, нас бы повезли в те лагеря, но нас повезли на восток, потому что мы так хотели. Я говорю, разочарование наступило в тот же день, когда нас передали советской стороне. Уже была охрана, была уже граница, наши солдаты стояли над Эльбой — уже не переедешь, не перейдёшь, разве кто... А бежали — вплавь бросались. Эльба не была широкой рекой. Она, правда, быстрая, кто мог плавать, кто мог в воде барахтаться, его по диагонали прибьёт к берегу, и кто умел ориентироваться по течению и выбрать место, бежали через реку вплавь. А у нас же у каждого сумка, у нас начали, прежде всего, сумки наши проверять и забирать, что им нравится. Пять-шесть негодяев в той форме без погон выводят нас человек 50, как будто нас будут где-то... Подальше от всех остальных, в разные стороны выводят, выстраивают в один ряд и: «Открывай сумки!» — и шмонают. Что им нравится — в сторону, в сторону, в сторону. Нас же заставляют потом паковать это и куда-то там потом отправляют.
Короче говоря, всё позабирали, что только можно — по карманам, у кого какие часы... Мы же немножко обжились, потому что немцев шмонали хорошо по домам. А некоторые пристроились возле усадеб, по сёлам да по городкам, где жили в отдельных домах, искать закопанные сокровища. А немцы закапывали — они же тоже были эвакуированы во время боёв на запад, поэтому закапывали такие ценности, которые нельзя было с собой взять, где-то в землю или где-то там в сарайчике. Наши ребята умели искать и всё это находили. Это была серебряная посуда, это были какие-то фарфоровые ценные вещи, красивая посуда. То, что в земле не пропадало. Всё это кто в мешки с собой брал и его пёр — всё было забрано. Протестовать никакой возможности не было, потому что тот самый старший шмонарь угрожал, что откроет нам «особые дела», а потом — туда — показывает на Сибирь. Туда вот отправят, так что молчи. В общем, протестовать никто не мог, так они брали, что хотели. Забрали у меня ту шинель. И хорошо, что забрали, потому что она ненужной стала.
Каждый день вызывали в «особый отдел» — ОО — и сто вопросов: когда забрали в Германию, с кем ехал, откуда куда привезли, что делал, где делал? Я думаю, что это они ловили на том, что каждый раз одни и те же вопросы задавали, а кто путал карты, кто не так отвечал, как раньше, того брали под подозрение. Ну, это люди старше меня, потому что я ещё был молодой, такой молодой, что в армию мне ещё не нужно было идти. Тех, что брали под подозрение, отделяли — в сторону, в сторону. Видно, проверки проводили, потому что и в мой сельсовет присылали несколько раз письма, чтобы оттуда, из села, властные структуры сообщили, кто я, что я, откуда я — ну такое всё, с деда-прадеда начиная.
В ОККУПАЦИОННОЙ АРМИИ
Итак, нас, самых молодых, отделяли. 1926 год изъяли, чтобы в армию забрать, там же, на месте. А это место до Эльбы туда, немного дальше на восток, Силезия. Это уже был город Вроцлав, Лигница. Это было место, которое уже было предназначено к передаче Польше. Уже туда начали приезжать поляки. Мы их видели, когда они ехали на открытых платформах со своим имуществом, на полувагонах без крыши — кто на чём мог. Но это было на путях, они на плечах ничего не пёрли. Им давали здесь дома, покинутые немцами, целые сёла были покинуты, и у них там были некоторые вещи для первой необходимости — посуда, подвалы были полны такого добра: картошка, банки с консервированными овощами, фруктами и всё остальное. Этого всего у немцев были полные подвалы. Я знаю, что поляки, которые захватывали такие места, не были разграблены, потому что некому было это поедать. Солдаты были не голодные и не везде заглядывали.
Меня мобилизуют в армию. Уже в августе, или в конце августа, я определяюсь как рядовой роты охраны. Охраняли трофеи. То, что было вместе свезено, то, что было в куче — это амуниция, это склады с оружием, особенно со снарядами и бомбами, а были мины, горы мин, и такое имущество, как трубы. Чтобы никто не разворовывал того добра, чтобы не досталось оно полякам, потому что там поляки поселялись. Мы называлась рота охраны. Поскольку это добро было разбросано по разным местам, то мы, можно сказать, жили в контакте с поляками. Поляки постоянно приходили и чего-то хотели — то трубы, то какие-то ванны хотели брать, то ещё какое-то имущество, провода какие-то — всё то, что нужно в хозяйстве. Кроме мин. Мин не брали. А нам приносили еду, водку. Запомнил одну песню: «Ми млоди, ми млоди, нам бімбер ніц не шкоди» (бимбер — самогон). «Ми п'єм його літрами, хто з нами, хто з нами?» Не то по-польски, не то по-украински такая песенка там бытовала на мелодию фокстрота «Розалинда». Это, между прочим, мелодия, которую во время войны часто играли немцы, потому что это был очень популярный фокстрот, играли его американские оркестры, а когда мы приехали в Советский Союз — и советские играли. Так у меня конец войны ассоциируется с этой очень красивой мелодией. Я помню, как играли американцы, так это наслушаешься — такая красивая, бодрая мелодия. А танцевали немки, которые были возле американцев! Они не удерживались, приходили танцевать — и парни ходили, и молодые, и старые. Немцы умели развлекаться: где оркестр появлялся, туда все сбегались танцевать. Даже советские оркестранты — и те уже знали эту мелодию, потому что она очень привлекательная. Для меня эта мелодия ассоциируется с окончанием войны, с той радостью: пережил войну, сколько погибло, а я пережил, слава Богу — вот такое было чувство.
Итак, мы охраняем то добро, те трофеи. Приезжают сапёры и взрывают склады с бомбами, со снарядами, с минами. Тогда мы прекращаем охранять там, где взорвано, а там, где ещё остаётся имущество, мы его раздаём, сколько можно раздать, — за бутылку, за кусок (кавалек, говорили поляки) масла, печёного хорошего хлеба, которого мы не ели в армии: бери, только неси сам, если сможешь нести. И чтобы по дороге не шёл, а где-то там боковыми дорогами, чтобы не видели наши офицеры, что мы раздаём, потому что оно было без учёта. Короче говоря, учились воровать. Позже в армии, когда я уже служил в ремонтном батальоне, то воровать мы уже умели. Я знал, что это хороший способ добавлять к солдатскому пайку.
В.В.Овсиенко: Школа социализма.
П.П.Разумный: Школа социализма. Потом уже воровали не только мы, но и офицеры. Они побуждали нас к этому, рассказывали нам, как воровать, где дают лучший самогон. Потому что не везде давали хороший, хитрецы были и там, в Польше — порой не очень крепкий самогон делали. Закончили охрану складов осенью. Поздней осенью нас заставили картошку охранять, которая уже была выкопана и ссыпана в кучи, но скоро уже шло к морозам, так забирали-забирали, развозили по полкам, а мы её охраняли, потому что поляки постоянно воровали. Я припоминаю, что на охоте убили козу. Даже мне самому удалось козу убить. Далеко из карабина с колена прицелился. Далековато, с километр было, не меньше. Мы пекли её сами и ели, потому что, по сути, мы были на самообслуживании. Вдруг говорят, что там, километра полтора, возле буртов воры крадут картошку. Наш сержант быстро распорядился всем карабины выдать и туда — в лесу такое возвышение под церковью было. И вправду, посмотрели в бинокль, там копошится несколько человек. Полтора километра. Прицелились (у нас были немецкие карабины, хорошо стрелять). Как те люди услышали свист пуль, то начали убегать в лесок поблизости, убегали те люди изо всех сил, человек шесть. Больше они не приходили, потому что это был настоящий обстрел. Ни в кого мы не попали, но стреляли. Стреляли без страха, что убьём, потому что это было далеко. Такое было.
Кончилось наше дежурство, нас переводят в батальон ремонта автомобилей. Свозят эти несчастные наши ГАЗ-АА, «полуторка» её называли, и ЗИС-5, и мы должны были их восстанавливать — подкрашивать, двигатели подправлять, оборудование. Нам говорили, что земля не обрабатывается, всё это очень нужно, так что вы выполняете великую миссию. Мы эту миссию выполняли исправно, постоянно ездили на тех автомобилях. Это, как правило, были автомобили, ещё пригодные для езды, мы умели их запускать. Ездили через проходную и вывозили бензин — тогда поляки искали скаты, колёса, разные запчасти, особенно от американского автомобиля, вкладыши там всякие, помпы и прочее. Короче говоря, была такая торговля, что мы, я бы сказал, разворовывали огромную часть того склада, особенно бензин. Я был там «бензокоролём» — заведующим бензином и всякими маслами. Там такие бочки с бензином стояли, я должен был отмерять его, выдавать по накладным, там расписывались. Но никто его не мерил, никто там точно не знал, сколько есть бензина, сколько его сожгли. В основном его воровали, но командир делал вид, что он этого не знает, что мы разворовываем, потому что и он имел с этого. Что он имел? Наверное, водку. Я сам не воровал, но выдавал этот бензин на кражу. Однажды было так, что и меня вывезли — я такой храбрый. Колбасы едим, белый хлеб на польские злотые. Выехали мы вдвоём на «полуторке». Шофёром был не я, я сидел сбоку. Едем мы по центральной улице, а с боковой улицы летит прямо на нас сверху «Додж-3/4». Это американский автомобиль среднего типа, он возил пушки. Ударяет в кузов. Если бы в кабину, то ударил бы непосредственно меня, потому что я сидел с этой стороны. Кузов отлетает, как будто его и не было, а мы поехали дальше. Шофёр оглянулся, но не остановился. Ну, незачем ехать без кузова, потому что мы что-то хотели бросить в кузов, так мы уже возвращаемся назад. И представьте себе: никто не спросил, куда кузов делся!
Короче говоря, я там увидел такое расхищение, что это трудно себе представить. Всё: динамо-машины для автомобилей, фары, лампочки, особенно свечи — а это был большой дефицит — значительная часть всего этого шло на расхищение, потому что поляки очень во всём этом нуждались. Они его перепродавали в другом городе, потому что знали, где оно нужно. Таким образом они жили и нам немало перепадало.
Но закончилась и эта лавочка. Наш батальон разгоняют, меня перемещают в механизированный полк. Теоретически этот механизированный полк за три часа должен был прицепить к автомобилям (там были американские автомобили «студебеккеры» и «шевроле») всё, что есть в полку, с пушками и амуницией, со всем личным составом, и переехать на другое место — такие мы были механизированные. Полком руководил армянин по фамилии Исакян, который носил какие-то такие диковинные сапоги. Он был сильно кривоногий и не умел говорить по-русски. Я потом придумал, что это какие-то дельцы на Кавказе поймали его и сделали полковником. Очевидным было, что он не умел говорить, а то, что говорил, было эканье, меканье и какая-то жестикуляция. Единственное, что я помню: каждый день перед вечерней поверкой он становился на трибуну, каждый батальон должен был пройти мимо него, отдать честь, салютовать, выкрикнуть «ура!». Кто ему не нравился, тот он показывал таким жестом: «Э». Значит, этот батальон в сторону, он должен пройти ещё раз после всех. Таким образом, тот батальон, что попал под знак «Э», долго ещё спать не будет, потому что его будут гонять по плацу, чтобы он правильно ходил перед полковником. Такая была глупая и ненужная муштра.
Я когда-то имел с ним хлопоты. Меня поставили заведующим складом. Официально не назначили, потому что я не имел соответствующего звания: там должен был быть сержант или старшина. Я потом понял, для чего они поставили меня, солдата, который никакой ответственности не несёт, — для расхищения запчастей. Это уже были американские запчасти, они были очень дефицитные, поляки их покупали, особенно свечи — это было такое дефицитное, что вы не представляете, как поляки просили: давай свечи. Они были очень дорогие. Колёса. Колёса снимали прямо с живых автомобилей. Там воровали невероятно. Майора, который заведовал техническим состоянием и подписывал накладные, потом с должности уволили и направили на Дальний Восток.
В.В.Овсиенко: 13 декабря 1998 года, на Андрея, продолжаем запись разговора с Петром Разумным.
П.П.Разумный: Я должен сказать, что служба в армии была каким-то постоянным горем. Я узнал, как у нас человека контролируют. Я это слышал теоретически, но познал и на себе. Каждую неделю нас гуртом и по одному вызывали в особый отдел и что-то там расспрашивали. Заходишь в одну дверь, выходишь в другую... Мы должны были думать, что нас по каждому поводу могут позвать в особый отдел и допрашивать, что мы делали, куда ездили, кто и когда в «самоволку» ходил. А это, наверное, было связано с тем, что было много таких солдат, которые пробовали бежать на Запад. Потому что граница на Эльбе была сравнительно недалеко. Их ловили и судили. Может, кому-то удавалось сбежать, но мы о таких не слышали. Припоминаю, как свели вместе всю дивизию или полк и проходил суд над тремя парнями, украинцами, которые бежали. Их было трое подсудимых, так двое держались скромно, а один довольно развязно себя вёл. Судья спрашивает: «Так объясните, почему вы убегали?» А этот так бодро и с улыбкой, чтобы все слышали, громко сказал: «А у нас же был лозунг: „Вперёд на Запад!“» Вся дивизия засмеялась, потому что это было уместно сказано. Судья скривился и больше ничего не сказал. Их осудили всех на семь лет, потому что такая была мерка. Кто дезертировал, семь лет получал.
Один из нашей роты сбежал и с немками жил несколько недель. Его также поймали и семь лет присудили. Так что желание сбежать было очень большое, очень часто бежали, поэтому за нами очень следили. Потому что тот контингент молодых людей был, в основном, из тех, кто побывал в Германии, таких, как я, они могли сравнить, какие порядки здесь и там, где они находились. Да все знали, что на Западе жить лучше, чем в Советском Союзе, и это, наверное, был самый большой стимул. Поэтому нас постоянно контролировали. Хотя граница была закрыта и сбежать, как потом выяснилось, было трудновато, потому что почти всех ловили и об этом сообщали в полку, но о многих и не сообщали — очевидно, им удавалось сбежать. Там и рельеф такой: реки, холмы, что можно было прятаться и бежать. Бежали с оружием и без оружия. Убегали преимущественно с нарядов, так что в наряды посылали людей только проверенных, на которых была надежда, что они не будут бежать. Это была постоянная тема разговоров: кто сбежал и кто ещё не сбежал. Я припоминаю, ко мне персонально были приставлены такие люди, которые подговаривали бежать. Но я знал, что это приставленные люди. Один был из Донецкой области, Прилепский — такой хитроумный человек, всё он хотел бежать, но я по нему видел, что он не то что бежать, а он из казармы не хотел выходить — лежал бы, наелся и снова лежал бы — такой ленивый был. Я говорю: «Прилепский, ты как начнёшь бежать, то у тебя ноги заболят, ты упадёшь и будешь лежать — зачем тебе бежать?» Я так смеялся над ним, потому что видел, что он провоцирует. Там было запущено это шпионское ремесло, которое должно было выявлять, у кого есть настроение бежать, потому что это была проблема номер один. Я думаю, что нас так часто вызывали в особый отдел для разговоров, из которых они могли выяснять психологическое состояние человека — настроен ли он бежать, потому что соблазн был велик. Граница близко, несколько километров, там американцы, если удачно сбежал — ты уже в другом мире.
Однажды, уже в 1948 году зимой, приезжает в полк командующий всей этой нашей армией (она и называлась оккупационная армия), по-моему, Рокоссовский, с большой свитой генералов, и осматривает полк. Он такой высокий и проворный маршал, что за ним генералы не успевали. Он сам впереди бежал, а они были сзади метров двадцать. Никто не успевал за ним, он никого не ожидал. Я как раз был на складе возле цеха и сидел у дверей. Он прошёл мимо меня, я встал смирно, он остановился, позвал командира полка, то есть полковника Исакяна. Это был такой полковник, которого поймали где-то в армянских горах и сделали полковником. Он не умел говорить по-русски, только мекал. Например, встречает солдата и этот солдат ему чем-то не понравился, так он показывал жестом солдату: «Ко мне». Не говорил, а только показывал, потому что говорить ему было очень трудно. Вот такой полковник был. Я помню, рассказывали о нём всякие анекдоты, как он завтракает, как обедает, как его обувают — два солдата его обували, два солдата разували — вот такое. Полковник прибегает, потому что Рокоссовский его зовёт — это всё на моих глазах, потому что как раз так вышло, что я стоял у дверей своего склада запчастей для автомобилей, которым заведовал. Рокоссовский ждёт, пока полковник придёт. Полковник протолкнулся между теми генералами к маршалу и что-то там залепетал. Маршал его не слушал, говорит: «Полковник, вы превратили полк в харчевню!» — потому что он уже оббежал весь полк и посмотрел. Тот сказал: «Так точно!» Побежал Рокоссовский дальше...
СЛУЖБА В КАРЕЛИИ
В.В.Овсиенко: Пётр Разумный. Кассета третья, 13 декабря 1998 года.
П.П.Разумный: В тот же день мы услышали, что наш полк расформировывается и нас будут рассылать по разным частям. Так оно и вышло. Нас посадили в вагон и повезли на Восток. Ехали мы через Польшу, потом через Литву, остановились в Ленинграде, дальше на север через Карелию аж в Заполярный Круг. Привезли нас в Кандалакшу, на Белом море. Впервые в армии я понял, что такое голод — прямой голод, который истощает у человека все силы. Пока я был в обычной части, там как-то ещё можно было где-то что-то раздобыть. Перепрыгнуть через забор, что-то купить, если были деньги. А тут нигде ничего — пустыня, сопки, солнце на горизонте ходит от сопки до сопки, как колесо крутится, всё время видно, нет ночи. Посылают наших ребят на Белое море — а оно же рядом — ловить рыбу, чтобы себя прокормить. Это людей, которые не умеют, не квалифицированные. Немало там утонуло. Управляли теми маленькими лодками какие-то неосторожные люди, которые на море не могли себя вести. Люди падали в воду, их никто не спасал. Так мы питались: если поймали рыбу, то ели, а как не поймали, то не ели. Ужасная была ситуация.
Припоминаю, собрал нас полковник по случаю подписки на заём: каждый должен был подписаться на месячное, как они говорили, довольствие, в том числе полковник давал свой месячный оклад на заём. Это же была известная вещь: каждый год подписывались на заём. И солдаты должны были подписывать на сумму своего месячного, как они называли, довольствия, сколько-то тех рублей. Полковник объявил, что он подписывается на 4000 рублей — это, видно, был его оклад — и пригласил всех подписываться. Полк был выстроен вокруг полковника, он стоял посередине, рассказывал. Полковник был украинец по фамилии да и по языку. Кто-то из толпы солдат выкрикнул: «А когда будет нормальная кормёжка?» Посмотрели кругом, не знаю, выявили ли того крикуна, но полковник сказал, что будет, потому что наладили ещё две лодки, которые будут вылавливать в Белом море рыбу и таким образом подкармливать нас.
Так я начал службу уже на территории Советского Союза. Это было ощущение какого-то разгрома организма. Нет ночи, всё время светло, всё время солнце — где-то из-за сопки вышло, а за другую зашло. Казалось, что ты попал в мир, который тебя разрушает — вот такое было ощущение.
Но как-то нас собрали в команду и повезли по Карелии на юг. Команда была где-то из пятидесяти человек. Повезли на юг «выполнять задание Генерального штаба». Мы не представляли, что это такое — «задание Генерального штаба», но потом ознакомились. Нас высадили в карельских лесах и пошли мы пешком по талому снегу — это уже была весна, снег такой ослабленный, его ещё много лежало. Шли мы несколько дней, ночевали в покинутых карельских домах. Пустые сёла были, разве что где какой дед или баба, и то какие-то такие неприветливые карелы, что даже не хотели с нами разговаривать, не хотели ничего нам дать. Мы сами лазили в погреб за картошкой, за живностью, чтобы подкормиться. Нас по дороге подкармливали, давали какую-то банку консервов на двоих, но это было как собаке муха.
В.В.Овсиенко: А карельские сёла покинуты неспроста, наверное?
П.П.Разумный: Неспроста, ведь это же была война, а Карелию просто растоптали... Карелы же поддерживали, как я потом расспрашивал, финнов, так их просто выселили. А то поубивали или в Сибирь вывезли. А с территорий, где финны были, карелы с финнами ушли. Так и осталось в тех пустых сёлах по несколько человек.
В.В.Овсиенко: Это какого года вы были в Карелии?
П.П.Разумный: 1948 года это уже было. Я впервые заметил, как война опустошила целый народ. Я теоретически знал, что там жили карелы, но их не было по сёлам. Остались только больные или те, кто просто не успел куда-то деться. Пустые сёла. И вот мы через те пустые сёла шли, ночевали в них, даже разбирали постройки и жгли, чтобы согреться. Шли мы несколько дней до какого-то неизвестного места, которого не называли, потому что это «военная тайна». Пришли мы на какое-то озеро. Там были покинутые дома. Нам сказали рубить хвою, чтобы подстелить под себя и на ней спать. Стены домов были деревянные, мы наложили внутрь хвои и там разместились. «Вот здесь будем рубить деревья и на это озеро сплавлять, — объяснил нам офицер. — А когда растает снег и пойдёт лёд, то всё это срубленное дерево поплывёт, и мы таким образом выполним задание Генерального штаба по сплаву древесины».
Ну что, люди не умели обращаться с теми пилами — а пилили преимущественно вручную — сразу нескольких покалечило. Была там какая-то маленькая механизация, но нас к ней не допускали. Пилили вручную, какие-то лошади таскали. Это было настолько примитивно, что это было просто истребление людей. Люди переболели. Однажды два офицера пошли в разведку по реке на юг, взяли меня и ещё одного солдата с собой. Разведка означала посмотреть, по какому руслу будут сплавлять эту древесину. Я по дороге увидел, что там были разбитые палатки, в которых жило по несколько солдат. Они должны были быть сопровождающими древесины. Имели при себе оружие, то есть карабины, и питались тем, что убивали что-то в лесу и ели, потому что больше ничего не было. Какое-то дикарство было, в полной мере. Мы пришли к первой палатке и увидели, там на дереве висит какая-то часть, по-моему, оленя, или лося. Они его убили, драли, резали и ели — тем и жили. И мы там поужинали, переночевали, ещё прошлись немного, целый день шли по реке, потому что ещё лёд был, а потом вернулись назад.
Я, очевидно, очень сильно простудился там, потому что это такое было путешествие, что и говорить нечего: мокрый весь, а это уже была весна. Я заболел и лежал с температурой, а всё равно меня не отправляли. Считалось, что фельдшер здесь на месте вылечит. Не отправляли хотя бы в ближайший населённый пункт, чтобы полечить, так некоторые солдаты и умирали. Я увидел, что и мне такое будет, потому что видно было, что никто ни о ком не позаботится: заболел — ну и лежи себе, переживёшь — хорошо, не переживёшь — закопаем да и спишем. А было объявлено, что 1925 год идёт на демобилизацию в 1948 году, а я 1926 года, так я не подлежал. Я исправил в своей книжке — тёр-тёр, подтёр и переправил в своей книжке 1926 год на 1925 год, и предъявил своему начальнику, что иду на демобилизацию, я болен и с температурой. Он то ли не досмотрел, то ли что — отправляет и меня назад в полк, аж в Кандалакшу. Я не сказал, что это был город Кандалакша, где мы находились?
В.В.Овсиенко: Сказали.
П.П.Разумный: Итак, я подделал цифру, и меня отправили вместе с другими. В полку, правда, досмотрели и сказали, что это я подправил. Говорю: «Я не знаю, кто это подправлял или не подправлял — такая у меня книжка». Выяснили, что я 1926 года, и меня не демобилизовали, но положили в госпиталь, уже не отправили назад, потому что я же больной, температура у меня. Так я выжил, потому что если бы не подделал этой бумажки, то, наверное, там и остался бы, ведь люди умирали. Ну, какая там помощь? Дают какие-то таблетки, наверное, фальшивые, потому что они ничего не помогали. Лежи себе на хвое, где рядом горит огонь, мокрый, ноги всегда мокрые. Не было там условий, чтобы выжить. Питание было из консервов. Это было какое-то неслыханное издевательство, которого я не наблюдал ни до того, ни после. Очевидно, только на фронте случались такие условия, когда людей так ставили в тупик. Умер — не умер, какая разница — никто за это не отвечал.
Таким обманным способом мне удалось вернуться в полк, положили меня в госпиталь. А тут оказалась врач — по-моему, украинка, хотя никому и не говорила об этом. Она ко мне отнеслась как-то с симпатией, потому что я что-то рассказывал ей из того, что видел, она любила расспрашивать. И она меня комиссовала по болезни. Написала такую длиннющую историю болезни — где-то она у меня есть — и на этом основании меня демобилизовали, хотя мой год служил ещё два, некоторые три года. Я должен был бы служить семь лет в армии. А я подделал год, и хотя это было так грубо сделано, что потом оказалось, что это подделка, но она сработала в мою пользу. Потом попалась такая докторша, которая любила разговаривать со мной. Молодая женщина, какой-то интерес у неё был ко мне. Помогла мне демобилизоваться... Она сделала из меня инвалида, или как это называлось формально... Когда я выздоровел, меня выписывают, я еду домой.
В.В.Овсиенко: Это когда случилось?
П.П.Разумный: Это случилось в июне 1948 года. Так вышло, что я выехал из дома 22 июня 1942 года, а приехал домой 22 июня 1948 года. Итак, ровно шесть лет я пробыл в Германии и в армии — в юношеских странствиях. Это у Гёте называется годы странствий. Вот такие у меня были годы странствий.
В то время моя старшая сестра Елизавета жила в Москве. Она писала мне. Она прошла войну. Но оказалось, что это совсем не Москва, а Клязьма, под Москвой. Я к ней заехал, она пыталась меня просветить, показать мне все достойные внимания места в Москве, тащила меня в Мавзолей. Я не захотел, она страшно возмутилась, кричала на меня и топала ногами. Я говорю: «Я не пойду туда, не пойду и всё! Сейчас поеду домой». Она увидела, что со мной ничего не выйдет. Я спросил: «Ты меня привезла в Москву для того, чтобы я пошёл в Мавзолей? Да зачем он мне? Я посмотрю город». Посмотрел на тот Кремль, на Красную площадь, по магазинам пошли. Потом она повела меня в какое-то кино, такое глупое, такое ненужное... Больше я в Москву не ездил, не хотел я туда больше. Я побыл у сестры два или три дня и поехал домой. Прибыл домой ровно 22 июня, в тот же день, в который из дома уехал в 1942 году, а в 1948 прибыл. Вот такие мои одиссеи, странствия в жизни.
УЧЁБА
Начался новый этап, уже гражданской жизни. Везде всё было разрушено, везде были милиционеры. Куда ни поедешь — на вокзалах, на станциях, на улицах — проверяют документы. Мне это казалось ненормальным. Приедешь в Днепропетровск — проверок не меньше 15-20. Вечно кто-то проверяет, проверяет, проверяет...
Мой старший брат Михаил сказал, что мне надо поступать в институт иностранных языков, он такое объявление показывал. Говорю: «Какой институт, у меня нет даже десятилетки». Я же не закончил даже девять классов. Он говорит: «А мы сейчас сделаем документ, удостоверяющий, что ты закончил десять классов, а печать сделаем из картофелины». Я к этому всему не был готов психологически. Шесть лет прошло после девяти классов... Сколько времени прошло... Впоследствии оказалось, что тот документ прошёл. Очевидно, понимали, что он «липовый»...
В.В.Овсиенко: Картофельный.
П.П.Разумный: Картофельный. Тот документ сработал, никто его не проверял. Мне его потом отдали. Где-то он делся... Лежал в латинском словаре, а я книги кому-то давал и кто-то его вытащил. Итак, я на «липовом» документе без экзаменов поступил в институт и закончил его.
В.В.Овсиенко: Так какой, днепропетровский?
П.П.Разумный: Днепропетровский институт иностранных языков.
В.В.Овсиенко: Вы поступили в том же 1948 году?
П.П.Разумный: В сорок восьмом году, но учёба началась не в сентябре, а в октябре. Оказалось, что я там среди студентов был не худший, а, может, ещё и лучший. Только один молодой мальчик был из Днепродзержинска, что закончил десятилетку после войны, а то все такие, как я. Оказалось, что ещё и меньше, чем я, учились, тоже липовые документы представили и поступили, и никто никого не проверял. Директор, между прочим, родственник Мануильского, Мирончук Дмитрий Исаакович, до сих пор жив и меня помнит. Помнит потому, что когда кагэбэшники мной интересовались и приходили в институт. Они снисходительно ко мне отнеслись, потому что он положительно обо мне высказался. А в институте были мои разборки, такие разборки, что собрался весь институт, и меня хотели наказать.
Итак, меня впихнули в институт. На отделении английского языка было всего восемь парней, а всего студентов было 150 — всё девочки. На французском факультете из 70 человек был один-единственный студент. Сначала было тяжело, потому что я и грамматику, и всё позабывал. Но я начал учиться лучше других, только один молодой парень из Днепродзержинска, который закончил десятилетку, — тот учился лучше меня, а другие хуже, некоторые намного хуже. Получил я диплом с отличием. Это не было что-то такое сложное, потому что мне хотелось учиться, хотелось кем-то стать.
Так вот, на французском отделении был студент по фамилии Гейштор Владимир Константинович. Он — представьте себе! — приехал из Китая учиться в Советский Союз. В Китае тогда была революция, а его родители были белоэмигранты, поселились где-то там в Маньчжурии и жили до этой Китайской революции. В революцию отец был убит, а мать сказала, что поедем в Бразилию. Этот Гейштор Владимир не захотел ехать с матерью. Он уже был вполне взрослый. Начитался в книгах и в газетах, что в Советском Союзе большая свобода, что там каждый человек развивается по своим способностям, никаких препятствий в этом нет. «А мать сказала, что там деспотия, — это как он потом рассказывал, — что там жить нельзя. Я ей не поверил, перессорился с матерью. Она поехала в Бразилию в эмиграцию, а я поехал в Советский Союз». Так он появился в Советском Союзе. Их целая группа белоэмигрантов вернулась, среди них одна молодая японка была, которая, как выяснилось потом, имела виды, что он на ней женится.
Их поселили на Урале. Как только они приехали на Урал, их разъединили. Где-то та японка пошла на какую-то женскую службу, а его на шахту послали. И то так бесцеремонно, говорит, только он приехал, не успел обустроиться, разместить свои вещи (а он из Китая привёз некоторые вещи, которые в 1947 году имели в Советском Союзе стоимость, потому что там всё было голое). Итак, сложив свои пожитки где-то там в казарме, он в тот же вечер спустился в шахту. А когда вылез из шахты, то оказалось, что всё у него украли. Осталось только то, что на нём. Так он там остался голый и босой. Так он получил в Советском Союзе первый урок, как здесь живётся, как себя будет чувствовать человек, поверивший в те байки, которые они распространяли по миру о рае на земле. Итак, он остался без ничего, начал новую жизнь. Удалось ему в 1948 году вырваться с Урала на Украину. Я допытывался, почему он на Украину приехал, так он говорил, что везде говорили и говорят, что если в Советском Союзе можно где-то жить, то это на Украине — там, по крайней мере, не голодные. Действительно, на Украине было самое большое благосостояние, хоть как её ни обдирали, но люди работали, земля родила, и по сравнению с другими краями было лучше.
Итак, он приехал и поступил в наш институт на французский факультет, потому что английский язык знал. Практически знал, потому что какое-то время был в моряках на английском корабле. Скажу, что этот Гейштор, хоть как его ни обидела советская власть, остался шовинистом с головы до ног. Он меня называл за глаза сепаратистом. Мы с ним общались ближе всего, потому что даже на одной квартире где-то полтора года жили. Потому что трудно было одному снимать комнату, а вдвоём легче. Так что он меня сепаратистом называл, а я сначала даже не знал этого. А когда я в 1979 году переселился из Ивано-Франковска в своё село, чтобы здесь жить, то он вдруг ко мне приезжает, этот Гейштор. Я его не приглашал, не переписывался с ним. Приезжает ни с того, ни с сего. Я удивился, что он приехал ко мне, но до меня дошло, что его прислали выпытать, почему я переехал сюда, в Восточную Украину, оставил там дом сыну, потому что сын женился. Я ему не стал доверять, потому что почувствовал, что его послали как человека, который может что-то выпытать у меня. Я знал, что он сам по себе антисоветчик, у него были на это веские основания, но что он был шовинюга и за «единую и неделимую», то тут они его за это и подцепили. Ему в последнее время даже дали работу в Горловском пединституте, он читал французский язык. А наш институт расформировали ещё в 1956 году. Ему не случайно дали там работу, потому что он был доверенным лицом, это однозначно. Я его допытывал: «Как так, что тебе дали работу в пединституте?» Он ничего не мог сказать. Но я забежал вперёд... Я хочу о нём рассказать, потому что это важное событие.
В.В.Овсиенко: Смотрите, если мы уложимся во время. У меня есть ещё одна кассета.
П.П.Разумный: Ну, хорошо, это надо будет написать. Потому что это человек, который считал себя демократом, но хотел свободы только для себя, а для других свободы он не хотел. Он давно уже покойный. Посидел в тюрьме, его обвинили в шпионаже. Та японка, которая с ним хотела пожениться, а он не хотел, возвела на него поклёп, что он американский шпион. Но доказательств никаких не было, так его посадили просто как антисоветчика. По амнистии 1956 года его освободили. Он ко мне писал письма, я ему в тюрьму посылал немного денег — тогда ещё можно было посылать. Он сидел в Кривом Роге, а потом где-то в другом месте. И после этого он не покаялся — так и остался шовинистом. Поэтому его взяли в Горловский институт. У него была фамилия Гейштор, отец у него был латыш, а мать русская.
В.В.Овсиенко: Нас интересует коллизия вашей жизни, и именно диссидентская коллизия...
П.П.Разумный: Я про институт скажу, да и, может, на сегодня хватит. Запишем в другой раз.
У меня был в институте такой эпизод, который можно назвать целым процессом. Я замечал, что из нас, восьми человек, кроме этого Гейштора, все были заангажированы, разве что кроме одного Шевченко. Один когда-то даже признался мне, что служил в НКВД, потом его перевели в другое место, а потом снова в НКВД. Короче говоря, это те люди, с которыми никогда ничего нельзя было говорить. Они, по-моему, собирали на меня досье. Один приносил мне книги, которые были привезены из Западной Украины. В них трактовалось поведение москалей во время оккупации Украины сразу после Переяславской Рады и позже. Я допытывался, где он брал, а он никогда не говорил. Я их читал с удовольствием, потому что это были хорошие книги. Такие небольшие рассказики, антимосковские, изданные в Галиции — это я видел по языку. Позже я понял, что это были провокационные действия. Это был такой господин Гончар, он был самый молодой среди нас. Ныне покойный. Он ходил близко возле меня и хвостом вилял. Но я читал те антимосковские книжечки, возвращал ему и ничего такого не случалось.
Но я читал и другую литературу. Я познакомился с одной дамой из библиотеки, такая потрёпанная девица, ещё и, кажется, инвалид. Я заходил к ней с этим Гейштором, она открывала шкафы, где были книги — она их наворовала в библиотеке, где работала. Чудесные книги! Включая английские — это была находка! При её посредничестве нас с Гейштором пригласили разбирать библиотеку в одном месте, где надо было отделить иностранные книги, то есть немецкие, английские, французские, сделать им реестр. Я копался в тех книгах и хорошо наворовал книг. Наворовал, потому что как я мог не украсть, если они не были зарегистрированы, а валялись со времён революции. Это были книги ещё девятнадцатого века, среди них много английских. Там я выкрал брошюру — где-то она у меня до сих пор есть — критика Веселовского, критика Белого. Мне врезалось в память, как они характеризовали Льва Толстого. Я в армии прочитал много книг, читал Толстого, в том числе «Войну и мир». А Веселовский характеризует Толстого как болтуна, который, будучи графом, ходил босой, будучи писателем, ходил за плугом. Я это запомнил и начал пропагандировать такие идеи, что его писанина не стоит такого большого внимания, как ей уделяется. А ещё у Франко я вычитал, что роман «Война и мир» очень растянут, развёрнут по всему миру, его тяжело читать, собрать в кучу.
Итак, я всё это рассказываю своим ребятам, а им это надо, чтобы доносить. В один прекрасный день Сидоренко Максим Иванович, кагэбэшник из моего села, — он на меня никогда и не взглянул, хотя часто бывал в моём институте... Он занимался нашим институтом, студентами. Мне нравилось, как Веселовский насмехается над Толстым. Я это рассказывал ребятам как о своём собственном достоянии, потому что те ребята ничего такого не читали. Гейштор интересовался только французским, английским, а я брал и итальянский. Я там нашёл и произведения Григория Косынки, наших писателей двадцатых годов. Мы месяца два разбирали ту библиотеку бесплатно и добровольно. Я получил хорошее образование на тех книгах, которые украл. Или так одалживал. Мы у той дамы выбирали себе книги, читали и брали их с собой. Так я начитался хороших книг. У неё была украинская литература, которую она мне просто дарила, потому что называла меня не сепаратистом, а самостийником. Говорит, читай, раз ты так любишь читать. Я их присваивал. Они потом как-то разошлись, некоторые я дал позже Евгению Сверстюку.
На меня составляется досье о моём неправильном поведении. Я не знаю, как оно формулировалось. Собирают комсомольское собрание, а я не был комсомольцем. Меня удивляло, почему меня никогда не приглашали в комсомол. Я ещё был молодой, двадцать третий год шёл, когда я поступил в институт. Могли ещё пригласить. Но не приглашали. Мне уже это было как-то подозрительно. Я сам не собирался вступать, но если бы тянули, то, наверное, вступил бы.
Итак, собирают собрание, на котором, оказывается, будут разбирать мой вопрос. Собирают только первый курс нашего английского факультета. Перед собранием ходит за мной в коридоре этот Гончар Иван. Я взволнован: вот сейчас меня будут разбирать, может, исключат, а он за мной ходит. Я перед этим прочитал у Франко: «Судите меня, судите меня, судите...» Я процитировал ему, а он потом рассказал кагэбэшникам.
Итак, вопрос ставится так, что я, Разумный Пётр Павлович, не люблю русскую литературу, не считаю её выдающимся явлением мировой литературы и, в частности, светоча русской литературы Льва Толстого не считаю авторитетом. Я на это ничего не мог сказать — я действительно наговорил так много, что уже забыл, кому я что говорил, особенно про того Толстого. Это было после ждановских постановлений ЦК, следовательно, это была попытка просто напугать меня персонально и других. Меня обвинили только в том, что я Толстого называл не талантливым писателем и не великим писателем. Студенты-россияне очень допытывались, что я читал у Толстого. Я им объяснил, что я читал только рассказы и роман «Война и мир», а больше ничего не читал. «Мало вы читали». — «Ну, — говорю, — может, вы больше читали, надо и мне прочитать больше!» Директор сидит за столом, ничего не говорит. Но заведующий кафедрой, из кагэбэшников-энкавэдэшников, — тот меня всё допрашивал. Спрашивают: как я думаю дальше жить? Это меня удивило. Я думал, что меня будут исключать. «Ну, — говорю, — буду нормальным советским студентом, советским гражданином. А больше не знаю, что вам сказать». На этом кончилось.
Вот такое было судилище. С тех пор я знал, что меня окружают доносчики, и не говорил ничего лишнего. Это был единственный такой эпизод. Помню, когда меня в 1961 году арестовали и повезли в Тернополь, то майор Черезов сказал: «С вами там возились в институте». Я говорю: «Я не припоминаю, о чём вы говорите». — «Вы всё не припоминаете». И больше ничего. Это было единственное упоминание об этом эпизоде.
Институт закончить дали. Как я понял, тот кагэбэшник, Сидоренко Максим Иванович, родом из моего села (он давно уже покойный), очевидно, посодействовал мне. Были такие разговоры, что он где-то меня отстоял, а могли исключить.
В.В.Овсиенко: В каком году вы закончили институт?
П.П.Разумный: Я закончил институт в 1952 году. Про институт надо будет написать больше, потому что там были интересные вещи.
УЧИТЕЛЬСТВО
Я себе думаю, куда поеду работать, но без меня решили послать меня в Тернопольскую область. Я обрадовался, я подумал, что это как раз туда, куда мне надо. Я хотел поближе познакомиться с бандеровским движением, как оно называлось.
Ещё в 1950 году я впервые поехал на корабле в Киев по Днепру. Пошёл в Лавру, осмотрел обе пещеры — дальние и ближние.
Там ко мне пристал какой-то такой красиво одетый молодой, немного старше меня, мужчина из Галиции, из Львова. Не я обратился к нему первым, но он ко мне, и очень настойчиво рассказывал мне, что Бога нет. Я его не очень слушал, но он всё время крутился возле меня. Я думаю, что это был один из таких подозрительных эпизодов. Когда-нибудь я напишу об этом эпизоде в Лавре.
Я обрадовался, что меня туда посылают, и поехал. Меня послали в Скалат Тернопольской области, а когда приехал в Тернополь, то оказалось, что мне надо ехать в Почаев. Это Бог меня послал в Почаев: я в Почаеве встречаю Евгения Александровича Сверстюка, который приехал туда после окончания Львовского университета, факультет украинского языка, литературы и психологии — вот такая специальность. Я думаю, что наше появление там было как свежий глоток воздуха. Ну, не моё лично, а Евгения, потому что тот Евгений был мудрецом с младых лет. Первое, что он там сделал, это организовал вокруг себя школьников, которые устроили вечер в школе. На тот вечер сошлись все учителя. Это было что-то такое, чего там никогда прежде не делали. Школьники что-то читали из литературы. А потом организовали вечер Шевченко. Это было не совсем вовремя — осенью 1952 года. Там среди учителей была конкуренция. Так мы рассказываем о них какие-то анекдоты... Директриса была такая придурковатая, и её сестра, — они руководили, как деспоты. Мы их так высмеяли, что им неудобно было разинуть рта.
На первом же районном совещании учителей инспектор из области Смоляр начал нападать на Евгения. Что появились некоторые молодые учителя, которые не знают, как себя вести. Где он этого набрался — наслушался от директрисы. Конкретно ничего не сказал, но: осудить их надо! Евгений сидел спереди, а я сзади за ним. Евгений тогда встаёт и демонстративно покидает зал. Я пошёл за ним. Это было перед Рождеством. Тогда как раз на Сочельник делались всевозможные мероприятия, чтобы учителя не принимали участия в праздновании Рождества. Евгений демонстративно выходит, я за ним, и он говорит: «Поехали ко мне домой». — «Ко мне домой» — это в Гороховский район. Мы ещё успели на автобус. Глубокой ночью добрались до его Сельца — село называется Сельцо. Ещё и ужин рождественский отведали.
Так мы демонстративно ушли. Это, конечно, вызвало возмущение. Евгений был уволен с работы, направлен в облоно. Его послали в другую школу, а я остался на месте, мне ничего не было. Так что он только полгода поработал со мной.
Здесь, в Почаеве, я быстро сошёлся с людьми, которые поставляли мне такую литературу, о которой я и не подозревал, что она на свете есть. Я перечитал хрониста Волыни... как он называется?
В.В.Овсиенко: Улас Самчук?
П.П.Разумный: Да. Трилогия «Волынь». Прочитал его роман «Мария» — это всё красивые вещи. Это для меня было, как бы сказать, второе образование. Нашлись люди, которые мне доверяли, давали эти книги. Они, как правило, были повреждены, потому что лежали под землёй, как я тогда догадывался, закопанные. Их раскапывали уже в 1952-53 годах. Когда Сталин дал дуба, стало как-то легче, и люди начали их откапывать. Это было моё националистическое образование, я бы так сказал. С Евгением я поддерживал контакты по переписке, ездил к нему в Богдановку Подволочисского района, где он работал. В том же году он пошёл в аспирантуру.
В.В.Овсиенко: Это какого года?
П.П.Разумный: В аспирантуру в Киеве он поступил в 1953 году, на отдел психологии. А я тогда покинул Почаев с целью поехать в свои края. Меня с охотой отпустили, потому что не очень хотели, чтобы я там оставался. Тогда был такой порядок, что увольняли на месте, но направляли в облоно, потому что облоно распоряжалось кадрами. Поехал я в облоно, меня направляют в село Великие Ходачки под Тернополем, в 12 километрах. Это было когда-то польское село, но поляков оттуда выгнали, большую часть поубивали. Село было населено новыми поселенцами. Они были с Лемковщины. Откуда вот Горбаль Николай. Итак, населено было новыми людьми, и я был новый. Там было школьное помещение, был костёл, в котором разместилась МТС.
С Евгением я дальше поддерживаю связи. Он аспирант, и ему нужно пойти на практику. Он выбирает мою школу, живёт в селе Великие Ходачки, собирает материалы для диссертации. Мы с ним организовываем чествование писателя Тимофея Бордуляка, который в этом селе был священником, умер и похоронен на сельском кладбище. Этот эпизод оставил хороший след в селе. Могила была хорошо благоустроена. Это был такой склеп с крестом. Мы нашли латунную гильзу от снаряда, ребята красиво выбили на ней надпись, что это Бордуляк. Устроили открытие, привели всю школу на кладбище и почтили Бордуляка как писателя, патриота. А я помню его рассказ ещё с детства. Он был в хрестоматии, изданной ещё в двадцатые годы. Рассказ Тимофея Бордуляка такой вроде Стефаника.
Евгений был у меня несколько месяцев, и те несколько месяцев были постоянной подготовкой и выполнением каких-то мероприятий — тот вечер, тот вечер... То, что тогда разрешалось, но ведь никто ничего не делал. А вот Евгений внёс такую искру Божью, что это должны были делать учителя. До тех пор я не имел навыков делать такие вещи, но с того времени и я начал кое-что проводить. То есть Евгений меня научил этому. Жили мы в одном доме, в одной комнате, он занимался своим делом, я своим. Он был нагружен какими-то идеями, которые надо было воплощать в жизнь. Это делало из меня нового человека. Поэтому я считаю его своим наставником. Это наставничество подтверждает такой эпизод.
В 1955 году мы с Евгением — он уже в Киеве — сговариваемся поехать на Закарпатье. Он там не бывал, и я не был. Он едет из Киева, я из своих Великих Ходачек, и встречаемся во Львове, где договорились. А год был такой, как этот — очень часто дожди шли на Закарпатье. Были такие дожди — в день три дождя, лило страшно. Мы уже думали возвращаться из Стрыя. Но нашлись, сели в автобус, поехали в Мукачево. Приехали, а дожди не унимаются, нельзя выйти из гостиницы. Только прошёл дождь — второй дождь. Мы хотели пройтись по Закарпатью, уже и маршрут себе выбрали — нельзя было. Тогда мы побыли два дня в Мукачево в гостинице и решили возвращаться назад. Но как возвращаться? Поехали в Сколе, а из Сколе срезать путь на Болехов. По дороге решили зайти на скалы Довбуша — там есть такие очень красочные скалы, если вы там не были, то я бы вам советовал туда поехать. Это такие высокие камни среди деревьев, из которых вытесано: в одном случае это похоже на медведя, в другом случае похоже на лося. Над теми камнями, наверное, поработали люди Олексы Довбуша, а может другие. Но те скалы называются Довбуша.
Мы решили так и сделать, потому что погода не давала нам возможности двигаться, куда мы хотели. Итак, в Сколе мы возвращаемся назад. Лето тёплое-претёплое, но дожди нас полощут, и нам надо перейти через реку. Река в ту дождливую пору такая бурная, что страшно смотреть вниз. Там строят мост через ту реку. Положили четыре бревна как основу вдоль от берега до берега и надо по тем брёвнам идти. Они стёсаны плоско, но ведь можно поскользнуться и упасть. Евгений пошёл так, будто он всю жизнь ходил по таким палкам. Пошёл легко и быстро, вижу, он уже на той стороне. Я глянул на него одним глазом, но смотрю вниз. Потом приучил себя не смотреть вниз, пошёл по одному бревну, прошёл где-то треть — а там всего метров шестьдесят, не меньше. И сел, боюсь дальше идти, потому что упаду в воду. А вода такая бурная и глубокая, что если упадёшь, то там однозначно капут. Евгений посмотрел на меня с той стороны и идёт ко мне таким же ходом — спокойно идёт и руками машет так, будто он на прогулке. Дошёл до меня: «Вставай». Я встал, он взял меня за руку — и я абсолютно перестал бояться. Где-то на середине реки он пустил мою руку, а я шёл себе так, словно у меня появилась какая-то сила, спокойно, не боялся. Так я говорю, что с того времени я чувствую его руку, которая меня вела и ведёт.
Мы пошли дальше босые, уже не обращая внимания на дождь, который нас полоскал. Дошли до села Поляница, из которого надо было налево идти в горы к скалам Довбуша. Там перешли ещё одну реку, уже поменьше, вброд, но надо было брать с собой шест, чтобы вода не свалила — такая была сильная вода. Перешли реку уже под вечер. До скал было километров четыре-пять, так чтобы вернуться в село и устроиться ночевать засветло, мы побежали. Бежали так долго и так легко — как только может быть в горах. В горах всё легко ощущается. Мы побежали, скалы посмотрели, даже попробовали вылезти. Там выдолблены такие пещеры, что и с возом можно развернуться. Вернулись в село, переночевали и на другой день пришли в Болехов. Евгений поехал во Львов, в своё Сельцо, а я в Ивано-Франковск — тогда ещё он был Станислав, — чтобы попробовать найти там себе работу. Захотел туда податься, уехать оттуда, из Ходачек.
Приезжаю в Станислав, зашёл в отдел народного образования, жду несколько часов приёма. Вышли двое на травку, чтобы посидеть отдохнуть. Смотрю: Лысов Иван Иванович, а второго не помню фамилию. Москали из Почаева. Спрашиваю: «Откуда вы здесь взялись?» Такой москалик, пьяница, дурака из себя строит, то-другое-третье. Я понял, что это они за мной следят, куда и зачем я поехал. Этот Лысов преподавал физкультуру в Почаевской школе. Был такой эпизод. Собрались мы на квартире в Почаеве — ещё Евгений там был, это в 1952 году осенью, это было воскресенье. Учителя, которые подружились, — Наливайко, Павлюк (уже покойный), Сверстюк и я. Вчетвером собрались, выпили вина и что-то болтаем себе. Приходит этот Лысов незваный, без всякой причины: хи-хи, ха-ха, да-да. Мы переглянулись и поняли, для чего он пришёл. Он видит, что мы его не принимаем и не воспринимаем. Думаем, что он хочет? Пусть рассказывает. Он болтал-болтал несколько минут, а потом — гоп — через окно выскочил из дома. А окно было открыто. Через окно — прыг, как придурок. Наливайко — он читал украинскую литературу — говорит: «Это тип нового советского человека, который всякие препятствия преодолевает и нет для него преграды ни в чём». Мы смеялись над этим.
И этот Лысов сидит в Станиславе, дурака строит, рассказывает какие-то анекдоты. Я пробовал устроиться где-то на Ивано-Франковщине. Мне отказали, и я поехал назад. Но в этом 1955 году я женюсь на Зиновии Тимофеевне Литвинчук. Меня никуда не отпускают, да и жена не хочет никуда ехать, она из Збаража Тернопольской области. Направляют нас только в Почаев, потому что там есть вакансия и для меня, и для неё — она украинскую литературу должна была читать.
Ну, направляют так направляют. Я не хотел был сначала, а потом думаю: Почаев — это хороший город. Я снова поехал в Почаев, и Евгений ко мне приезжал. Живём с женой на территории монастыря, квартиру нам дали в монастырском помещении. Старую школу, которая была на территории монастыря, превращают в сумасшедший дом, туда поселяют сумасшедших со всей области. А новую школу построили в другом месте. Здесь условия были немножко лучше, потому что монастырские помещения были неприспособлены для школы, такие очень высокие залы, всегда холодно было.
В эту школу привозит свою команду выпускник Кременецкого пединститута, бывший политрук в армии Стародуб Иван Никанорович, родом из Хмельницкой области. Я впервые был поражён, какие люди нас окружают, какая неблагоприятная среда создалась для существования человека, тем более для труда. Это были все, как на подбор, мерзавцы. Что доносчики, то само собой разумеется. Это были какие-то аморальные люди, это были маты в учительской, какие-то неприличные анекдоты. Этот Стародуб, этот Гавриш — это среда внеинтеллигентская. Представьте себе, что теперь меня, уже меченого, к которому позже слово «диссидент» подходит, окружает такая стая людей. Постоянно провоцируют. В классе, которым я руковожу, ученики задают такие вопросы, на которые отвечать трудно, но я стараюсь. Мне всё время поручают вести какие-то беседы на атеистические темы. Я отказываюсь, говорю, что я не специалист. Говорю, дайте мне на филологическую тему. Мне напоминают, как в 1953 году, когда Сталин дал дуба, я забастовал в этой почаевской школе. Забастовал потому, что по положению тогда преподавателям иностранных языков и за два часа должны были платить ставку, они же мне не хотели платить, а нагрузили меня предметами, которые я не хотел читать, по-моему, психологию, гигиену, ещё что-то. Я к этому не готов, чего я буду этим заниматься? Они мне не выплачивают тех 600 карбованцев, а платят 450 за то, что я читаю английский в двух классах. Я возмутился и не выходил на работу несколько дней, бастовал. Это было неслыханно в то время. Тогда меня вызывает комсомольский вожак, такой Погорелов, и говорит: «Вы на работу не ходите или что?» — «Не хожу, — говорю, — и не буду ходить, дайте мне открепление, я уеду отсюда. Не платят мне полной ставки, как положено». — «Так это вам, — говорит, — что, в Италии что ли?» Говорю: «Вроде бы не в Италии, но я на работу не пойду». Я добился того, что они начали платить мне полную ставку только за английский. Работы немного, но зарплата моя согласно положению, по которому надо платить ставку тем, кому не хватает часов, особенно где вводится английский язык. Месяц длилась эта забастовка.
Они вспоминают эту забастовку. Посылают как-то с инспектором районо в какую-то школу на проверку преподавания немецкого языка. Немецкий я не очень знаю. На проверку «в том числе немецкого языка». Поехали мы. Этот инспектор был хороший пьяница. Он из Киевской области. Организовали нам такие выпивки, что если бы пил всё, что давали, то никогда бы вверх было не взглянуть и глаза не расплющить — это была постоянная пьянка. Одни на уроки пошли, а другие пьянствуют, те пришли — с ними надо пить. Беспрерывно пили. И тот инспектор это всё выдерживает. Я попил-попил немного, а потом перестал, говорю: «Знаете что, дайте мне какого-нибудь супа горячего, или чая, потому что я не могу этого всего терпеть». А этот инспектор говорит: «Чай я и дома выпью, а тут вино, водка...» — накричал на меня начальник. Я промолчал, но перестал пить. Чая мне, правда, принесли. Я приезжаю в школу и, между прочим, рассказываю, что были мы с Петром Владимировичем — Вашека его фамилия — в такой-то школе и там он сказал, что чай он пьёт только дома. Я себе так поболтал, а уже вечером первый секретарь райкома проводит совещание и говорит: «Есть у нас такой инспектор районо Вашека, так он чая не хочет пить, а только водку». Вышло, что я будто донёс... Так что надо было осторожнее с этим...
Учителя этой школы как-то так неожиданно избрали меня председателем профсоюза. Ну, избрали, так начал я выполнять свои обязанности должным образом. Иду к директору с этим, иду с тем. Учителя высказывают жалобы — я их доношу и требую выполнения. Так они ещё раз собрали профсоюзное собрание и переизбрали, выгнали меня. Это была такая команда, что я такой нигде больше не встречал, — это были какие-то уродливые, отвратительные создания. Один из них рассказывал, что был в команде, которая охраняла какого-то вельможу в Киеве, не то Коротченко, и они имели право убить, кого подозревали, и он действительно убил кого-то.
Вот такая была команда. И они все закончили очень тяжело: какой-то внезапной смертью умерли — и Сандуливский, и Гавриш. Мне даже странно, как быстро наступила расплата людям, которые ведут себя абсолютно неприлично.
Подружился я уже с выпускником Львовского университета Калищуком (?) Петром Дмитриевичем. Впоследствии я так с ним сошёлся, что он стал моим кумом. Вызревает идея сделать какую-то организацию. Организация, которая боролась бы...
В.В.Овсиенко: Тут пан Пётр устал и не захотел больше рассказывать. Разговор продолжился только через два с половиной года.
В.В.Овсиенко: 29 апреля 2001 года пан Пётр Разумный продолжает свой рассказ, который начал 11 – 13 декабря 1998 года. Обстоятельства те же: в моей квартире в Киеве.
П.П.Разумный: Пан Василий заметил, что рассказ мой должен быть о том, как я стал убеждённым украинцем и обо всём, что с этим связано.
Я, кажется, уже говорил, что всегда был украинцем, с того времени, как начал думать о себе, — так мне кажется. Детство моё прошло под знаком того, что большевистская власть забрала в 1932 году отца и больше он не вернулся. Я всё время слышал и от матери, и от родственников, и от соседей, что нами правит банда, которая хуже тех панов, о которых говорили, что они плохие, что эта банда до добра не доведёт, что она злая. Из этого появилась моя неприязнь к власти. А ещё разговоры, которые велись в нашем доме между родственниками и соседями, сводились к тому, что Украину грабят, что она отдаёт всё, что забирает, — то немец, то Москва, а нам ничего не остаётся. Вот такие были разговоры. Особенно на этом настаивал дядя Денис, теперь уже покойный.
Второе — я получил закалку от очень многих перечитанных книг. Ещё с шестого-седьмого класса я начал читать Вальтера Скотта, Майн Рида, Жюля Верна. Наша школьная библиотека была полна украинских книг. Был и Диккенс, помню. Я полюбил его за стойкость его героев, за желание защитить тех, кто страдает, особенно в заключении, в крепости. Я вместе с ними переживал и сочувствовал им. Думаю, эти книги закаляли как-то мою волю.
А позже, как я уже где-то сказал, пришли немцы, которые прямым текстом называли нас украинцами, что мы порабощены большевиками. Это усилило моё украинство. В течение трёх лет, когда я был в Германии, я читал еженедельные газеты. Это была газета «Украинец» и, кажется, «Наше слово». Одну из них редактировал Игорь-Богдан Кравцив. Я запомнил это двойное имя и такую необычную для меня фамилию. Впоследствии он и, по-моему, {Ивасив или Василий?} часто выступал по радио «Свобода». Эти газеты учили нас, что мы — народ, который должен освободиться, что мы народ, порабощённый Москвой. Я думаю, что молодое поколение, жившее после войны, не имея такой информации, — оно лишилось возможностей становиться самими собой. В связи с этим я даже считаю, что времена войны были для меня таким романтическим фоном моей жизни, о котором всегда приятно вспоминать. Хотя неподалёку падали бомбы, стреляли над головами, но как-то Бог дал выжить, и я всегда с пиететом думаю о том времени, особенно о своём пребывании в Германии.
Но вернусь к хронологии своего рассказа. Почаев. Я уже говорил, что мне повезло. Я ещё в институте мечтал, как бы мне, закончив институт и пойдя в люди, встретить такого человека, с которым можно было бы не только говорить, но и что-то делать. Бог послал мне знакомство с Евгением Александровичем Сверстюком, который в 1952 году тоже приехал работать в Почаев после окончания Львовского университета. Мы подружились, и я поддерживаю дружбу с ним до сих пор. Это также был большой стимул, потому что он рассказывал мне много такого, чего я не знал. Например, рассказывал подробности убийства Ярослава Галана. Рассказывал, что его брат был участником повстанческого движения. Рассказывал, как и его, когда уже был студентом, хотели повстанцы завербовать, разыскивали его, но всё не случалось возможности его увидеть. Когда приезжали, его дома не было. И он не знает, как бы то было, не пошёл ли бы он с ними в лес. Я ему на это сказал, что я и сегодня готов пойти в лес, если бы меня кто-то повёл и сказал, что делать. Такой разговор был в Почаеве в 1952 году осенью. Он на меня так внимательно посмотрел и говорит, что то время прошло. До меня дошло, что я пересолил, мой разговор мог показаться даже провокационным.
Я, кажется, рассказывал, как мы с ним на Сочельник 1953 года демонстративно покинули учительскую конференцию. На Сочельник в Почаеве организовали районную конференцию учителей. Инспектор, по фамилии Смолий, набросился на Евгения: вот тут, мол, приехал из Львова такой мудрец. То ли его учили, то ли не научили, то ли он переучился, то ли недоучился, и вот с ним морока, он всё знает, он умнее всех. Евгений слушал-слушал это, собрался и ушёл. А я сидел позади него с краю. Я тоже пошёл за ним. Мне ничего не говорили. В тот же вечер мы поехали к нему в село Сельцо Гороховского района на Волыни. Как-то так удачно доехали, что ещё и на ужин успели.
В этом Почаеве у меня зародилась мысль, как бы создать какую-то организацию, которая бы что-то делала. Потому что всякая национальная борьба должна быть организована. Я похвастался своему другу Борису Скороплясу, похвастался Василию Стучинскому, теперь уже покойному, и они эту мысль одобрили. Как это начать? Ну, давайте начнём с того, что соберём взносы и подумаем, как бы это организовать. А когда я похвастался об этом Евгению, то он сказал, что это дело обречено на неудачу, причём очень быстро. «Пока вас трое, она ещё может существовать, как только дойдёт до четвёртого, до пятого — это уже риск». До меня дошло, что так оно и есть. Я поговорил со своими ребятами и мы закончили на том, что будем всегда говорить людям то, что надо, то есть агитировать, как сможем в этих условиях, когда за слово могут посадить в лагерь и в тюрьму. Это можно назвать пассивным сопротивлением. Я лично никогда власть не поддерживал, ни словом, ни делом.
Директором школы в Почаеве был комиссар времён войны, Стародуб Иван Никанорович. Он до сих пор жив — такой дюжий мужик. Он подговаривал некоторых учеников старших классов, чтобы они задавали мне какие-то провокационные вопросы, а сам ходил по коридору и подслушивал, что я там говорю. Спрашивал о Сталине. Хотя Сталин уже был официально развенчан, но жил в головах как вождь и учитель. Этот директор брал взятки за то, что выдавал фальшивые аттестаты. Его уволили, так он со мной страшно подружил, надоедал мне своими посещениями, всё рассказывал, какая это слабая советская власть, что если бы во время войны не было заградительных отрядов, то мы бы проиграли. Меня это очень удивляло, я его расспрашивал, как это оно было. Он рассказывал, что занимался дезинформацией, как создавалась дезинформация в Советском Союзе, особенно на оккупированных территориях и позже, когда выгоняли немцев из Украины. «Искали вот, — говорит, — бабу такую болтливую, что она всё село обойдёт и расскажет. Говорили ей какую-то прямую неправду и заказывали, чтобы она никому не говорила. Обязательно, говорит, сказать, чтобы она никому не рассказывала, так она тогда обязательно расскажет». Меня удивлял этот иезуитский способ. Но он хотел знать мою точку зрения. И так он жалел, что я ему не дал никакого материала, чтобы он погрел на мне руки.
В это время заезжает ко мне Гончар Иван Тарасович, с которым мы вместе учились. Он тогда с женой работал в Кривом Роге в пединституте. Зачем ты приехал? Я его не приглашал. Он говорит, что едет во Львов решать вопрос о поступлении в аспирантуру. А ко мне заехал, потому что, так сказать, по дороге. Ну, заехал так заехал. Он был два дня. Переговорили мы о многом. Я ему сказал два слова о возможности организации, но не подозревал, что он информатор. Я сказал, что всякие дела делаются через организацию. — «Какую организацию? Как ты себе представляешь?» — «Ну, — говорю, — как? Так, как это мы читаем в литературе».
В.В.Овсиенко: Пётр Разумный. Кассета четвёртая, 29 апреля 1999 года.
П.П.Разумный: «Сначала немного людей, потом больше. Программа и так далее». Из-за того, что я так сказал в первый день, он и второй день сидел, но я больше к этой теме не возвращался. Как потом выяснилось, он это изложил перед КГБ, и они меня долго, целый день мучили, когда арестовали в 1961 году, именно на эту тему: какую там ты организацию создать хочешь? Говорю: «Никакую, не слышал я такого». Я не признался, но догадался, кто это их проинформировал. Этот бедолага Гончар давно умер. Мне жаль, что он на такую тропу пошёл. Он внешне лучший человек, чем как он себя вёл.
Он ко мне приезжал и позже в моё село, но я убедился, что он агент. Я его не приглашал, но он нашёл мой дом (я жил на окраине села, так что трудно было найти). Вижу, идёт Иван Тарасович ко мне. «Как ты нашёл мой дом?» Говорит: «А по вывескам на улице».
Меня удивляет, что этот директор школы, Иван Никанорович Стародуб, привёз с собой в Почаев команду, состоявшую исключительно из доносчиков и провокаторов. Учитель физкультуры, учитель биологии, учитель физики — все люди мерзотные... Учитель русской литературы хвастался, что его предок был великим графом польским — Горохольский. И все они впоследствии должны были себя демаскировать, потому что случилось такое.
АРЕСТ 1961 ГОДА
В 1958 году я переехал жить в Кременец, оставил педагогическую работу, потому что заболел я. Нанялся сотрудником музея. А где-то в 1961 году мы с Борисом Скороплясом, моим другом, с которым мы планировали организацию создавать, но так и не создали, поехали в Дубно к одному его приятелю. Провели время за разговорами. Тот друг, как позже выяснилось, свидетельствовал против Бориса.
Мы зашли в книжный магазин в Дубно. В том книжном магазине доступ к книгам был непосредственным, а под стеллажами стояло такое большое стекло, которого нельзя было видеть, потому что оно насквозь прозрачное. Борис Григорьевич как-то неосторожно повернулся и разбил то стекло. К нам подошёл продавец и сказал, чтобы мы платили за стекло. Я сказал, что за стекло мы платить не будем, потому что в таком месте, где есть доступ к книгам, не должны стоять посторонние предметы. А если бы вы, говорю, положили здесь бомбу и шнурок к ней, а мы зацепили и она взорвалась, то кто был бы виноват?
В.В.Овсиенко: Кто платил бы за бомбу?
П.П.Разумный: Кто платил бы за бомбу, если бы она взорвалась? Он увидел, что мы не лыком шиты, и на этом кончилось. Мы поехали домой, тот Борис Григорьевич у меня заночевал. Наутро появляются к нам кагэбэшники с обыском и арестом. Я думаю, что им донесли об этом эпизоде, что здесь такие были, что разбили стекло и не захотели платить. Они увидели, что это была какая-то поездка, которую они не контролировали. Они следили за мной, я уже это хорошо знал, но эта поездка в Дубно оказалась вне контроля, поэтому они немедленно приехали к нам с обыском. Мы ещё спали, когда они пришли с обыском. «А кто это у вас здесь такой?» И сразу по карманам. Показали ордер — я уже знал, как проверить их право. Два майора, какой-то лейтенант и какая-то неопределённая личность, которая знала английский язык, потому что он заглядывал в английские книги. Во время обыска заглянул в «Оксфордский словарь», который мне прислал старший брат (уже покойный) из Польши. В нём было много примеров на советскую тему, и то очень интересных примеров, как бы на сегодня сказать, антисоветских. Они интересны мне были со стороны английского языка. И он, сукин сын, знал английский язык, перелистал этот словарь — а это триста страниц или больше. Взял да ещё и подчеркнул, позакладывал, и потом: «А это что, а это что?» Говорю: «Вы же видите, что там написано». Правда, «Оксфордский словарь» мне не инкриминировали.
Тогда забрали у меня некоторые материалы, которые уже издавались самиздатом. У меня было начало поэмы Владимира Сосюры, «Навколо радості так мало». Был стих Павла Тычины «На Аскольдовій могилі» — я записал его с «Голоса Америки». Несколько лет записывал, пока не записал слово в слово. Так же записал я стих Елены Телиги «Ніч була розбурхана і тьмяна». Записывал я, по-моему, три года, но таки записал по куплету, потому что не поймаешь сразу всё. Один провокатор — такой Лясевич, я с ним играл в шахматы — принёс американский журнал «Тайм», на английском языке. Там на первой обложке был портрет Хрущёва. Это 1961 год. Хрущёв тогда ездил в Америку и там его сфотографировали. Портрет, написанный каким-то художником Шаляпиным. Там Никита был такой отвратительный, страшненький. Я сказал этому Лясевичу, что он какой-то вроде бы не очень похожий. Он это донёс, но оставил мне журнал, чтобы я прочитал. Этот провокатор принёс и книгу, которая называлась «Сто тысяч», Тарнавского (?). Я её читал, они её у меня арестовали. Я сначала не говорил, откуда она, но когда до меня дошло, что это он мне намеренно их принёс, тогда я сказал: «Да это Лясевич принёс мне». Они успокоились и больше меня не спрашивали об этих книгах. Была у меня книга, которую он принёс мне, ещё и продал — «Иллюстрированная история Украины» Михаила Грушевского. Я её с радостью купил, даже попросил, чтобы он мне её продал. Он сначала не хотел, а на второй раз продал. Грушевского тогда уже научные круги читали по библиотекам, он фактически не был запрещён. Этот однотомник был издан во время революции, я помню.
Тогда они забрали много моих писем. Я так думаю, что они замечали, какие письма вычитали, а какие нет. Они допытывались, что там я писал, почему писал. Я тогда работал в Вишневце, а квартира моя была в Кременце. Так они обыскали меня в Кременце, потом повезли ещё и в Вишневец искать. А мой хозяин был такой цыганоподобный субъект, возмутился, что как это я посмел в его доме быть таким, что пришла милиция арестовывать меня, обыскивать — это я его опозорил. Говорю: «Не волнуйтесь». Он, правда, успокоился, но потом, когда жена моя приехала к нему за моими вещами, он высказал ей, как хотел, обругал меня заочно.
Повезли меня отдельно от Бориса Григорьевича Скоропляса — на «Волге». Доехали мы до Збаража и та «Волга» поломалась. Так они пересадили меня в попутную машину, довезли до Тернополя. Я это вспоминаю, потому что когда меня арестовывали в 1979 году, то также везли на «Волге», так же посередине зажали меня на заднем сиденье и снова она поломалась. Я и говорю этому подполковнику, который меня сопровождал: «У меня уже такое было, что везли-везли — и машина отказалась ехать». Он так на меня посмотрел через плечо. Но машина перестала ехать совсем, так пересадили в другую, ту машину бросили.
Привезли меня в Тернополь в КГБ и сразу допрашивать, что это у меня такое, потому что все мои записки взяли, все мои выписки из книг. Мне Евгений поставлял философскую литературу: Монтескьё, Монтень, Гельвеций, Шопенгауэр, Ницше — это всё я от него получил, эти главнейшие их произведения. Я читал, выписки делал, которые меня интересовали. Они всё это забрали — это была целая куча — и расспрашивают меня. Я сказал, что это «Навколо радості...» Сосюры взял в вагоне. «Вы все в вагоне, — говорит, — достаёте, а почему-то не говорите, где». — «Если в вагоне, так в вагоне, что ж я буду...»
Так шесть дней они держали меня на таких бессмысленных и ненужных допросах. Шантажировали, приходили такие мордовороты, натягивали какие-то перчатки на руки и махали руками — запугивали меня. А тот мой следователь будто и не видел их. Следователь раз несколько в день звонил: «Да когда же вы мне дадите дислокацию лагерей?» Он говорил, «дислокацию лагерей». Я сначала не понимал, а потом до меня дошло: да это же он меня запугивает, куда меня будут сажать. Ещё суда не было, а уже он мне рассказывает «дислокацию лагерей». Пришёл прокурор, такой дедок усатый, не очень развитый, как я понял. «Что же вы, — говорит, — это такое пишете, что Достоевский выплёвывал слово „революция“, так он ненавидел тех революционеров, а его печатают сегодня, а украинских писателей, которые никогда даже не упоминали о революции, не печатают». Говорю: «Так так же и есть». — «Ну как же так есть?» Тогда уже Достоевского разрешили читать. Прокурор доказывал, что я неправ. «Я не говорю, что я полностью прав, но я так думаю, что Достоевского печатают, но он менее полезен для советской власти, чем те писатели, которые не выступали против революции, не говорили, как Достоевский, что революция заберёт сто миллионов жертв». Где-то у него есть такая сентенция, я запомнил. Раз пришёл прокурор, другой... Меня держали там днём и ночью, кормили кефиром и булочками, а ночью сидел за столом какой-то дежурный кагэбэшник и читал все мои записки. Там же целые тома, их нельзя нормальному человеку прочитать за один день, и за два дня нельзя, я много написал. Где же они? Мне часть отдали.
На третий день приходит следователь с прокурором. Тот ночной сторож возле меня, а я сплю на диване сидя, иногда прикладываюсь — он разрешает мне прилечь. Этот помощник следователя, он же мой ночной сторож, говорит: «А он занимается философией». Тот что-то муркнул, ничего не говорит — так ведь для того тебе и дали читать, чтобы ты ознакомился, чем он занимается. В предпоследний день ведут меня в гостиницу «Центральная», там заводят в комнату: «Вот здесь вы будете ночевать, только никуда не уходите». Он меня уговаривал, будто я под подпиской. Говорю: «Я подписку не давал». — «Все равно никуда не уходите». Там был мой друг, Борис Григорьевич Скоропляс, которого вместе со мной арестовали, привезли еще одного моего кума, с которым я крестил сына Тараса, — Петра Дмитриевича Калищука. Нас оставили ночевать втроем в одной комнате. Я понял, что они хотят нас подслушать, и сказал, что говорить ничего такого не будем, а просто поговорим о том, как у кого здоровье и как кого кормили. Я говорю, что вот уже шестой день сижу, Борис Григорьевич говорит, что он только три дня, а второй сказал, что его сегодня специально привезли в Тернополь. Я говорю: «Давайте поспим хорошо, а то я там сижу, на них смотрю, а они на меня, и мне уже, — говорю, — так осточертело, лучше поспать нормально». Переночевали мы, утром за мной пришли и забрали, а их отпустили. То есть свели нас для того, чтобы мы втроем переночевали вместе в одной комнате.
Заставили меня писать свою биографию. Я сначала думал: писать или не писать? А потом думаю, что я могу написать — напишу, так сказать, в сдержанных тонах, основные вехи своей жизни. В основном, остановился на том, как жил в Германии, как там переводчик Стефан, польского происхождения, мучил нас — немцы нас так не мучили, как он. Я целый день потихоньку писал... Я хотел бы теперь эту биографию у них забрать. Когда мы с вами жили вместе на Борщаговке, я писал в КГБ, чтобы мне вернули мои бумаги. Мне сказали, что все архивы находятся на Аскольдовой улице. Я так туда и не пошел, а надо было пойти. Я собираюсь когда-нибудь забрать все свои письма, мне хотелось бы забрать ту биографию, записки... Когда меня арестовывали в 1977 году в Ивано-Франковске, то при мне майор Харченко, который руководил этой командой, которая меня допрашивала, потребовал, чтобы немедленно заказали копии моих дел из Тернополя. Они их заказали и показывали мне. Так что они должны быть и в Ивано-Франковске. Я должен их раздобыть.
Я бы сказал так: не было у них материала, чтобы меня держать. В некоторые дни им самим было уже скучно со мной. Был такой майор Смирнов, среди них самый культурный, а второй, майор Черезов, вообще был баран. Эти были самые старшие. Вскоре после того, как меня отпустили, я видел одного и другого — майоров Черезова и Смирнова. Ко мне брат приезжал в Тернополь, мы ходили в гастроном, и они, видно, нарочно показались мне в гастрономе. Оба уже имели звание подполковника. Я думаю: «Дешево даются вам звания, за такую операцию — подполковника. Оба были майорами — через неделю стали подполковниками». Этот Черезов был такой ехидный и крикливый, зверился на меня, перекривлял меня. Я говорю: «Вы меня передразниваете, это как-то несолидно». Тогда он перестал. Он как-то подошел ко мне вплотную: «Ты что, хотел быть гетманом?» Я говорю: «Как сказать? Так же, как вы хотите быть генеральным секретарем, так и я хочу быть гетманом, наверное». А тогда генеральных секретарей не было, тогда еще был Хрущев — первым, а не генеральным. Он замолчал и больше таких вопросов мне не задавал. Я бы сказал так. Этот арест был какой-то бессмысленный, ненужный и без материалов.
В. В. Овсиенко: Это какой год?
П. П. Разумный: Шестьдесят первый. Это было 25 марта, во время каникул. У нас с Борисом Григорьевичем Скороплясом была возможность и случай поехать в Дубно, а они думали, что мы в Дубно что-то такое взяли, — и вот они нас бы и накрыли.
Как эта история закончилась? Вот так. Отпустили меня через шесть дней, я третьего апреля приехал в Кременец, продолжил работу в Вишневце учителем английского языка. Но со мной уже никто не хотел разговаривать, все были настороже. Разве что кроме учителя истории, Безрогого. Он ко мне относился, можно сказать, лояльно, я об этом скажу чуть позже. Меня в Вишневце подозвал какой-то капитан и сказал, чтобы я отсюда уезжал, а то они меня отсюда вышлют. Я посоветовался с женой, и мы решили, что надо мне подать заявление и уехать отсюда в Днепропетровскую область, в свой район, и там попытаться найти себе работу. Так мы договорились, и я это сделал. Я подал заявление, летом уехал и устроился на работу. А Борис Григорьевич сбежал в Запорожскую область, не писал мне с полгода. Его нельзя было найти. Может, КГБ знало, но я не знал, где он жил.
Я доживаю до тридцатого августа в Соленом Днепропетровской области, где уже устроился на работу. Приходит из милиции мне уведомление явиться. Я явился. Требуют от меня немедленно ехать в Вишневец Тернопольской области. Я говорю: «У меня нет денег, я не поеду». — «Тогда поезжайте в КГБ Днепропетровской области, в отдел КГБ, вас там вызывают». Думаю: «Поеду». Поехал я. То же самое мне говорят: «Надо поехать». — «Зачем, — говорю, — ехать?» — «Там будет общественное обсуждение вашего поведения». Я говорю: «Ну, раз надо, поеду, но, — говорю, — у меня денег нет». Дают мне деньги. Долго при мне оформляли, расписываются за те деньги — видно, тоже была серьезная борьба с хищениями, но дали. Я забыл сказать, а обратно же как? Дали только туда, а обратно не дали. Но я подумал, что раз дают, то уж дают. Десять рублей тогда дорога стоила.
Я приехал — и что же? На третье, как я сейчас помню, сентября назначено общее собрание учителей всего Вишневецкого района, и там должны обсудить мой вопрос и Скоропляса: он тоже работал в Вишневецком районе. Приехал капитан с командой, двумя лейтенантами, они и ведут это собрание. Посадили меня спереди, собрались все учителя, такая торжественная обстановка, все какие-то перепуганные, уже знают, что тут будет, бандеровцы или что-то такое.
Сначала выступил капитан и рассказал, что вот, мол, люди, которые занимаются антисоветской пропагандой, завелись и у вас. Это рецидивы бандеровщины, которая сегодня проявляет себя в разных ипостасях. Я попрошу товарища Дорошенко, — такая красивая фамилия, а типичная кацапка, — она расскажет, что такое бандеровщина, если, может, кому-то еще неизвестно. Это же был 1961 год, некоторые уже и позабыли. И она рассказывала таким патетическим тоном, как это кацапы умеют, крикливым, шумным, как ее муж работал в отделе КГБ в Вишневце, как он боролся за советскую власть, как бандеровцы застали его где-то в чайной в каком-то селе и закололи вилками. Такая вот смерть, думаю... Вилками надо долго колоть, потому что они алюминиевые, попробуй ими заколоть.
Еще одна выступила, уже не кацапка, а какая-то более сдержанная. Выступил учитель истории Безрукий — между прочим, я хотел бы к нему зайти, как буду в Вишневце, если он жив, — он моложе, должен быть жив, — я удивился: абсолютно толерантно выступил и не осудил меня так, как хотелось бы тем организаторам. Говорил только о моральных аспектах этого дела, что историю можно толковать так или сяк и не обязательно делать из этого такие большие хлопоты — примерно в этом тоне. Выступил директор школы, фамилия Потриденный. Я тоже удивился, что он выступил не в русле, желательном для кагэбэшников. Он даже рассказал, к моему удивлению, что был на собрании, где Сосюра читал свое стихотворение «Любіть Україну» публично, при большой аудитории, и никто ничего. А у меня это стихотворение забрали и продемонстрировали, что это стихотворение осуждено. Это стихотворение было уже опубликовано после осуждения. Были решения партии, но сейчас, мол, другое время, оттепель.
Тогда предоставляют мне слово. Я рассказал, что все то, что у меня взяли, — Грушевский, Тарнавский — это страницы истории, которые мы не можем вот так собраться и стереть. Я сказал, что Грушевского сегодня используют наши историки, я назвал фамилию автора учебника «Истории Украины», который как раз тогда вышел, Рыбалко, или Рыбальченко. Говорю, этим учебником можно проиллюстрировать то, что я говорю. Грушевского используют, утилизируют и одновременно запрещают. Это, говорю, какая-то странная практика. Капитан перебивает, говорит, что я должен напомнить, что Разумный себя вел на допросе не... как это он сказал? ...не честно, не откровенно, а так, что на прямые вопросы отвечал увертками, чтобы вы не думали, что он тут такой мудрец. На этом допросы и выступления закончились.
Выступил секретарь райкома по идеологии — я бы его тоже хотел теперь увидеть. Он так завелся, что кагэбэшник вынужден был его останавливать: у него уже пена на губах, как у коня. Он забыл, о чем говорит: «Как в истории бывает, что, может, бывают некоторые обиженные люди, но это не значит, что надо эти обиды держать постоянно». Он тоже говорил не агрессивно, а в плане «моралите». Так что я не сказал бы, что меня там осуждали, кроме кацапки. Но резолюцию предложили такую: просить соответствующие органы лишить Разумного Петра Павловича возможности работать в школе. Это работа идеологическая, и калечить детей мы не позволим никому. Коммунистическое воспитание такой педагог не обеспечивает, мы движемся не в том направлении, как Разумный... Итак, «просили компетентные органы». На этом и кончилось.
Итак, это было 3 сентября 1961 года, как раз начался учебный год, как меня вызвали, дали десять рублей, и я поехал в Вишневец на этот суд. «Где, — спрашивает меня этот капитан, — этот Скоропляс делся?» Говорю: «Я не знаю, он меня не уведомлял, где он делся». — «Ну, мы до него доберемся», — мол, он. Он должен был бы тоже приехать на этот суд, а осудили только меня одного.
На этом кончилось, учителя разбежались, я поехал домой. Никто меня не трогал, но подослали новых людей, которые меня окружили. Ни с того ни с сего приехал из Днепропетровска кандидат сельскохозяйственных наук из Института кукурузы Гринченко, который, оказалось, хорошо знает английский язык. Как-то познакомился со мной за шахматной доской. Так же за шахматной доской познакомился со мной и доносчик Лясевич в Кременце. И этот подошел и завел со мной дружбу. Я видел, что вроде симпатичный человек, можно с ним разговаривать. Он предложил мне писать ему письма на английском языке, а он будет отвечать. Я не увидел в этом ничего странного или подозрительного и написал ему письмо. Он ответил на английском языке таким совершенным почерком, с очень грамотным вступлением и прощальными словами. Это меня поразило, я бы так не смог написать. И главное — абсолютно американский почерк. Даже не английский, а американский, потому что нас учили писать английской каллиграфией. Нам говорили, она значительно отличается от американской. Например, буква «Ай» пишется большая. Я увидел, что это человек очень грамотный. Когда он приехал ко мне, я спросил, где он учился. Он мне рассказал, что учился в одной школе, а потом бросил ту школу. До меня дошло: видно, на шпиона его готовили. Я его не боялся после этого. Он не вызывал меня на какие-то разговоры. Видно, инструкция была такая, что с меня много не возьмешь, потому что я ничего такого и не делаю, однако могу иметь планы, потому что хотел создать организацию. Может, я пропустил, что в Тернополе от меня два дня требовали, какую организацию я хотел создать? Я говорил им, что никакой организации я никогда не планировал. Но я догадался, кто это им сказал, — тот Гончар Иван Тарасович, который ко мне заезжал.
Этот Гринченко приезжал ко мне много раз и писал мне хорошие письма. Мне даже интересно было посмотреть: таким каллиграфическим почерком, что я был очарован теми письмами. Где-то они у меня хранятся. Я потерял контакт с ним уже после того, как в 1969 году меня снова обыскивали и снова была проблема с кагэбэшниками уже из Днепропетровска.
Итак, я начинаю работать в Соленом. Несколько раз ко мне подходил такой симпатичный заведующий роно и допытывался: «Зачем ты ездил в Вишневец?» Я придумал формулу: как свидетель, там велось одно дело. Он мне не поверил, потому что, думаю, был проинформирован, но просто он хотел мой комментарий к этому. В Соленом я не нашел себе никаких сообщников, кроме всяких скандалов, в которых меня объявили националистом. А почему националист? Потому, что никогда не переходит на русский язык, никогда им не пользуется. Одна сказала: «Он ужасный националист». Мне это донесли, и я спрашиваю: «Тамара Иосифовна, а почему я „ужасный“? Ну, пусть будет просто националист. Я уже привык к тому, что я националист, а почему „ужасный“?» Когда-то я напомнил ей об этом (она еще жива), так она решила, что я обижен до сих пор. Она очень смутилась. Но я тогда не был возмущен. Я припоминаю, что когда-то после ареста 1969 года какой-то тракторист подошел ко мне — я пил пиво в буфете — и спрашивает: «Это правда, что вы националист?» Говорю: «Правда». — «Ну, вы уж осторожнее, чтобы как-то...» Я говорю: «А для чего?» Я это записал, вел такой маленький дневничок. Они в 1977 году уже в Ивано-Франковске это вычитали и допытывались, почему это я признавался, что я националист. Что это такое — националист? Я рассказывал им, почему я националист.
ДЕЛО ИВАНА СОКУЛЬСКОГО
Тут я уже познакомился с Иваном Григорьевичем Сокульским.
В. В. Овсиенко: А когда именно?
П. П. Разумный: Я думаю, это было в 1965 году, когда я услышал, что арестовали Афанасия Заливаху, Ивана Светличного, Горыней. Это я слышал по радио и от Евгения Сверстюка услышал, потому что я к нему ездил.
В. В. Овсиенко: А Сверстюк тогда где был?
П. П. Разумный: А Евгений тогда был в Киеве, работал секретарем в Институте ботаники, по-моему, под руководством Зерова.
В 1968 году появляется роман Олеся Гончара «Собор», который наделал большого фурора вообще на Днепропетровщине, и особенно в Соленом. Я его успел купить. Его раскупили напрочь. Помню, как только я купил, как райкомовцы прибежали после меня: один бежит, второй из райкома — все купили по экземпляру. Тогда еще не было гонения на Гончара, роман только появился в продаже.
В. В. Овсиенко: Он появился в первом, январском номере журнала «Вітчизна», а где-то так уже в марте появилась книга в серии «Романы и повести».
П. П. Разумный: «Романы и повести». Я тоже купил и в твердой обложке.
В. В. Овсиенко: Да, вышел и книжкой в белой обложке.
П. П. Разумный: Мы с Сокульским бегом эту книгу вычитали, обсудили. Помню, он написал такой детальный, хороший комментарий к ней. Мы поддерживали связь. Он ко мне приезжал, я к нему приезжал. Я брал у него пишущую машинку и начал учиться работать на ней, потому что я еще никогда не печатал. Это была старая машинка, типа как вот у вас, но немножко больше.
В. В. Овсиенко: Может, «Москва»?
П. П. Разумный: О, типа «Москва», правильно. Такого типа, и довольно-таки тяжелая она была, я помню, хорошо отбивал ею руки. Я брал у него пару раз, учился и так перепечатывал кое-что. В 1966 году я подаю на развод со своей женой и уезжаю работать в село Песчаный Брод Кировоградской области. Это село населено с XVIII века переселенцами из Молдавии и Сербии, они совсем не украинцы, и что удивительно: они все украинизированы, но поют молдавские песни, и оркестр каждое воскресенье в Доме культуры играет молдавские мелодии. А говорят все на украинском языке. Такое вот было село.
В. В. Овсиенко: У меня тут есть снимки могилы Ивана Сокульского.
П. П. Разумный: Я этого креста не видел, надо будет поехать когда-нибудь.
В. В. Овсиенко: Я совсем недавно там был.
П. П. Разумный: Когда я в 1966 году развелся с женой, то не знал, где себя приютить. Поехал к Евгению Сверстюку, он познакомил меня с молодым человеком по имени Валерий Илья. Он тогда занимался садовыми делами: сторожил в саду целое лето, за это платили маленькие деньги, а потом платили яблоками, эти яблоки продавали и так как-то концы с концами сводили. Вот и я поехал с Евгением к нему в сад. Это где-то в Яготинском районе. Там и меня приняли в сторожа, собаку мне подарили, такого молодого овчара. Я там пробыл целое лето, но, поскольку мы с женой поделили детей — она забрала маленького Павлика, а я взял старшего, Тараса, — то я должен был закончить эту работу и искать где-то себе постоянную, чтобы с ребенком жить, потому что в саду не будешь жить целую осень. Я решил в конце лета устроиться на работу. Поехал в Херсонскую область, дали мне в селе Дутчаны работу учителем. Это прямо на Днепре. Я выбрал себе на Днепре, недалеко от Никополя. Я там бы и задержался, но мне надо было перевезти свои вещи из Соленого в Дутчаны. Я договорился с директором школы, чтобы он перевез. Он деньги с меня взял, а не перевез. Не перевозит и не перевозит. Мне надоело это, я сказал: «Давайте мне деньги назад, я не хочу у вас работать». Я увидел, что это какой-то мошенник. Он отдал мне деньги, обругал меня последними словами, а я сказал ему на прощание: «Я вам прощаю то, что вы мне говорили. Смотрите на своих лебедей. Я вижу, у вас лебеди». У него в доме лебеди, такой примитивный рисунок — лебеди целуются. Это основное украшение его гостиной. Он на меня посмотрел и понял, что я насмехаюсь: «Любуйтесь на своих лебедей, только не трогайте меня».
Я сел на автобус и поехал в Кировоград. Дают мне работу: «Позвоните в Добровеличковский район». Я позвонил, заведующий говорит: «Я вас не вижу, как мне взять вас на работу?». Говорю: «Не видите, но мне сказали не ехать, а позвонить вам. Если вам нужен учитель, то я приеду». — «Вы признайтесь, вы пьяница или нет?» Я признаюсь: «Не пьяница». — «Ну, тогда поезжайте».
Дают мне работу в Песчаном Броде. Я уже говорил, что это молдавское село. Я с сыном Тарасом там поселился на квартире у одного деда и бабы, уже довольно старенькие были люди. Я сообщил Валерию Илье и Евгению, что я уже на работе. Туда сообщил, где с ними познакомился, а также с Мыколой Холодным, который тоже там со своей собакой подвизался и сторожил, зарабатывал так же, как Валерий Илья. Поскольку мы с ним познакомились — я ему написал несколько писем, — то он решил приехать ко мне зимовать. Говорю: «Приезжай. Комната большая, нас двое, будешь третий, — я описал ситуацию, — приезжай».
Он приезжает ко мне где-то так поздней осенью, когда уже получил те яблоки и продал. Валерий Илья заставил его купить для меня одеяло: «Купи, — говорит, — может, он без одеяла». Привез он такое хорошее новое шерстяное одеяло, оно до сих пор есть у меня, уже старое, но я его использую. Это было осенью 1966 года. Мыкола Холодный, с которым я познакомился ближе, начал пользоваться моим библиотечным абонементом. Ему присылали книги. Не ему, а библиотеке, он их брал домой и читал, разрешали ему.
Я через него познакомился с произведениями многих писателей двадцатых годов, которых у меня не было, в частности, с Михайлем Семенко. Я зачитался Семенко, и Мыкола его очень любил читать. Потом эту литературу рассматривали как недозволенную. Но главное, пожалуй, было то, что дед, у которого мы жили, ходил в школу вместе с женой Нестора Махно. Он называл ее Одаркой. Правда ли это, Одарка она, вы знаете это?
В. В. Овсиенко: Не знаю.
П. П. Разумный: И я никогда не проверял, но помню, что он называл ее Одаркой, что она дочь жандарма, дочь интеллигента, по тогдашним меркам. И что Махно, когда отступал, то остановился в Песчаном Броде, то есть в родном селе его жены, и стоял три недели. И что у Махно было дисциплинированное войско, что он очень карал за непослушание и мародерство, что в его присутствии он расстрелял двух мародеров, которые украли корову и зарезали, хотели сожрать, но он их расстрелял собственноручно. Это дед рассказывал. Когда на станции Помошная — это семь километров от Песчаного Брода — появилось какое-то войско (дед не знает, какое войско, два эшелона прибыли), то Махно отправился туда на своей тачанке, обстрелял из двух пулеметов те эшелоны, и те эшелоны исчезли, как корова языком слизала, сбежали из той Помошной. А со стороны Махно только трое поехало — такой он был отчаянный. Это дед рассказывал как то, что он видел своими глазами.
И вот Махно решает со своим войском отступать дальше — это 1920 год — и забирает деда в обоз. Махно мобилизовывал мужиков с бричками и лошадьми перевозить его добро и амуницию, мобилизовали и деда. Говорит, постоянно нападают партизаны или какое-то войско. Махно отбивался, маневрировал, и опасно уже стало, что могут напасть большим войском, так и меня, говорит, убьют. Так я, говорит, решил сбежать. Но как сбежать? Один, говорит, передо мной сбежал, так его догнали и расстреляли. Ну, так я перестал думать о побеге, но как-то случилось, что к нему приблизилась эта Одарка на коне — она руководила кавалерией у Махно. Говорит, я схватился за стремя и спрашиваю: «Узнаешь меня?» Узнала. Попросил у нее, чтобы она его отпустила. Она дала ему записку. Он передал амуницию другим и три недели добирался домой лесами и оврагами, но добрался.
Это произвело на Мыколу Холодного такое впечатление, что он решил написать о Махно поэму. Я ее не читал. Вы ее читали?
В. В. Овсиенко: Нет.
П. П. Разумный: Когда мы праздновали 60-летие Мыколы Холодного (в Доме литератора в Киеве 31 сентября 1999 г. — В.О.), то вспоминали об этой поэме «Нестор Махно». Я думаю, рассказы этого деда были стимулом. Дед много рассказывал о Махно, он был им очарован, дед любил Махно.
В том Песчаном Броде я пробыл только год и решил поехать назад, потому что моя бывшая жена решила замуж выходить, а я занял ту квартиру, в которой мы жили раньше.
В. В. Овсиенко: Пан Петро, когда-то вы рассказывали, как были с Мыколой Холодным на предвыборном собрании писателя Василия Козаченко.
П. П. Разумный: Точно, там такое было. Весна 1967 года. Тогда были выборы в Верховный Совет Украины. Нас повезли на встречу с кандидатом в депутаты Василием Козаченко. Я о нем только тогда и услышал, о его писательских подвигах. Именно тогда в районной газете упоминалось его произведение, называлось «Письма из патрона». Будто на оккупированной территории какой-то великий патриот Советского Союза пишет письма и прячет их в патрон, чтобы они не пропали, чтобы будущие поколения почитали о том, как героически были настроены советские люди. Словом, это была какая-то такая агитационная чушь. И вот когда нам представили его как кандидата в депутаты — это был первый секретарь бюро райкома и все прочие чиновники, — то его в основном называли автором этих «Писем из патрона» как выдающегося произведения современности. Я сидел спереди, Холодный сидел рядом со мной. Я пишу кандидату записку, что вот такие люди, как Светличный, как Заливаха, сидят в концентрационных лагерях ни за что ни про что, так собирается ли он, когда мы изберем его в Верховный Совет, выступить с какими-то законодательными инициативами, чтобы таких арестов и осуждений больше не было? Такую примерно записку я написал и передал ему. Козаченко ее прочитал, вздохнул и спрятал, как я помню. Но когда после этого собрания был фуршет, куда пригласили и Холодного, потому что он был знаком с ним или как-то так, может, назвался, что он знаком. Мыкола рассказывал: «Козаченко как выпил первую рюмку, то сказал: „Фу, и тут они есть — в Киеве есть, и тут они есть“. И показывает мою записку Холодному».
А был еще такой эпизод в Песчаном Броде. Приехал лектор из обкома с международной лекцией. Талдычил-талдычил чепуху, какую Советский Союз ведет удачную политику на международной арене, какой он авторитетный, как трудящиеся всего мира любят Советский Союз. Я ему ставлю прямой вопрос: «Как это понимать: Советский Союз поддерживает таких хороших парней, как Гамаль Абдель Насер в Египте, как Кваме Нкрума из Ганы — это же диктаторы, которые единолично управляют, которые создали деспотические формы правления, а вы их восхваляете как какой-то образец?» Как он на меня взъелся, этот лектор: «Это враждебные взгляды! Гамаля Абделя Насера нельзя называть парнем — это друг Советского Союза, а вы его так пренебрежительно называете!»
В. В. Овсиенко: Он «идет по социалистическому пути».
П. П. Разумный: Ага. «А Кваме Нкрума — это наша надежда на берегах Западной Африки». Я замолчал и больше ничего не говорил. Он накричал на меня, запомнил меня и показал на меня пальцем: «Вот, — мол, — враждебное представление о наших друзьях за рубежом».
В. В. Овсиенко: А не в том ли селе женщины вас поздравляли с «праздником всех мужчин» — 23 февраля, а вы их потом с 8 марта?
П. П. Разумный: Я помню, как это было.
Итак, мы завели дружбу с Иваном Григорьевичем Сокульским и часто с ним виделись. Он ко мне приезжал вместе с Кузьменко Олесем (уже тоже покойный). Иногда приезжал на грузовом автомобиле, на котором работал Кузьменко. Завелись у нас хорошие взаимоотношения, мы начали обмениваться самиздатовскими материалами. Я брал у него пишущую машинку. Брал и отдавал, брал и отдавал. Учился работать на ней.
В. В. Овсиенко: А что вы печатали на этой машинке?
П. П. Разумный: Я сейчас расскажу. Сначала я перепечатывал «Иван Котляревский смеется» Евгения Сверстюка, перепечатал другие вещи Евгения. По четыре экземпляра закладывал, потому что та машинка тонкую бумагу плохо отбивала. Она была какая-то расхлябанная, старая, но как-то получалось, можно было читать. Первые два оттиска более-менее, а третий-четвертый совсем плохие были, но можно было читать.
Осенью 1968 года беру у Ивана машинку с целью перепечатать «Интернационализм или русификация?» Ивана Дзюбы и говорю: «Я тебе отдам все экземпляры, а себе оставлю два — для себя и еще для кого-нибудь, как напечатаю». Я ее держу целую зиму — это был декабрь, январь и февраль. Я тогда уже работал кочегаром и имел много времени: сутки работал, а сутки дома сидел. Неплохо зарабатывал, содержал ребенка и себя содержал, потому что та работа была более-менее оплачиваемая. Тогда в наших краях была большая снежная буря. Такая буря, какой я никогда в жизни не видел. Где-то полтора месяца с маленькими перерывами — темное небо, темное солнце. Та почва с востока, поднятая в воздух, шла на Украину и, может, даже до Молдавии доходила, а в наших краях она была самой густой.
В. В. Овсиенко: Это она из Казахстана или с Северного Кавказа?
П. П. Разумный: С Северного Кавказа, говорили, а может, из Казахстана.
В. В. Овсиенко: Распахали степи, о которых пророк Магомет говорил: «Не смей и носком сапога ковырнуть эту землю».
П. П. Разумный: Да, очевидно, аж из Казахстана. Под этим покровом я напечатал три закладки по четыре экземпляра работы «Интернационализм или русификация?». Итак, двенадцать штук. Это была такая адская для меня работа, потому что у меня не было хорошей практики.
В. В. Овсиенко: Это же огромная работа! Сколько там страниц?
П. П. Разумный: У меня получалось, как я сейчас помню...
В. В. Овсиенко: Наверное, сто – сто пятьдесят?
П. П. Разумный: Да нет — двести! Двести получалось, потому что печать у меня была с такими большими полями. Двести с маленьким хвостиком, как я припоминаю, страниц было. Я печатал только с одной стороны, потому что бумага тонкая. Итак, я напечатал и позже удивлялся: никто не зафиксировал. Кругом были доносчики, сверху жил доносчик, бывший мой школьный приятель Кабальченко. Та буря всех успокоила, я под ее покровом совершил этот подвиг. Я бы сказал, что это в моей жизни единственный большой подвиг. Я так отбил свои руки, что должен был потом руки обматывать бинтами. Работал только двумя пальцами. Это невозможно — я думал, что у меня пальцы вообще пропадут — так они болели, что я их уже не чувствовал. Сначала отбил я их голыми, а потом обмотанными. Я работал так усердно, что мне и спать не хотелось — так мне нравилась эта работа. Я еще раз прочитаю, я еще раз прочитаю... Я передал Сокульскому десять экземпляров, а два себе оставил. И отвез машинку, припоминаю, в мешке: вот так взял мешок на плечо, будто там что-то такое бесформенное, и повез. Договорились мы с ним, где встретимся. И ничего — он взял тот мешок и повез домой. Если бы зафиксировали это, то немедленно нас бы арестовали, потому что машинка тогда была серьезный криминал: незарегистрированная. Прошел номер.
Летом 1969 года я решил ехать в сад с Валерием Ильей сюда, в Вышгород, тут есть село Петровка. Нас приняли на работу. Евгений Сверстюк тогда жил на Андреевском спуске. Я купил собаку, а потом так же продал ее, потому что без собаки не принимали на работу сторожем, собака нужна была. Мы работаем, каждый день слушаем радио «Свобода» и слышим, что арестован Сокульский Иван Григорьевич, находится в днепропетровской тюрьме. (Иван Сокульский был арестован 14 июня 1969 года. — В.О.) Я себе думаю, что без меня, пожалуй, то дело не обойдется. И так уже переживаю, что мне делать: ехать ли домой, не ехать ли? Я взял с собой в сад сына своего на каникулы. Они, очевидно, не посмели меня с сыном возить туда-сюда. Приехал ко мне председатель сельсовета с какими-то двумя депутатами, довольно подозрительными, это, наверное, кагэбэшники были. Приехал и говорит, что вот на вас поступило заявление, что вы кого-то тут избили. «Никого я, — говорю, — не бил». — «Не бил? Ну, напишите объяснение». Говорю: «Зачем я буду писать, если я никого не бил? Пусть напишет тот, кого я якобы бил. Сначала пусть он напишет. А он, — спрашиваю, — написал заявление? Он же вам не подал заявление, а я чего буду писать?» И они отцепились от меня. Я позже догадался, что это была разведка. То есть они знали, где я, — позже я услышал от них, что они знали, где я, — но не трогали меня. А следствие Ивана уже шло на полную мощность. Я приезжаю домой — это уже было в октябре — и чувствую, что меня могут взять. Потому что слышу, что Ивана держат, — значит, без меня не обойдется, это само собой разумеется.
Только я приезжаю домой, сразу прячу свои материалы. Там у меня были и фотокопии — Евгений мне дал — книги Ивана Кошеливца «Современная литература в Советской Украине». Еще что-то было — не припомню других авторов — это был такой хороший пакет. Был у меня один экземпляр «Русификации» Ивана Дзюбы. Один я уже отдал Борису Скороплясу, а этот у меня был. Что делать? Думаю, спрятать в погребе? Полезут туда — действительно, лазили туда, и, если бы я там спрятал, нашли бы. Что я делаю? Решился я рискнуть. У меня там три комнаты было, коридорчик такой же узенький, как вот у вас, и такая вешалка, как у вас. Там навешано старых шинелей. Матраса не было, ничего — нищета такая была — шинель я подстилал под низ. Так я позапихивал это все, что имел — килограммов, может, пять, не меньше — в рукава. И так туда поглубже — а там очень много было навешано. И ничего.
А на следующий день утром встаю и вижу, что я окружен. По чему я увидел? Один доносчик стоит там, второй там, из окна видно обоих. И никуда не уходят, стоят на месте. Один в редакции работал, второй заведовал спортивным отделом — такие были их работники. У меня так как-то на душе неспокойно. Я двинулся в гастроном идти. Только я вышел туда метров на триста, как навстречу мне идут двое, представляются — один майор Соломин, второй лейтенант Калюжный, кажется, — что у них есть ордер на обыск. Говорю: «Покажите его». — «Пойдемте к вам в квартиру, покажем». Ведут меня домой, уже понятые у них подготовлены — сверху жила женщина и одна соседка, и те пришли. Предъявили мне такое, что, согласно данным арестованного Сокульского, у вас могут находиться материалы, порочащие советский...
В. В. Овсиенко: ...государственный и общественный строй.
П. П. Разумный: ...государственный и общественный строй, поэтому сдайте их нам. Говорю: «Нет у меня таких материалов». — «Ну, раз нет, тогда мы начинаем их искать, вот есть разрешение». Показали ордер, право на обыск. Те двое понятых сидят перепуганные. Лейтенант ищет кругом, а майор Соломин за стол сел. Тот подает книги, он их листает. Нашел у меня в одной книге нарисованный сине-желтый флаг — я сыну показал, какой у нас флаг, а он его нарисовал. Нашел три фотографии порнографического содержания, которые я привез еще солдатом из Германии. Теперь такие фотографии везде, а тогда это была порнография. Нашел, протокол завел, записывает в протокол. И больше такого ничего не нашел. У меня есть копия того протокола, надо будет восстановить, что они у меня взяли тогда. Пошли сначала в библиотеку, осмотрели там, вытащили такое, что не имело существенного значения, и были явно разочарованы. Я вижу, они между собой переглядываются, потому что ничего нет, куда же оно делось? Я потом узнал, что они видели эти материалы. Я потом расскажу, как обнаружил следы того, что они видели. А тогда, когда лейтенант подошел к этому месту, где материалы висят в рукавах, — вы не поверите — я сижу на кровати и вижу, мне если набок повернуть голову, то все хорошо видно, — у меня сердце начало колотиться — вы не поверите — как молотком. Я думаю, сейчас этот Соломин услышит, что у меня сердце так колотится, ведь я же его слышу — как молот бьет, молот! — и догадается, что я тут что-то спрятал. А тот лейтенант так обнимал-обнимал ту одежду, ничего не снял, чтобы осмотреть, а только так обнимал. Так шарил руками и не нащупал того твердого в рукавах той толстой шинели. Думаю, все — как гора с плеч моих упала. Повел тогда меня в погреб где-то там во дворе, осмотрел все — и там не было ничего. Возвращаемся назад, составляем протокол. Когда составляем протокол, то не о чем же писать. Тогда эта одна понятая, что сверху, Варвара, говорит: «Слушайте, я что-то не вижу, зачем вы сюда к этому человеку пришли и что вы тут нашли?». Майор был смущен и говорит: «А это что? Вы же смотрите, он рисует петлюровский флаг». Я говорю: «Это флаг Украинской Народной Республики. Во время революции, — говорю, — его использовали как флаг УНР». — «Это петлюровский флаг!»
Прикрикнул он на ту женщину, она замолчала. А мне — думал, что будут арестовывать, — нет, сказали приехать завтра в КГБ, выписали мне повестку, чтобы я явился. Говорю: «Я на работе». — «Мы сообщим на работу». — «Хорошо, — говорю, — я приеду».
На следующий день — это было, наверное, 29 октября 1969 года, я еду к ним на свидание. Там уже меня ждут, ведут меня в кабинет. Двое ведут, так будто я... Правда, наручники не надевали. Приводят. Этот Соломин, майор, что меня обыскивал, и лейтенант сидят в кабинете, расспрашивают. Сначала что, да к чему, кто я такой, какое образование, такие общие вопросы. А потом требуют, чтобы я расписался за то, что я буду давать правдивые показания. Я посмотрел и говорю: «Вы пишите, пожалуйста, протоколы на украинском языке, потому что иначе я не буду подписывать. Я еще ни разу не подписывал, если протоколы на другом языке были написаны». Он возмутился: «Да вы знаете, да вы понимаете...» Я говорю: «Я понимаю, но не буду подписывать. Вы, — говорю, — себе пишите, но я не буду подписывать, хоть бы они и были для меня приемлемы». И у них заминка случилась — они не знают, что со мной делать. А кабинет же прослушивают из соседнего кабинета. Вбегает такой подполковник Маркин, начальник следственного отдела. Ко мне не обращается, а бегает по комнате: «Мы защищаем всех: азербайджанцев, грузин, русских, украинцев. Какая разница?» То есть это для меня, но ко мне не обращается. Я себе сижу. Поговорил-поговорил, ушел.
Тогда сажают лейтенанта, потому что этот Соломин не умеет писать на украинском языке, он его не знает. Этот лейтенант начинает писать протокол. Я подписывал такие протоколы, которые подходили мне. Зашла речь о том, как я с Сокульским познакомился и какие у меня с ним были взаимоотношения. «Дружеские». — «Что вы делали?» — «Разговаривали». — «Что, где, о чем?» — «О литературе». — «А как он высказывался о КГБ?» Говорю: «Я не знаю». — «Так мы знаем, как». Я говорю: «Раз вы знаете, так зачем спрашиваете?» Вот так три раза меня вызывали. Я смотрел все те протоколы. Что они понаписывали в тех протоколах, так и половины не было того, что говорили. Я увидел, что это пустопорожние протоколы. Второй раз они начинают мне зачитывать, что Иван свидетельствовал, есть его подписи, дают мне читать и сами зачитывают. И третий раз — так же: что я и машинку брал, и печатал, и десять экземпляров... Ну, невозможно... Я был страшно поражен и удивлен, что Иван выложил такие детали, которые можно было бы скрывать, потому что о них никто не спрашивал. Я думаю, это его уже совсем деморализовали, думаю, может, влияли как-то, как теперь говорят, психотропными средствами, потому что это нельзя было понять, почему он говорил о том, что только нам двоим могло быть известно и было, а он это рассказал. Это было такое точное доказательство, это были такие детали: когда он приезжал на автомобиле ко мне, о чем говорили, еще как Кузьменко бутылку водки вытаскивал, которую хотел пить, но только показал, что он хочет пить, но будет пить позже — всякое такое. Что это такое было?
В. В. Овсиенко: Это чтобы было убедительно.
П. П. Разумный: Вот именно. Это настолько меня поразило, что я начал уже бояться: что же случилось с Иваном? На четвертый раз вызывают меня — это с интервалами в несколько дней, по сути, жить мне уже не дают — очная ставка. Сажают меня спиной к двери, в которую должен зайти Иван. Я, правда, не протестую, пока что я не представляю, как это будет. Сказал мне не оборачиваться назад, только отвечать на вопросы, когда меня будут спрашивать, а так сидеть и смотреть на него. А дверь сзади. Слышу, зашли. Я вскакиваю, повернулся, вижу, Иван в фуфайке, такой замученный, небритый, такой несчастный... Я быстро иду к нему, даю ему руку, жму руку. Эх, тот Соломин как подскочил: «Нарушаете правила, которые введены здесь, нарушаете мой приказ, я сейчас часового к вам поставлю!» Ну, я уже больше не... Говорю: «Зачем меня поставили спиной? Почему я должен отвечать, когда?..» Тогда повернули меня так в профиль. Я запротестовал, что спиной поставили. «Как я, — говорю, — буду слушать человека спиной? Я что, глухой?»
Тогда начинается. Перечисляется все, что Иван давал в своих показаниях. Иван все подтверждает, я отрицаю. Я говорю: «Я такого не помню, я не знаю, откуда ты взял это, думаю, что это выдумка, непонятная для меня», — такие примерно слова я употребляю. Я его, конечно, не корю, но меня все больше это возбуждает — я думаю: зачем так много признаваться? «Интернационализма» Дзюбы, скажем, могло же быть меньше, ну хоть бы два экземпляра, но аж десять — это точно так и было! Тогда они остановились, переспросили все эти пункты, которые я должен был бы подтвердить или опровергнуть. Я опроверг все пункты, по которым Иван подтвердил наши взаимоотношения как враждебные, нужные для следствия. Тогда меня Соломин спрашивает: «А как понимать, что вы каждое его утверждение отрицаете, а он каждый раз говорит и подтверждает, что он говорил? Это он написал, и он это говорит устно при вас, а вы не признаете? Почему он так делает, по-вашему?» Я говорю: «Мне мерзко это комментировать, я не хочу это комментировать». Вот так я сказал — «мерзко». Они этого в протоколе не записали.
Был еще какой-то разговор, а потом был обеденный перерыв. Я пошел в магазин, купил книгу Драй-Хмары, как раз тогда она вышла.
В. В. Овсиенко: Желтенький такой томик?
П. П. Разумный: Красивая книга, да-да. Я купил три экземпляра, чтобы и Ивану вручить. Думаю, продолжение еще будет. Я хотел ему вручить. Они Ивана уже отвели. Тогда он ко мне: «Что это за книга? А ну-ка, покажите». Я показал им. «А зачем вы купили аж три?» — «Ну, — говорю, — для чего — надо, значит». — «Кому вы еще будете давать?» — «Да, — говорю, — кому придется, буду давать». Вот так у нас на очной ставке все это остановилось. Я зашел к Олесю Кузьменко, рассказал ему это все и записал на книге Драй-Хмары об этом эпизоде очной ставки как об ордалии, которую я сегодня пережил. Мне зуб выкрошился. У меня после каждого ареста выкрашивался какой-нибудь зуб, я его каждый раз чуть ли не съедал. И на этот раз, слышу, уже у меня что-то во рту неладно. Взял руками — зуб распался на кусочки, я его вытащил. Так что эти нервные переживания мне зубы разрушали. Я зашел к Кузьменко, рассказал ему и подарил Драй-Хмару. Он говорит, что точно так было и с ним: все те дела, о которых мы говорили, все он рассказал, а я отрицал — точно так же, как я. То есть я на мигах ему объяснил, что то же самое и со мной было, ведь за мной же ходили, слушали, а я этого не хотел. Потому что Евгений всегда говорил, что это самодонос — когда говоришь громко о таких делах. Это самодонос. Этого надо избегать.
Эта очная ставка была в октябре 1969 года. В 1970 году, я не помню когда, его судят. (Иван Сокульский осужден Днепропетровским областным судом 27 января 1970 года по ст. 62 ч. 1 на 4,5 года заключения в лагерях строгого режима. — В.О.) Мне Кузьменко сообщил, когда будет суд. Я поехал на суд, нас пустили, я был на суде. Иван на суде вел себя тоже как-то так, как разбитый человек, как какой-то искалеченный, как человек, которому страшно тяжело это пережить и так неприятно людям в глаза смотреть. Мне было откровенно жаль его. На его фоне Кульчицкий Мыкола выглядел... Кульчицкого Мыколу, знаете его, из Полтавы?
В. В. Овсиенко: Да-да, знаю.
П. П. Разумный: ...ну, таким героем, прямо скажем. Он выступил с такой хорошей речью. Мол, когда во Вьетнаме борются за свою независимость, так это героизм, а у нас, когда люди только говорят о независимости, или даже не о независимости, а о какой-то литературной свободе, об украинском слове, которое нигде не звучит, так это уже преступление. Хорошо было сказано. А вьетнамцы — это герои.
Судили тогда также и Савченко Виктора. Я перед тем был с ним знаком, у него жена актриса, он нас водил в театр по контрамарке. Он тоже ничего такого особенного не говорил, только что знал кое-что из тех вещей, что он делал в Днепропетровске. Сокульский, скажем, общался со студентами, давал им читать работу Дзюбы, статью Валентина Мороза «Репортаж из заповедника имени Берии». Она и у меня была когда-то, я перепечатал фрагменты, не была полностью. Когда объявили приговор четыре с половиной года, Иван был удивлен — я увидел это по его выражению лица. Кульчицкому, по-моему, два года, а Савченко вообще оправдали и выпустили.
В. В. Овсиенко: Нет, дали год условно.
П. П. Разумный: Условно, условно. Ну, меня поразило... Мы вышли в коридор и видели, как Савченко обнимал жену. Мать, еще там кто-то стоял. Он радовался как-то так... Это была сцена, как по мне, неприличная... Итак, суд состоялся. Я тогда, помню, нанес визит его матери, выразил соболезнования. Она не очень радостно меня приняла, но и не возражала против моего визита. На этом кончилось наше общение.
КАТАСТРОФА ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 1972 ГОДА
Я тогда регулярно ездил в Киев, и в 1971 году мы с Евгением стали кумовьями — Светличная Надежда кумой, а я кумом. Без официального оформления, без попа, но — кумовья, да и все.
В. В. Овсиенко: А кого это вы крестили?
П. П. Разумный: Веруню, Веруню, его дочь, Веру. Я помню, у него уже настроение было такое... Мы пошли на Крещатик, припоминаю, перепрыгивая через лужи на асфальте. Он как-то перепрыгнул, остановился и сказал: «Зайдем купим молока». Говорю: «Зайдем». И дальше: «Там молока не дадут». Я сначала удивился: «Где?» — «Куда нас собираются запроторить». Это было в октябре 1971 года. Потом я вспоминал это как предчувствие катастрофы, ареста. И все-таки случился арест в 1972 году — эта катастрофа украинской интеллигенции, как ее теперь называют. Такое предчувствие, можно сказать, витало над нами, и Евгений это выразил в такой фразе: «Там молока не дадут». Вот мы сегодня купим молока и напьемся, а там молока нам не дадут... Вспоминаю эту фразу как трагическую.
Я продолжал ездить к Евгению, постоянно брал у него материалы, он их имел, фотографические и другие, перепечатанные. Еще когда в 1965 году я был на месячных курсах повышения квалификации в Киеве (на Паньковской улице было наше общежитие), то каждый день заходил к нему. Он тогда жил на улице Франко. И почти каждый день видел кого-нибудь: или Дзюбу, или Светличного, а раз, по-моему, была и Лина Костенко. Лина Костенко принесла туда, к нему на квартиру, подписи на... Но это было чуть позже, Лину Костенко я видел позже, это уже было, когда она собрала подписи в защиту Светличного, Заливахи и Горыней, где, помню, подписался даже директор авиазавода Антонов. Она мне показала пальцем, я припоминаю, Антонов подписался первым, после него кое-кто из тех больших начальников подписался. Она к ним имела доступ и там тоже собрала подписи.
Об арестах 12 января 1972 года я узнал из передач радио «Свобода» и сразу поехал к жене Евгения. Она рассказала, как это было. Поехал к нему домой. А перед тем зашел к Светличной — она тогда жила где-то там в районе...
В. В. Овсиенко: На Уманской?
П. П. Разумный: Нет, выставки.
В. В. Овсиенко: А, это не Леонида, а Надежда?
П. П. Разумный: Надежда Светличная. Тогда Светличная жила в районе выставки. Помню, оказал ей маленькую помощь, потому что чувствовалось, что и она будет арестована. Ее постоянно вызывали после этого. Говорит: «Только ребенок спасает меня». Я перед ней очень грешен. Она меня пригласила перед Пасхой приехать. Я не смог, потому что была какая-то работа — я работал в наемной бригаде, был там бригадиром, бросить все это было просто невозможно. Можно было, но я, очевидно, спасовал, не приехал. Вскоре после этого она была арестована.
В. В. Овсиенко: Она была арестована 18 мая 1972 года.
П. П. Разумный: Вот где-то в те дни была Пасха, как она была арестована. Мне долго было стыдно — я и сейчас вспоминаю это как один из тех моментов жизни, когда мне было стыдно за себя. Если бы я приехал, она имела что-то мне сказать. Она уже доверяла мне полностью, не было проблемы со всякими секретами.
МНЕ САМОМУ СТАЛО ТЯЖЕЛО ЖИТЬ...
Я работал то кочегаром, то строителем, то так кем-нибудь. Только какая-то причина — меня сразу выгоняют с работы. Один раз потому, что не давали респираторов, я не захотел разгружать из вагона цемент, который был насыпан насыпью. Я говорю: «Будет респиратор, я буду разгружать». А у них респираторов нет. Так мой прораб говорит: «Вы умничаете, вам респиратор, а они работают без респираторов». Я говорю: «Пусть работают, а я не буду работать, — говорю, — техника безопасности нарушается». Ну, меня и прогнали. А другой раз прогнали за то, что я не захотел брать премию в три рубля. Себе премию не знаю какую выписали, а нам, бригаде рабочих, дали по три рубля. Я говорю: «Я не хочу брать, такая мизерная премия». Через некоторое время выгнали меня с работы.
Я решил поменять свою квартиру и сделал объявление. Приезжает один еврей из Львова, который живет по улице Коперника, и хочет поменяться со мной на Днепропетровск, приглашает меня приехать посмотреть. Я поехал во Львов, посмотрел: однокомнатная квартирка, под окном помойка. Я бы поменял, если бы мне разрешили. Но мне тогда не разрешили. Мне не разрешает председатель райисполкома, Момот, тот, который сейчас ходит расхваливает советскую власть. «Почему, — спрашиваю, — вы не разрешаете, почему, вы мне скажите ясно?» — «Я вам скажу: а мне здесь жидов не надо». А этот действительно был еврей, с кем я собираюсь меняться. «То им хлеба нет, то масла нет». Я описал этот эпизод нашему главе администрации. Он перед нами расхваливал этого Момота, который написал якобы историю своей трудовой деятельности на посту председателя райисполкома. Я написал ему такую записку: «Добавьте, пожалуйста, к этой истории вот этот эпизод».
В. В. Овсиенко: Петр Разумный, пятая кассета, 29 апреля 2001 года.
П. П. Разумный: Когда я зашел к нему на предмет обмена квартиры, то он сказал, что не обменяет мне квартиру, потому что «жидов здесь не надо», потому что они хотят то ли масла, то ли хлеба им не хватает. Так говорю, что Момот тогда знал о дефицитах, но он расхваливает себя, что он хорошо хозяйствовал. Но не было ни масла, ни хлеба вволю. Я напомнил ему, этому лжецу.
Я был у первого секретаря райкома и говорю: «Я имею право поменять квартиру и я хочу поменять». — «А мы держим под контролем это дело». — «Ну, — говорю, — держите себе под контролем, но скажите мне причину, почему мне не меняют. Причем тут ваш контроль? Контролируйте на здоровье», — говорю. Так мне и не сказали, почему они не хотят менять. Но потом появляется у меня один клиент из Ивано-Франковска на обмен квартиры. Я поменял бы и на Никополь, и на любой город, если бы кто-то согласился, но, оказывается, бывшая моя ученица вышла замуж во Франковске и хочет вернуться назад. Она соглашается, что хочет со мной поменяться. Пришла ко мне на смотрины, тогда я к ним поехал, а с ней уже меняют мне квартиру. Я эту процедуру провел и в тот же год поселился, в 1974 году — именно тогда, когда Солженицына выгоняли из Советского Союза. Это было то ли в феврале, то ли в январе, как я обменялся и там прописался.
Сына моего Тараса забирают в армию, я остаюсь один. Я нанялся работать на ликеро-водочный завод проводником вагонов с водкой. Это была большая роскошь, блатная работа, я все удивляюсь, как они меня устроили. Я искал-искал и не мог работу найти. Вижу, что я сдохну с голоду. Я продал тут, в Соленом, свой погреб каменный, хороший, так на те деньги и жил пока, гараж у меня был, я выложил — не сидел сложа руки — и его продал. То ж деньжата маленькие были на первый случай, но вижу, что их потрачу, потому что мест работы нет, второй месяц работы нет. Вижу объявление — на ликеро-водочный завод. Я зашел в отдел кадров — сидит отставник, кацап, и говорит: «А чего вы хотите устроиться на эту работу?» — «Ну, как чего — объявление же есть?» Говорит: «Тут делаются такие неприятные вещи, на этой работе...» Я говорю: «Я не знаю, какие это неприятные вещи». — «Пойдите познакомьтесь, что это за работа». Я и не представлял. Проводник вагонов с водкой — ну так что?
Меня пустили на территорию завода, я пошел, посмотрел. «Сколько вы зарабатываете?» — спрашиваю. «И сто сорок бывает, и больше, в зависимости от того, сколько раз мы ехали, сколько километров наездили, сколько вагонов отправили». Кажется, хорошая работа была бы для меня. Буду зарабатывать столько, а алименты же платить надо было, потому что один сын уже взрослый, а второй еще маленький, да и так жить в городе труднее. Я решил продолжать настаивать, чтобы меня взяли. Начальник отдела кадров говорит: «Раз вы настаиваете, я вас устрою, но чтобы меня тогда не проклинали». Ничего себе заявочка... «Идите, — говорит, — в отдел сбыта, скажите, что я вас устраиваю на работу, пусть он вам проведет лекцию». Я пошел в отдел сбыта, спрашиваю: «Кто тут начальник?» Вижу, там все пьяные, а один на столе лежит. «Вот, — говорят, — на столе лежит начальник отдела сбыта». Мертвецки пьяный, какая там беседа может быть? Сегодня никаких бесед не будет. Я вернулся к этому начальнику кадров, говорю: «Его там нет и, говорят, завтра, может, не будет». — «Ну, — говорит, — поговорите с ним завтра и ко мне зайдете». Я зашел утром, он еще не был пьян, но глаза подпухшие, бедный он такой, уже хочет выпить, очень хочет — и с самого утра. Он так посмотрел на меня подозрительно, измерил меня, потому что они же там все ворюги, так думает, кого-то уже подсылают. Один проводник так потом и спрашивал: «А вы не капитан милиции?» Говорю: «Нет, не капитан милиции». Хорошо. «Ну, — говорит, — если вы хотите, то оформляйтесь. Работа тяжелая, вы же видите, она связана с поездками, командировками все время». Я спросил, сколько зарабатывают, он рассказал по правде, я пошел, меня оформляют, иду к директору на подпись. Фамилия директора Мамонтов — такой кацапура тяжелый, густым, хриплым голосом говорит. Видно, хорошо пропитый. Он посмотрел: «Зачем вы здесь оформляетесь?» — и так себя скребет по щеке. «Потому что надо же где-то работать? Я второй месяц не работаю, нашел вашу афишу, она по всему городу висит. Афиша, что приглашает рабочих». — «Это, знаете, неприятная работа. Они тут иногда некоторые злоупотребляют. Если думаете злоупотреблять, то лучше не устраивайтесь». Говорю: «Не думаю злоупотреблять». Я не знал еще, что такое злоупотреблять на той работе. Воровать? Как же воровать, когда она же посчитана?
Ну, устроился на работу. Первая моя поездка в Рахов. Мне было страшно интересно туда поехать: едешь ночью по высокогорью, там Яблуницкий перевал... Другой край... Я услышал, как гуцулы ночью поют, и мне вспомнились слова Стефаника: «Так пели при Великом князе Владимире», а я себе подумал: «Так пели еще при князе Владимире». Таким гортанным голосом, каким-то таким печальным и одновременно таким близким и понятным. Такая гуцульская манера петь с перепадами. Меня это поразило. Поехали мы туда раз. Сдали водку. Для меня был отдельный вагон, но ответственный тот проводник, который меня стажирует. Я вернулся назад, говорю начальнику отдела: «Я еще не очень понял, как это все делается, я хочу еще раз поехать как стажер».
Посылают меня в Молдавию уже с другим проводником. И тут я узнал, в чем дело. Оказывается, что они дают 20 тысяч бутылок — тысяча ящиков умещается в тот крытый вагон. Это на 80 тысяч рублей, если перевести на деньги. Это водка «Экстра», а если другая, то дешевле. Оказывается, они раскупоривают бутылки, с каждой бутылки отливают по 100 граммов, доливают те бутылки водичкой и снова закупоривают. Этот мой новый проводник говорит: «Я не знаю, капитан вы милиции или нет — о вас говорят, что вы капитан милиции, — но сейчас будем спиртовать». Думаю: «Что такое „спиртовать“?» Думаю, спирт воруют... Когда вижу: такой мешок резиновый, у них это «подушкой» называлось. Я подумал, что он пить будет — нет, там литров тридцать воды, три ведра, не меньше. И вся эта вода пошла в бутылки, и то в моем присутствии. Я ужаснулся, у меня волосы полезли вверх, я начал бояться всего этого. Думаю, кто-то придет... Но молчу себе, думаю, пусть делает, потому что за это не я отвечаю, а он. Целую ночь он работает, я себе дремлю. Он за ночь испортил вот на три ведра воды бутылок, долил, может, две сотни бутылок. Причем делают так. Открывается более дорогая водка, «Экстра», она такая чистая, сорокапроцентная водка. В эту бутылку вливают более дешевую водку. Шилом обводит кругом раз, другой раз, вынимает пробку и ставит так, чтобы видно было — эта самая пробка позже ложится в ту же бутылку. Доливается все и со шнурком закручивает.
Прошло это дело, он мне дает домой бутылок три водки, настоящей, непрепарированной. Я беру, и мы разъезжаемся. Поскольку я не капитан милиции, то никому не доносил. Я начал ездить сам, но я этим не занимался, ни одной бутылки, хотя ко мне в вагон заходили и предлагали. Однажды с десяток бутылок один — ехали в Молдавию — испортил, но я больше не разрешил. Говорю, спрячьте их, разложите по разным ящикам. Я не хотел этим заниматься. За мной очень следили, и если бы я хоть раз это сделал, они бы непременно поймали меня на этом деле. Да и не умел я этого делать. Это сложная работа, это как слесарь — надо точно открывать и не испортить, закрывать и не испортить. Я и так зарабатывал неплохо.
Я там работал года два с лишним. Однажды читаю «Литературную газету», а там на последней странице, на шестнадцатой, была рубрика «Сделайте подпись». Какой-то коллаж фотографический, или карикатура, или какая-то особенная фотография — «придумайте подпись». Была фотография: какая-то халупа, на которой написано по-русски «Вино-водка», а рядом лозунг на предмет борьбы с алкоголизмом. Я думаю: тут я сделаю подпись как специалист. Я, по-моему, сделал три варианта подписи, один помню очень точно: «Двуликий Янус социализма». Это серьезно звучало. И что вы думаете? Дней через десять, как я послал это письмо, собирают профсоюзное собрание и рассказывают, что надо трех проводников сократить. Выходит, что меня надо сократить и еще двоих. Я спрашиваю: «По какой причине?» — «Надо сокращать, потому что производство сокращается». — «А почему меня? Может, конкурс объявить или жребий бросить?» — «Какой жребий? Тут решение профсоюза уже есть». Показывает решение профсоюза сократить меня и еще двоих. Интересно, что меня сократили и выгнали, а тех двоих через три дня приняли назад — так замаскировали это дело.
Тогда я устроился на работу в филармонию. Тоже объявление висело: требуется администратор филармонии, организатор концертов. Директор меня позвал и долго уговаривал, чтобы я туда не шел, потому что это, говорит, грязная работа, много администрация злоупотребляет. Я ему говорю: «Я был на работе, где тоже иногда („иногда“ — каждый день!) злоупотребляли, а я не злоупотреблял, так и тут, — говорю, — я тоже, думаю, не буду злоупотреблять». Он старше меня, был священником во время немецкой оккупации, сам из Косова, но теперь директор филармонии. Взял меня на работу так, по-отечески. Я там тоже не злоупотреблял, то есть не воровал, не договаривался с директорами домов культуры, чтобы деньги мне давали. На Франковщине публика была достаточно культурная, на концерты ходила. В села ездили, а там села большие, имеют дома культуры очень приличные, приходило так много людей, что не помещались.
17 марта 1977 года — уже сын пришел из армии — являются ко мне с обыском. Что будут искать? По каким-то там данным у меня должны находиться антисоветские материалы. Я тогда припомнил: я подозревал, что в мой дом залезают какие-то неизвестные люди, когда я бываю в командировке. И сын уже был дома, но он где-то работал ночью, так они залезали. Как я замечал? Я привязывал такие тоненькие, как паутинки, ниточки, которые они незаметно обязательно рвали. Раз вижу, второй. Думаю, кто залезает? Думал, что они, потому что я уже имел опыт. Залезают в дом, ничего не берут, да что было взять — кроме библиотеки, ничего нет. Я уже насобирал немалый пакет материалов: вещи Евгения были, «Интернационализм или русификация?», еще что-то из заграничных авторов... Протокол обыска у меня есть.
Целый день они обыскивают меня. Сына привели, чтобы он тоже видел, понятых привели. Когда у меня что-то изымали, то один из них говорил: «Так это же видно, что это враг». Он не читал, что там такое, но ему видно, что я враг.
В. В. Овсиенко: А из чего такой вывод?
П. П. Разумный: Такого понятого привели, который говорил, что по всему видно, что я враг. Я говорю: «Мне надо идти в филармонию, там у меня сейчас работа, я не сообщил директору». А как они тайно обыскивали? Директор меня вызывает, а они обыскали и убедились, что у меня есть. Они уже имели опыт, что можно не найти, потому что я хорошо прятал. Я замечал, что они тайно обыскивали, а тут они уже долго меня не посещали, так хотят посетить и детально осмотреть, что у меня есть.
Посылает меня директор в Косов. А у меня на руках есть план концертов на месяц. За неделю я должен заказать концерт. До Косова еще две недели, а он посылает меня в Косов. Я не хочу ехать, я говорю: «У меня есть ближе концерт в Тлумаче». Директор, Барчук его фамилия, слушал-слушал, а потом кулаком об стол как ударит: «Я вам говорю, что вы должны поехать!» И сердится на меня. Я говорю: «Тогда, может, вы меня с работы уволите за это? Я не хочу так работать. В Косов я еще успею, у меня же есть план». — «Немедленно надо ехать в Косов!». Итак, директора заставили послать меня из дому. Я еду в Косов, сцепив зубы, и хочу вернуться ночным рейсом, тогда много автобусов ходило. Но что они делают? Я пришел в их дом культуры, а директор посылает меня в отдел культуры — такого еще не было никогда. А отдел культуры осмотрел мой план: надо сначала заказать концерты в селах. Посылает меня в село Химичи — а это уже значит, что я буду ночевать там, я уже не успею вернуться.
Когда я вернулся оттуда, на второй день ко мне пришли с обыском. Как только я проснулся — они уже с обыском. Прекращается вся моя концертная деятельность, я должен выдержать эти ордалии еще раз.
В. В. Овсиенко: А как та ваша должность называлась?
П. П. Разумный: Администратор филармонии. Должность серьезная, но она была очень неблагодарная, тяжелая работа. Я там немножко зарабатывал, потому что концерт размещал, зрителей много — не воровал, но все равно зарабатывал так где-то сотню или больше.
Итак, утром приходят с обыском — и сразу стало ясно, что они и послали меня в Косов для того, чтобы тут ночью детально все обыскать и поймать меня с тем, что они увидели ночью. Они и увидели, нашли, потому что где там в доме спрячешь? Забрали у меня целый пакет материалов. Их трое было: старший был капитан, два лейтенанта и два понятых. Выписывают мне повестку завтра прийти на допрос в КГБ во Франковске.
Я пошел. Назначают мне такого молодого, неопытного, видно, стажера. Чернявый такой, видно, с востока, по-украински плохо говорит. Он делает мне экскурсию по помещению КГБ, два этажа. А там стены обвешаны такими трагическими сценами: бандеровцы убили того — подписано, тогда-то, там-то. Убили, растерзали какую-то семью. Рассказывает мне и показывает, я молчу и за ним хожу. Он меня ничего не спрашивает, и я ничего не говорю. Что я буду говорить? Я не позволил себе ничего говорить, но он понял, что мне говорить — это значит вступать в дискуссию, а дискуссия не входила в его планы, я так понимаю. Я говорю: «Я не хочу комментировать, это ваши дела, вы их и комментируйте. Вы мне рассказали, я теперь знаю». Он и не спрашивал меня. Он проводит меня в кабинет и так неумело все это делает — то есть на мне он учился. Надо, чтобы я подписал документ, что не буду заниматься антисоветской пропагандой. «Вот, смотрите, у вас, — мол, — какие материалы нашли — это антисоветчина. Кому вы ее давали?» — «Никому не давал». — «Где вы ее взяли?» — «В вагоне ехал. Я, — говорю, — общался с каким-то человеком, не знаю, где он живет». Подходит помаленьку еще один, еще один.
Четыре раза вызывали меня. Четвертый раз собирают команду. Я сижу посередине, а они как-то так кругом меня, стол такой странный, что я окружен не менее чем шестью лицами. Председательствующий сидит — как я потом узнал от жены Афанасия Заливахи, это сын священника, я забыл сейчас фамилию. Какой-то такой вульгарный, местный, галичанин. Угрожает мне, показывает через окно, где КПЗ, что он меня посадит, что я там буду голодный, что буду там вшей кормить. Я думаю: «Какой-то придурок». Я говорю: «На таком уровне я с вами не хочу говорить. Такой уровень мне не подходит». Тогда его убрали — где-то подслушивают там, что ли. На четвертый раз говорят: «Единственный вопрос: чтобы вы подписали, что вы не будете этим заниматься». Я говорю: «А я не занимаюсь. То, что я имел, — на это запрета нет. Запрет на профессию есть? Нет. Ну, так я работаю себе». Тогда слышу, что-то притихли все, ошеломленные сидят, ничего не спрашивают, и я сижу.
Вдруг в дверь входит такой страшный на вид мужик, рыжий, скуластый. И что в нем страшное? У него так уложены волосы на голове, что кажется, он какой-то черт, а не человек. Я думаю, что это парикмахер поработал. Мне действительно стало как-то страшновато. Те — я уже привык к ним, пусть тарахтят, КПЗ так КПЗ, это ваше дело, говорю, решайте вы. Но этот майор сел, не спеша, чтобы я на него разгляделся хорошо, и берет председательство на себя. Я говорю: «Представьтесь». «Майор Харченко», — представляется. Ну, я таких волос больше нигде не видел! Я думаю, что это на него парик надели — такая, знаете, какая-то цыганская шевелюра, на которую страшно смотреть. Я чувствую, что не его испугался, а его такой разрисованной, уложенной шевелюры.
Он так же начал, но как-то твердо, без особого нажима, что если я не признаюсь, то мне будет очень плохо. Я говорю: «Мне и так не очень хорошо. Вот вы меня четвертый раз вызываете, я работу пропускаю, у меня заработка нет, так что мне ничего хорошего нет». — «Что вы занимаетесь антисоветской пропагандой, это видно из ваших материалов, которые мы изъяли, а что вы не хотите признаваться, то это неискренность ваша», — так начал он меня уговаривать. Я говорю: «Это разные оценки моей деятельности, то есть моей жизни». Он начал зачитывать мне мои записки из разных источников, которые я делал во Франковске. Я думаю, мне подсовывали разные националистические издания тридцатых годов. Там были то стишок, то высказывание — я их выписывал. Записал одно высказывание, которое услышал по «Голосу Америки» или по «Свободе»: «Мы все на бой пойдем за власть советов и, как один, умрем в борьбе за это». Вывод: «Зачем же тогда идти на такую борьбу, что все погибнут? А кому нужна эта борьба?» — это мой комментарий. Он прицепился к этому. «Вы пишете, что вы националист — как вы это понимаете?» Я говорю: «Меня назвали националистом — я признаю, что я националист. Этот вопрос мне задали давно. Но я патриот, а каждый патриот — националист». Он проглотил это, промолчал.
Короче говоря, они вот четыре раза меня вызывали — и без последствий, оставили меня.
УКРАИНСКАЯ ХЕЛЬСИНКСКАЯ ГРУППА
Иван Сокульский тем временем возвращается из своего заключения (14.12. 1973), заходит ко мне с панной Орысей Лесив, которая тогда была уже его невестой. Я через Кузьменко передал ему, если он вернется (а я уже срок знал), то пусть он ко мне заходит спокойно — я все забыл, чтобы не думал, что я там что-то помню. И он действительно зашел, сказал, что он вел себя очень плохо, а я вел себя лучше всех. Я поблагодарил его за похвалу, поговорили. Начали мы снова общаться. Он здесь во Франковске часто бывал, мы заходили к Афанасию Заливахе, наше знакомство возобновилось на полную мощность.
Я уже знал о создании Украинской Хельсинкской Группы (9.11. 1976). Я каждый год ездил в отпуск домой, точнее, к матери, и при этом пытался связаться с Оксаной Яковлевной Мешко, которая была афиширована как член Группы — адрес. На предмет того, чтобы вступить. Я уже решил вступать, но как же вступить? Не скажешь же кому-нибудь, только Оксане Яковлевне Мешко. Я ее не видел и не знал, только в 1979 году увидел ее впервые. Нет, в 1969 году я ее видел. Правильно, я ее видел, но не знакомился с ней, видел только со стороны. Возле собора Святого Владимира она ходила с группой людей, а я ждал Сверстюка. Я это написал в воспоминаниях о ней. Тогда она обратила внимание на нашу группу — нас было трое: «Что за люди?» Они обходят кругом собора несколько раз и все нас видят. Я тогда говорю: «Это мы ждем Евгения Сверстюка». Он там рядом жил, на улице Франко. Вот и все было знакомство, я только лицо ее помнил.
И вот в 1979 году я решил зайти к ней домой. Я нашел ту Верболозную, 16. В 1977 и в 1978 годах я к ней тоже заезжал. В 1977 году заехал, то ли к маме едучи, то ли назад, скорее когда назад ехал, то вышла какая-то девочка и сказала, что Оксана Яковлевна поехала в Москву. Через год я снова захожу, та же девочка выходит и говорит то же самое, что она поехала в Москву. Я засомневался, думаю, что такое, эта Москва мне так мешает. Но за занавеской какое-то движение было. Я стоял с левой стороны от калитки. Позже, когда мне Красивский объяснил, что она видела меня, но поскольку мы не были знакомы, то не захотела со мной встречаться. То есть не захотела меня пускать в дом — так я себе позже сконструировал. В 1979 году я снова хочу к ней заехать, но тут приезжает Ярослав Лесив — брат Орыси. Приезжает к Сокульскому в гости, так я к ним зашел, потому что я всегда заходил, когда он приезжал, и его приглашал к себе. А он, Ярослав Лесив, покойный, даже напрашивался ко мне поехать в гости в село Пшеничное.
Однажды пошли мы в поле гулять, потому что дома разговаривать Ярослав не захотел. Это было опасно, за ним следили, возможно, больше, чем за мной, но и за мной тоже следили. Все мои соседи были, ну, не доносчики, а способствовали доносам, потому что держали тех, что приезжали с подслушивающими устройствами. Мне потом рассказали. Мы идем в поле километра полтора-два от села, и он мне говорит: «Вот, — говорит, — Красивский Зиновий, — я не знал тогда его, — имеет новую идею относительно деятельности Хельсинкской Группы. Когда вы приедете, то мы расскажем вам. Не вступили бы вы в Группу?» — «Я вступлю, — говорю. — Я дважды ездил к Оксане Яковлевне — в 1977 году и 1978 году, — но мне не удалось ее даже увидеть». — «Ну, вы, — говорит, — узнаете эту проблему шире, когда увидимся». Так мы переговорили, я дал принципиальное согласие подать заявление.
Поехал я тогда в Моршин. Там как раз был Лесив. Он там постоянно был, почти все время. Красивский повел меня в парк. Я впервые познакомился с ним на праздновании Нового 1978 года на квартире Елены Антонив. Там был и Михаил Горынь — я впервые увидел тогда Михаила Горыня и Зиновия Красивского.
Красивский сказал так: «Пойдемте, поговорим там где-нибудь, на стороне». Он сказал почти дословно так: «Украинская Хельсинкская Группа сейчас агонизирует. Тех, что были заявлены, поарестовывали, а новых Оксана Яковлевна не набирает. Новых людей она не принимает — то жид, то подозрительный». Так он и сказал: тот жид, а тот подозрительный — вот так размашисто он сказал. «Поэтому есть необходимость обойти ее и создать параллельную, чтобы Группа не умерла. Она умирает, потому что завязана только на Оксане Мешко, а надо, чтобы она расширила свою деятельность. Если вы согласны, — говорит, — подать заявление, а Сокульский тоже согласен, то я это принимаю, и ваше заявление пойдет, знаете, каким путем и будет объявлено». Я согласился. Красивский говорит: «Тогда поезжайте к Сокульскому и этот разговор сообщите, чтобы он тоже написал заявление, он раньше тоже согласился».
Как-то так вышло, что я еще раз туда поехал. Сокульский дает мне свое заявление. Я свое не пишу, а приезжаю во Франковск, чтобы меня не поймали с моим заявлением. Пишу там свое заявление и как-то так тайно возвращаюсь домой. Я неожиданно доставил заявления к Лесиву на квартиру, а он жил в Болехове, а от него они попали в руки Красивского. Так мы с Сокульским вступили в Группу через Красивского, я завез оба заявления.
В. В. Овсиенко: Вы дату помните? Хотя бы месяц.
П. П. Разумный: Я дату сейчас не могу сказать, но это было в конце августа — начале сентября 1979 года, не иначе — еще теплое время было. Я не только привез заявления, а тогда он дает мне задание, чтобы я поехал к Стусу Василю, который уже вернулся в Киев из ссылки (я знал это из радиопередач), к Сверстюку Евгению в Бурятию, к Вячеславу Чорновилу, чтобы я предложил первым двум вступить в Группу, а Чорновилу возглавить Группу.
В. В. Овсиенко: Так Чорновил же был в 1979 году...
П. П. Разумный: В 1979 году он был в ссылке в Якутии. Красивский дает мне 400 рублей — это были немалые деньги. Тогда сто с чем-то стоил проезд только до Иркутска. Я взял. Я начинаю со Стуса, потому что он так и сказал: «Сначала к Стусу, а потом поезжайте к Евгению, а после Евгения к Чорновилу, чтобы они дали принципиальное согласие вступить, эти первые два». Он детально допытывался о Евгении — кто такой Евгений Сверстюк? Не такой ли это поэт, что распустил нюни, скулит? Такие поэты есть.
Может, мы прекратим на сегодня разговор?
В. В. Овсиенко: Почему? Смотрите, я готов слушать и до утра.
П. П. Разумный: Я думаю, это важный для истории вопрос. Я здесь говорю абсолютную правду, которая была перед моими глазами и в моих ушах. Красивский дает мне 400 рублей и говорит, как найти Стуса. «Поезжайте», — дал адрес Веры Павловны Лисовой. Она скажет, где Стус, она знает». Потому что он тоже не знал, где Стус — то ли он в Киеве, то ли в Донецке. Я приехал в Киев, переночевал у Бровко Ивана Бенедиктовича. Я доверял ему полностью и сообщил, что у меня есть задание увидеть Стуса, а дальше не рассказывал, потому что это уже было бы слишком. Как заехать, где такая улица? Он все мне объяснил, я быстро нашел Веру Лисовую. Я подошел под дверь, она как раз провожала детей в школу. Вот так провожала: «Идите, идите» — и тут я появился. Я спросил ее, она ли Вера Лисовая. Она сказала: «Заходите». Мне показалось, что она мне как-то так сразу поверила, не было никакого недоверия. Я говорю, что я от Красивского, он попросил сказать, где живет Стус. Мы долго не говорили, потому что, откровенно говоря, я не знал о Василе Лисовом много, я его, наверное, не видел среди диссидентов, о которых шла речь. Я о нем узнал больше, когда приехал к Евгению в Бурятию. Он мне рассказал, что где-то здесь поблизости, в Бурятии, также и Лисовой отбывает ссылку. Узнав адрес Стуса в Донецке, еду в Донецк. Еду к Стусу в Донецк с таким же предложением. Предложение должно было быть вступать в Группу, сказать, что Оксана Яковлевна дело заваливает, Группа перестает существовать, а это дело нельзя заваливать, его надо поддержать. Фактически было сказано, что Оксана Яковлевна прекратила прием в Группу. Еще было сказано так: она так окружена, что какой бы материал к ней ни поступил, он попадает в руки КГБ. Вот так твердо он мне сказал, это я передал Стусу. Я всем передал эту фразу. Она была в памяти, я ничего не записывал.
Стуса не было дома, так я пришел во второй половине дня. Я сказал матери и сказал Валентине... Валентина ее зовут?
В. В. Овсиенко: Кто, сестра?
П. П. Разумный: Жена.
В. В. Овсиенко: Жена Валентина Попелюх.
П. П. Разумный: Валентина там была. Она была как-то недовольна моим визитом, так со мной и не поговорила. Я скажу вам откровенно, что мне самому было неприятно. Я с этими женщинами всегда имел хлопоты, когда заходишь к какому-нибудь мужчине. Женщины на меня всегда сердились, а мне надо было говорить с мужчиной. Женщины видели, что я из тех, что опасны. Так не раз было на Волыни, было и в Днепропетровске. Я уже имел такой опыт. Так что я не очень переживал за это. Короче говоря, она была не очень довольна, но со мной также говорила мать Василя, то то, то се, а потом поставила вопрос прямо: «Зачем вы приехали к Василю?» Я говорю: «Я его знакомый, я его знаю». А я действительно когда-то видел его раз с Евгением Сверстюком, Евгений меня познакомил с ним — вот и все было. Тогда Евгений на улице Пушкинской или Репина жил. Та улица, где Ботанический сад... Тогда, я помню, был такой разговор. Вышла малюсенькая, миниатюрная книжечка Андрея Малышко, красиво так оформлена. Евгений вытаскивает ее из кармана, показывает Стусу и иронично что-то о ней говорит: «Такая небольшого пошиба вещь, а так красиво оформлена». Стус говорит: «Ты, Евгений, на Малышко не говори такого», — что-то такое сказал. И разговора больше не было. Вот я помню этот эпизод и больше ничего. Итак, я говорю матери, что знаком с ним, хочу его увидеть. «Ну, а зачем вы хотите с ним увидеться?» — мать. Я почувствовал, что меня, как бы сказать, не очень тут любят. Я сказал: «Ну, так я пойду за ворота и там подожду. Я хочу его увидеть. Если я, — говорю, — здесь мешаю, я могу уйти». — «Нет, не уходите». Так согласились, потому что увидели, что я не быстро сдаюсь.
В. В. Овсиенко: Я напомню, это улица Чувашская, 19, в Донецке, а маму Василя называют Елина Яковлевна, ее девичья фамилия Синьковская.
П. П. Разумный: Я уже не помню адреса, но это был материнский дом, она там была и была Валентина. Это было в начале сентября, не раньше и не позже, потому что я оттуда сразу поехал к Евгению Сверстюку в Бурятию. Может, билеты где-то хранятся, я могу подтвердить точно, когда я ехал к Евгению, надо их найти.
Итак, мать, так сказать, от меня отцепилась, потому что увидела, что я не собираюсь сдаваться и не собираюсь объяснять, зачем я приехал. Пришел Василь, я с ним познакомился. Я ему сказал, что знакомился уже с ним когда-то, если он помнит. Не знаю, повлияло ли это на него, но он так прикинул... Я сказал, что мы с Евгением кумовья, что дружу с ним давно, с 1952 года, показал фотографию. Он так взял, посмотрел на фотографию, уже зэковская фотография была. Ничего не сказал, пошли мы обедать. Нам приготовили, по-моему, картофельное пюре, поели вкусно, а это было уже под вечер. Я ему намекнул, что имею что-то сказать. А говорить ничего не говорил, только так — общие разговоры, но как-то так все молчаливо было. Я спрашиваю: «Почему ваши женщины недовольны моим визитом?» Так оно и оказалось, что этот визит был едва ли не фатальным. Я знаю, что и без меня он вступил бы в Группу, но когда все пошли спать, я ему начал рассказывать, а он начал слушать, пиша. Только так можно говорить — пиша. Я сделал маленькое вступление, спросил, знает ли он Красивского — он его не знает. Говорю, что и я его недавно знаю, но когда я узнал, в каком он окружении, то Стус тогда поверил. Горынь то был, когда встречали 1979 год во Львове. Я коротенько объяснил ситуацию, так, как вот вам рассказывал. И спросил, вступит ли он. Он сказал, что вступит. Он все время жевал яблоки такими некрепкими зубами, как я это теперь понимаю, потому что и у меня такое было, что десны ослаблены и кусать яблоко должным образом не удается. Но он их сосал: отрежет ломтик, бросит в рот и сосет. Видно, ему была приятна эта кислота на десны, а может она помогала как витамины. Он жевал-жевал долго, держал во рту и глотал. Этим он занимался целый вечер после того ужина, яблоки тогда уже были спелые, это была осень.
Это был медленный разговор: пока напишешь, пока ответ — долго было. Я его попросил, как меня проинструктировал Красивский, заявление сейчас не писать, но помнить, что такое его обещание уже есть. Когда я еще раз приеду, тогда отберу у него заявление. А тем временем я еду... Я сказал, куда я еду: к Евгению Сверстюку и к Вячеславу Чорновилу. После того, как вернусь, увижу Красивского, я уже тогда к нему заеду и заберу заявление — так было договорено. Так я его больше после этого не видел.
Я поехал к Евгению. Поехал из Днепропетровска в Иркутск: я путал карты, на аэродром попал так, чтобы убежать от тех преследователей. Я так думал, что убежал. Нет билета до Новосибирска. Был на Улан-Удэ. Я поехал на Иркутск. Я знал, что это близко, самолеты ходят — через Байкал перелетел и все. Я взял билет на Иркутск, потом на Улан-Удэ. Из Улан-Удэ я уже знаю, какой самолет летает, это мне уже было легко. Я приехал к Евгению и вижу, Евгений — это же без предупреждения — немного нахмурился, что я приехал. Я это почувствовал и сказал: «Миссия». «Зачем приехал?» — так глазами спрашивает. Разговора сразу не было, тут нельзя было говорить. Пошли мы на гору, там недалеко возле него была сопка.
В. В. Овсиенко: А как это место называется?
П. П. Разумный: Багдарин. Это Бурятия. Это 600 километров от Улан-Удэ на северо-восток, город золотоискателей. Там такой примитивный аэродром, галькой посыпанный. Туда летал Ил-14 — это военный самолет, переоборудованный для пассажиров. Такой тесный, что нельзя было выпрямиться: как сел, так достаешь до потолка — как грохнешься головой о потолок! Очень неудобный, тесный самолет. Я рассказал об этом Евгению.
Вы читали где-нибудь его объяснение, почему он не захотел вступать в Группу? Он писал об этом.
В. В. Овсиенко: Не припомню сейчас.
П. П. Разумный: Я не припомню, где он это писал, но он категорически сказал тогда, что вступать не будет. Он считает это ненужной жертвой. Само вступление означает немедленный арест и возвращение как рецидивиста в неволю, чтобы снова гнить в лагерях.
В. В. Овсиенко: Так это же правда...
П. П. Разумный: Это была правда, истинная правда. Это оказалось правдой. Я ему сказал, что уже подал заявление, что еду к Чорновилу. Он не одобрил мою идею ехать к Чорновилу и тем сбил меня с толку. Я почувствовал, что моя миссия теряет смысл. Я скажу Чорновилу, что Евгений не вступает, так что из этого может быть? Я возвращаюсь назад. Я так себе прикинул, что Чорновил проинформирован не меньше, чем я, что он это уже знает и, очевидно, вступит. Но я не поехал к Чорновилу. Не знаю, чем бы это кончилось, если бы я поехал. Не представляю, как бы я искал его в той Якутии.
В. В. Овсиенко: Записано в материалах, что Чорновил с 22 мая 1979 года член Хельсинкской Группы.
П. П. Разумный: Где он вступил? В лагере, да?
В. В. Овсиенко: Нет, он был тогда уже был в ссылке в Чаппанде, в Якутии.
П. П. Разумный: Я бы сказал, что Красивский не был проинформирован. Могло же такое быть, что он не был проинформирован? Он мне дал задание его увидеть. Более того — чтобы Чорновил возглавил Группу. Вы знаете, я, когда ехал после Стуса к Евгению, то почувствовал такую ассоциацию... Возникла такая аналогия с положением националистов за границей. Раскол, который произошел между националистами. Его назвали «бунт Бандеры». Этот термин «бунт Бандеры» фигурировал в тех антинационалистических, антиукраинских брошюрах. Чередниченко, Евдокименко, великий профессор Рымаренко написали фундаментальные труды на эту тему. Везде — «бунт Бандеры» как раскольника. Так я подумал, что мы переступаем через голову Оксаны Яковлевны, которая является главой Группы, и берем на себя — ну, не мы, а Красивский — инициативу заменить ее. Так это было. Хотите, это пишите, хотите — не пишите, но я еще раз говорю, что как бы я поступил иначе? Меня Оксана Яковлевна никогда не спросила, как и почему я вступил в Группу, она меня не благословляла. Она узнала по радио, что я вступил, но она мое заявление не принимала, заявление пошло через Красивского — и мое, и Сокульского. Теперь вы понимаете ситуацию?
В. В. Овсиенко: Да-да.
П. П. Разумный: Я хотел бы, чтобы вы понимали, потому что это та правда, которую я не хочу, чтобы она не была освещена. Она была такой. Я еще раз говорю, что в самолете на высоте 5000 километров или больше мне пришла в голову эта аналогия с «бунтом Бандеры», как это называли мельниковцы. Кто-то из мельниковцев написал книгу «Бунт Бандеры» о расколе.
Это история, которую надо знать точно, потому что у нас и сегодня с этим есть проблемы.
В. В. Овсиенко: Эта поездка к Сверстюку когда была?
П. П. Разумный: Это было начало сентября 1979 года. Я же заявление подал в 1979 году.
Итак, я был, конечно, озадачен. Немедленно еду к Красивскому, рассказываю ему, как было. Он говорит, что со Стусом уже связи налажены, а со Сверстюком, говорит, оставим. Я ему хочу вернуть деньги, которые остались от поездки, я их не потратил — он не захотел их брать. Так сказать, подарил их мне. Сто с чем-то осталось у меня.
В.В.Овсиенко: Но это же была вторая ваша поездка к Евгению Сверстюку?
П.П.Розумный: Вторая.
В.В.Овсиенко: Ведь первая была где-то на Пасху?
П.П.Розумный: Первая была в апреле, на Пасху. Я думаю, в том году 14 апреля была Пасха, и мы к нему поехали с Ильёй Валерием.
В.В.Овсиенко: С Валерием Ильёй? Вы этого не рассказывали. А с какой целью была первая поездка?
П.П.Розумный: Визит вежливости, к другу. Я это планировал давно. Я знал, когда заканчивается его срок, и как только получил письмо из ссылки, так и поехал.
В.В.Овсиенко: Это именно тогда у вас забрали нож?
П.П.Розумный: Нет, нож забрали во второй раз. Да я сперва закончу это. Итак, я вернулся, сообщил Красивскому ситуацию. Он не был этим доволен, но сказал так: «Со Стусом всё налажено». Мне не нужно было снова ехать к Стусу. Как и когда он вступал, я теперь не могу сказать. То есть когда он вступил, какого числа, я не помню.
Я хотел бы пару слов сказать о том, как я ездил к Евгению в первый раз.
В первый раз я решил ехать к Евгению в апреле, перед Пасхой. А перед этим я поехал к матери Евгения на Волынь. Увиделся с матерью, была там, кажется, жена брата — сравнительно молодая родственница. Обменялись мнениями, и всё. Я не осмелился сказать, что еду к Евгению, я хотел это сделать конспиративно. Я был таким трусом, что боялся признаться и матери, и той родственнице, что еду к Евгению! Евгений меня за это потом упрекал: «Вот, — говорит, — этого бы еврей никогда не сделал». Я говорю: «Может, и так, я согласен, но я хотел, — говорю, — сделать это абсолютно тайно». Я боялся, что задержат где-то, арестуют — ну это же банда, с кем мы имели дело. Даже привет не привёз, потому что не сказал, что собираюсь ехать к Евгению. Я просто поехал к ним, чтобы увидеть ситуацию и рассказать Евгению.
Я еду в Киев и захожу к жене Евгения, Валерии Андриевской, и рассказываю, что собираюсь поехать. Она даёт мне некоторые советы. Потом еду к Валерию Илье и ему говорю. А за ним не следили, не был он опасен. Он тогда жил на проспекте Тычины по ту сторону Днепра. Говорил я, говорил и говорю: «Вот бы надо к Евгению съездить, а у меня и напарника нет, вот как мы живём. И не знаю, к кому обратиться, чтобы кто-то поехал со мной. Одному туда ехать тяжело и страшновато». Это его всколыхнуло до глубины души, и он тут же вызвался ехать. То есть я его спровоцировал, скажу прямо. Не знаю, была ли довольна этим Валентина — видимо, не очень, потому что я не видел у неё энтузиазма. Но на второй день едем уже брать билеты.
В.В.Овсиенко: Валентина — это его жена, поэтесса Отрощенко? Мы вместе учились в университете...
П.П.Розумный: Его жена. На второй день едем брать билеты на самолёт. Он где-то деньги находит... А я не помню, где я деньги раздобыл. Свои деньги, никто мне не давал денег на самолёт. Что туда купить? Яблок. «Яблоки купим, — говорю, — в Москве, здесь нет хороших яблок, там хорошие. Лука здесь купим, здесь лук дешёвый». Купили лука, чеснока, ещё каких-то овощей. В Москве докупили яблок. Я хотел бы упомянуть, что нас, когда мы брали билеты, сопровождала его жена Валентина и явно была недовольна. Но было уже поздно, он уже решил: мы едем.
Мы прилетели в Улан-Удэ. Самолёт будет где-то через сутки, потому что он, кажется, летал не каждый день.
В.В.Овсиенко: А куда лететь?
П.П.Розумный: В Багдарин. И Валерий — что вы думаете? — командует ехать на попутных машинах. Я говорю: «Это безумие по этой Сибири ехать на попутных машинах! — Говорю, — посмотрите на карту, это северо-восток, здесь и дороги не обозначены как следует, что-то такое, только пунктиры». А он упёрся, и всё. Он был какой-то, я бы сказал, уже недовольный этой поездкой, хотел поскорее её отбыть. Так же, как когда я был на суде: скорее судите меня, мне уже ужасно тяжело всё это переживать, скорее объявляйте приговор, тогда я уже успокоюсь — вот такое у меня было на суде чувство. И что вы думаете? Расспрашиваем у людей, какая дорога ведёт на Багдарин. Выходим на ту дорогу и голосуем, как придурки. Это на ночь глядя, во второй половине дня.
В.В.Овсиенко: А там же, наверное, сотни километров?
П.П.Розумный: Шестьсот километров! Это безумие! Я говорю: «Нам придётся не раз голосовать». Так оно и вышло. Едет какой-то «бобик», подбирает нас. Куда он едет? А он заезжает по дороге на фермы. Фермы, правда, у дороги. И зачем он заезжает? Там получили зарплату и уже по три дня не поят коров.
В.В.Овсиенко: Сами пьют, а коровам не дают.
П.П.Розумный: Пьют, совершенно верно. Выпивают всю воду. Ездим мы по этим фермам, поздней ночью заехали в какую-то Романовку, там этот самолёт, который летит в Багдарин, делает промежуточную посадку. Мы там в сумерках ищем гостиницу. Нашли двухэтажное деревянное здание — оно оказалось гостиницей. Ночуем там до утра. Утром снова на перекладных. Идём к реке, которая замёрзла так, что по ней ещё ездят. В апреле ещё ездят на автомобилях по льду — так она промёрзла до дна, та речушка. Нам показали, что если переберёмся через реку, то там ездят машины, которые могут идти на Багдарин. Вот нас подбирает в кабину КамАЗ. Шофёр молодой, так поглядывает на нас... Валерий похож на грузина, так он на него поглядывает, можно ли с него много денег взять, ведь у грузин же много денег, известное дело. У нас же денег очень немного — только на билеты назад, и всё. Я уже чувствую, что мы не то делаем, что мы попали впросак. Едем-едем, ещё километров триста ехать, а день-то там не такой и длинный. Ехали мы до ночи, едем ночью. Навстречу едет какой-то автомобиль, мигает. Наш шофёр выходит, долго разговаривает с тем шофёром, который ехал навстречу. Мы уже переглядываемся — что-то не то, нас здесь могут ограбить или ещё что-нибудь сделать, ведь это же пустыня. Но как-то обошлось. А у меня есть тот ножичек, единственное оружие, тот, что у меня потом забрали. Тот ножичек мне подарил Мыкола Холодный, когда был у меня в Песчаном Броде Кировоградской области. Я его сам попросил у Холодного. Вот мы как-то с большим страхом, я бы сказал, наконец поздней ночью доехали до Евгения, разыскали его — то ли было уже утро, я сейчас не припоминаю. Ехали всю ночь, а наутро приехали — так, кажется, было. Несколько раз мы в дороге ночевали. Ну, Евгений очень обрадовался, это была как раз Пасха. Он очень обрадовался всему этому. Целый день мы роскошествуем, пьём чай, он рассказывает — ну, радость большая и нам, и ему. Не ожидал — ведь мы же без предупреждения. Без конца разговоры и разговоры.
На другой день как-то зашёл разговор, что может быть из-за нашей поездки, какие наказания выпишут нам наши «наставники». Евгений как-то так с нажимом сказал: «Да это, — говорит, — не вам выпишут — это, возможно, мне что-то из-за этого будет. А вместе со мной и вам могут выписать какой-нибудь рецепт как, так сказать, конспираторам». Я вижу: мой Валерий позеленел, пожелтел и замолчал, категорически замолчал. Что вы думаете? Просыпаемся мы рано утром на следующий день, а Валерия не видим. Нет Валерия, исчез Валерий. Аэродром там — рукой подать. Оказывается, Валерий уже улетел.
В.В.Овсиенко: А как вы узнали, что он улетел?
П.П.Розумный: Минуточку, оно было немножко иначе. Евгений пошёл на работу, а я ещё спал. Приходит Евгений на обед и обнаруживает, что Валерия нет. Я говорю: «Его нет». Идём на аэродром и узнаём, что Валерий уехал. Там же регистрируют, кто уезжает. «Ну как это, — говорит Евгений в таком отчаянии, — ну как это так можно уехать, ну как это?» А я говорю: «Да это, может, связано с тем, что ты вчера сделал такое смелое предположение относительно нашего общего будущего в связи с этим приездом». Он просто сбежал, не сказав. Евгений был страшно озадачен и взвинчен. Я побыл ещё день-другой и уехал. Так закончился мой первый визит. Ну, а про второй визит я уже рассказал.
(Во второй раз?) Евгений передал записку для Ивана Дзюбы (она до сих пор у меня есть, в блокноте записана, без адреса, без ничего. Я хотел бы её когда-нибудь Евгению вручить назад, у меня тот блокнот хранится) и попросил, чтобы я зашёл к Дзюбе, попросил, чтобы я в Москве зашёл к Сахарову. Я не зашёл, я и не собирался — нечего мне к Сахарову заходить. Как я такую миссию выполняю, чего мне к Сахарову заходить? И к Дзюбе я тогда не попал, потому что меня вскоре арестовали. Я тогда поехал к Красивскому, туда-сюда разъезжаю. Возвращаюсь однажды — мне повестка явиться в милицию. «Обойдутся», — думаю, и поехал дальше. Поехал к Сокульскому, рассказал ему, что меня повесткой в милицию зачем-то зовут.
Но перед этим я скажу, как у меня появился этот нож. Два ножа у меня было. Я поехал в соседний с Багдарином городок, называется он Малене, кажется. Там было как-то культурнее, там были сравнительно большие магазины. Зашёл в хозяйственный магазин и увидел, что там продаются охотничьи ножи, семь рублей нож. Я спрашиваю, можно ли купить. Можно, за семь рублей. Никто не спрашивает никаких документов, никаких разрешений. Я купил его. Принёс и показываю Евгению — он такой ещё смазанный. Он так посмотрел на меня, мол, что ребёнок, играется ножами. Он ничего такого особенного не сказал.
Евгений подготовил такую передачу, что я должен был её спрятать. В Улан-Удэ в ожидании самолёта я поехал в город на целый день. Там километров, может, пятнадцать от аэродрома. Мешок был тяжёлый, неудобный, что же я буду носить его целые сутки? Сдал его в камеру хранения. Так они, видимо, заранее обыскали его и во время посадки изымают: надо посмотреть в мой рюкзак. Смотрят и сразу находят — долго не искали — те ножи в кармане рюкзака. Они знали, где лежат. Тут же составили протокол, тут же есть понятые, по этой причине задержали самолёт часа на два. Отдают мне назад охотничий нож, а тот карманный забирают. Так и в протоколе досмотра было записано, и свидетели расписались, что так было.
Я еду домой, заехал во Франковск к сыну Тарасу, завёз ему тот нож, думая, что раз у меня уже повестка в милицию есть, то отдам сыну тот нож. Думаю, чтобы не забрали, я его отвезу Тарасу. Спрятал там у него за книжками на полке — они потом нашли его там, у Тараса тоже делали обыск.
АРЕСТ 8 ОКТЯБРЯ 1979 ГОДА. СЛЕДСТВИЕ
У меня этот нож спрашивали, когда обыскивали. Они явились ко мне восьмого октября. Я в тот день пошёл утром в поле собирать орехи — там у нас есть такая ореховая роща. Пришёл, принёс мешочек с орехами, вижу, что-то у моего двора синий автомобиль, у соседнего — автомобиль, ещё у соседнего с другой стороны тоже автомобиль. Думаю: «Что за наезд автомобилей?» Ещё не догадываюсь, что это за мной приехали, ещё мне кажется, что милиция со мной шутит. Когда во двор — идёт мне навстречу подполковник такой под потолок, метра два. «Это вы Розумный?» — спрашивает. «Да, я», — говорю. — «Ну, пойдёмте». А в доме уже кипит шмон — трясут уже, уже дрова повыбрасывали, мать перепуганная стоит, двое понятых. Говорю: «Что это тут за разбой? Меня дома нет, можно было подождать, что ли». Разбой — так я это назвал, они промолчали, никто не возмущался. «Собирайтесь, поедем». Я говорю: «Как? У меня делают шмон, а мне собираться?» — «Собирайтесь, поедем». Ну, я собираюсь, но говорю: «Вы не имеете права меня забирать из дома, пока не закончится шмон». — «Имеем». И тянет меня — давай-давай, мол, быстрее. Говорю: «Разве это обыск? Это грабёж». Ничего, проглотили и это. «Разбой» сказал и «грабёж» сказал. А мать моя напугана навеки — что я с ними не очень-то вежливо разговариваю.
Повезли меня в милицию и назначают мне такого капитана Ткаченко. Ему скоро присвоили майора, во время следствия показывал при мне своему другу, что ему присвоили звание майора.
Итак, дата ареста — 8 октября 1979 года, я точно помню. Я же им сказал: «Вчера только отпраздновали день Конституции, а сегодня нарушаете Конституцию». Тогда седьмого числа была Конституция. Это, кажется, было воскресенье. Этот Ткаченко — невысокого полёта следователь, я так понял, — начал писать протоколы. Я говорю: «А чего вы со мной говорите по-русски? Я хочу, чтобы со мной говорили по-украински. Вы, — говорю, — меня таскаете всю жизнь за украинский язык, так уж хоть говорите на украинском языке со мной». Он задумался, взял свои бумаги, быстрым шагом вышел и где-то исчез, даже меня никому не поручал. Долгонько не было его. Появился и начал писать протокол на украинском языке и говорить на таком, какой умел, но всё-таки на украинском. С тех пор уже до конца протоколы были только на украинском языке. Он целый день до вечера что-то меня спрашивал, писал протоколы, всё это делал медленно. Ему было непривычно на украинском писать.
Потом вечером меня везут куда-то. Привезли в областную прокуратуру. Сидит заместитель прокурора, мне его представляют — Обиход, или такая какая-то фамилия.
В.В.Овсиенко: Был какой-то Обиход...
П.П.Розумный: А теперь Обиход заместитель Генерального прокурора.
В.В.Овсиенко: Ага, может, это тот самый? (Николай Обиход, родом с Житомирщины, на Днепропетровщине не работал. В.О.).
П.П.Розумный: Такая короткая украинская фамилия. Он спросил сначала: «Какие у вас претензии к шмону?» — «Какие претензии? Меня взяли под арест, не дождавшись окончания обыска». — «Закон позволяет». — «Тогда, — говорю, — позвольте мне посмотреть протокол обыска». Меня очень интересовало, что там они у меня нашли. У него протокол обыска был под рукой — даёт мне протокол. Я его прочитал — ничего там нет такого, чтобы я заволновался, всё в порядке. Сидят по периметру комнаты подполковник, полковник, майор, мой капитан. Все перепуганные перед прокурором — меня удивило, что они такие, как дети, перед ним. Один я там никого не боялся, мне кажется, сидел себе спокойно. Ну, не так уж и спокойно, а так себе, по крайней мере, без внешнего страха. Прокурор объявляет мне постановление об аресте. Ну что, я благодарить не собирался. Вывели меня.
Вывели, везут в тюрьму. Везли-везли — большие такие ворота, метров пять вверх, железные. Как громыхнули эти ворота за мной, так я тогда почувствовал, как у меня душа ушла куда-то в пятки — не то испуг, не то озадаченность, не то какое-то полуненормальное состояние. Но я быстро опомнился, думаю: хорошо, я их буду сейчас бояться... Да я всю жизнь только то и делал, что подставлял им ногу, а теперь я буду их бояться? Да они же меня должны были когда-нибудь схватить? И это у меня сразу всякий страх сняло, и стало мне почти весело в тюрьме.
Вот такие мои первые впечатления. Ну, а те переживания — они неинтересны.
В.В.Овсиенко: Вас сразу отвели в камеру?
П.П.Розумный: Нет, меня завели на какой-то этаж и, представьте себе, завели в ту комнату, где надзиратели, а за столом сидит что-то вроде знакомое, улыбается мне: «Ну, что, Пётр Павлович, прибыли сюда?» Я говорю: «Я вас вроде помню». Был такой у меня ученик в Солёном по фамилии Толмачёв. Видно, из тех украинизированных москалей, но я не слышал, чтобы он когда-нибудь говорил по-русски, он был обычный себе ученик. Теперь он работает в тюрьме и, так сказать, снисходительно ко мне отнёсся, как я так понял из его слов: «Ну, куда вас разместить? Мы, наверное, вас разместим в „обиженку“». А что такое «обиженка»? Вы знаете, что такое «обиженка»?
В.В.Овсиенко: Да, знаю, знаю.
П.П.Розумный: Ну, я тогда узнал тоже. А ну, а как вы знаете?
В.В.Овсиенко: Это та камера, куда сбрасывают изнасилованных, избитых — „обиженных”.
П.П.Розумный: Изнасилованных, избитых, покалеченных за что-то там... Я ещё не знал, что это такое, а тот надзиратель не смог для меня найти обычную камеру. Оказывается, в «обиженке» сидят нормальные люди, они не бьют друг друга, потому что и сами избиты. Они всё время демонстрировали в той «обиженке» — камера, кажется, номер 90 — избитые задницы. Синяя-синяя, нет живого тела на ней, избитая спина... Не мне лично, а друг другу показывают. И я там оказался. Им дают передачи, они меня подкармливают, эти «обиженные». Они мне кусочек сала, хлеба дают. Несколько дней я там был, а потом переводят меня в обычную камеру, девяносто вторую, где должно быть 18 человек, но там их было и 28, кажется, и больше.
В.В.Овсиенко: Ого-го.
П.П.Розумный: Там второй ярус был... Сплошь лежали...
В.В.Овсиенко: И всё в дыму, да?
П.П.Розумный: В дыму, ужасно, и вонь. Тут же туалет, параша... Не параша, а ватерклозет. Параша была в других местах... Это всё дико и непривычно. Меня ведут к «пахану». Пахан, лёжа, так будто в бреду, на меня не очень-то и смотрит, потому что его, как я увидел, ночью надзиратели угощали наркотиками, он там был для них доверенным лицом. Он допрашивает меня, где, как, что, к чему, какая статья, и сразу вердикт, что это статья 222-я — не то, что они хотели, у меня что-то другое. А потом: «В какой камере вы были?» Я назвал. Эх, они все как сбежались на меня смотреть: «О, в „обиженке“ был?» Пахан их успокоил. Он был предупреждён, так я понимаю, потому что в «обиженке» люди, которых презирают, которых бьют и убивают, а у меня не было ни с кем конфликта. Меня в первый же день посадили в «обиженку». Говорю, только привели — сразу и посадили туда.
Принимают меня. На второй день меня ведут отпечатки пальцев делать. Я впервые увидел, как это делают: тогда вечером прикладывали только указательный палец, один и другой, а тут уже полную ладонь. Какой-то сержант, такой хмурый, привёл меня и рассказывает врачу, или кто он там такой в белом халате, что вчера они на таком-то проспекте в ресторане так набрались, что сегодня... Трясёт головой. Думаю: «Ничего себе команда». Потом на меня: «А таких убивать надо». Я вспомнил, как Евгений мне рассказывал, когда я к нему впервые приехал, как он был на пересыльной в Иркутске, к нему пришёл начальник тюрьмы и говорит: «Таких убивать надо!» А Евгений ему говорит: «Если бы свинье рога, она бы всех людей переколола». И я, не оборачиваясь, говорю: «Если бы свинье рога, она бы всех людей переколола». Он на меня бросился с кулаками, но этот: «Стоп-стоп-стоп» — не дал. Обошёлся я без кулаков. «Если бы свинье рога, она бы всех людей переколола» — как Евгений, так и я сказал.
Ну, меня «благословили», я в той камере сидел всё следствие до суда. Увидел ту систему, понял её. Как этот пахан идёт куда-то будто лечиться, как он наедается, где-то ему дают марихуану или что, что он приходит и командует. А команды его все выполняют: кого бить, кого миловать. Как они выжимали из тех людей соки, как били тех молодых людей, которые не признавались следователям. Их пытали не только следователи, но и сокамерники. Как-то поймали братьев из Крыма, они занимались воровством, но никогда ничего не выдавали, что и где крали. Один из них сидел в нашей камере, а другой где-то в другом месте. Так его так били, что я не могу себе представить, как он жил после тех побоев. Его так избили несколько раз, он больше не появлялся, я думаю, он в больницу попал.
Я больше не буду рассказывать о тюремной жизни, её скучно слушать, я когда-нибудь опишу её более-менее подробно, называя некоторые имена. Но вот ещё один эпизод. Привели одного такого молодого, красивого, с бородкой, с усами — ну, можно было с него писать портрет Иисуса Христа. Он залез в универмаг «Славутич», где-то там спрятался перед закрытием, надел на себя пару костюмов и хотел утром выйти — его схватили. Он был такой красивый, привлекательный мужчина, что они его решили изнасиловать. Можете себе представить такого бугая, молодого придурка — его на второй ярус послали, тот бугай под одеялом молча творил это надругательство... Молодой человек сопротивлялся, но его били кулаками с обеих сторон, так что он уже не мог сопротивляться, потому что убьют на месте... Его из камеры вынесли, он был шокирован, полуживой. Я его больше не видел.
А ещё меня сажали в камеру с наркоманом. Вдвоём мы сидели. Камера на четверых, тюрьма переполнена, но нас только двое. Так что намеренно они его со мной посадили. Он на втором ярусе, я на нижнем. Я сначала даже не мог спать, потому что чувствую, что он на меня может наброситься. Он какой-то абсолютно деградировавший наркоман, уже не первая судимость у него. Но потом я к нему присмотрелся поближе: он почти ничего не ест, только пьёт воду. Думаю, я с ним справлюсь: если бы он набросился — одолею его. Ну, он на меня не бросался, но мне было неспокойно.
Потом переселили меня в другую камеру с убийцей — такой метис грузина и эстонца, как он мне сказал, по фамилии Педер, потому что отец эстонец, а мать грузинка. Но у него грузинские замашки, грузинский акцент, грузинский цинизм. Он ходил к любовнице, которая была замужем, и её муж был убит. Будто муж на него набросился, но он его убил. Таксисту заплатили 700 рублей, чтобы он вывез его. Ну, их схватили, и её тоже. Он из этой камеры, где мы сидели, перестукивался через трубу с женой, которая сидела ниже. Наверное, их намеренно так посадили, чтобы они могли разговаривать между собой. А это категорически запрещено, это же серьёзное дело. Он говорил, что та женщина выйдет, потому что ни в чём не виновата. Она детский стоматолог. Она будет ждать его. А как он выйдет на волю, то они поедут в Ригу и будут там жить счастливо. Я говорю: «Как вы сможете жить счастливо, если вы убили человека?» — «Но я не виноват!» — и так на меня звереет. Сто раз мне рассказывал, как тот муж на него набросился, как перед ним вся жизнь прокрутилась, будто в калейдоскопе. Потому что будто тот муж его должен был убить, но он его убил.
Я думаю, этого достаточно на сегодня.
В.В.Овсиенко: 12-й час.
Так пан Пётр Розумный 29 апреля 2001 года закончил свой рассказ, а остальное пообещал записать на кассету сам.
Я больше не буду рассказывать о тюремной жизни, её скучно слушать, я когда-нибудь опишу её более-менее подробно, называя некоторые имена. Но вот ещё один эпизод. Привели одного такого молодого, красивого, с бородкой, с усами — ну, можно было с него писать портрет Иисуса Христа. Он залез в универмаг «Славутич», где-то там спрятался перед закрытием, надел на себя пару костюмов и хотел утром выйти — его схватили. Он был такой красивый, привлекательный мужчина, что они его решили изнасиловать. Можете себе представить такого бугая, молодого придурка — его на второй ярус послали, тот бугай под одеялом молча творил это надругательство... Молодой человек сопротивлялся, но его били кулаками с обеих сторон, так что он уже не мог сопротивляться, потому что убьют на месте... Его из камеры вынесли, он был шокирован, полуживой. Я его больше не видел...
Я думаю, этого достаточно на сегодня.
В.В.Овсиенко: 12-й час, полночь.
Так пан Пётр Розумный 29 апреля 2001 года закончил свой рассказ, а остальное пообещал записать на кассету сам.
П.П.Розумный: Итак, после долгого перерыва попробую продолжить рассказ о своём прошлом. 25 ноября 2001 год, село Пшеничное.
Моё следствие идёт очень медленно, мой капитан Ткаченко вызывает меня на разговор раз в неделю, говорит как-то вяло, придирчиво относится к моим словам, часто переспрашивает. Явно видно, что ему не о чем говорить со мной, нет предмета разговора. Но следствие идёт. Однажды вызов на следствие даже сопровождался приходом какого-то другого офицера, и они, мой капитан и тот капитан, что пришёл, завели разговор о повышении своих воинских званий. И так долго об этом говорили, что забыли обо мне. Мой капитан пообещал сшить новый мундир под погоны майора. На этом меня и отпустил.
Так шло моё следствие. В камере № 92, где я сначала сидел, меня никто не трогал и я никого не задевал, ни с кем не связывался так, чтобы аж до конфликтов доходило. Но вдруг меня почему-то решили переместить в камеру на так называемой вилке. «Вилками» в днепропетровской тюрьме называют такие ответвления от основного здания тюрьмы, которые компонуют московскую букву «Е», потому что тюрьма построена ещё во времена печально известной царицы Екатерины, и в её честь такое важное здание было скомпоновано архитекторами как буква «Е», или украинское «Є». На этих «вилках» отдельные камеры на двоих, на четверых и даже на одного. Итак, туда меня и перемещают в камеру на четверых, однако нас только двое.
Какой-то молодой человек неопределённого возраста, где-то так тридцать с маленьким хвостиком, сразу проявил ко мне страшный интерес. Пристал ко мне и не давал мне возможности ничего о себе рассказать. Хоть ничего и не спрашивал, но сам о себе рассказывал невероятно много. Оказывается, у него фамилия Педер, мать у него грузинка. У него какие-то такие зелёные глаза, пепельный цвет волос и такой хищный, я бы сказал, оскал азиата. Он уже в который раз пересказывает мне свою историю. Настаивает на том, что будто бы пошёл к какой-то женщине в гости, но пришёл её муж и завязалась драка, и якобы его, этого Педера, хотели там убить, но он опередил намерения мужа своей любовницы, где-то у него взялся молоток, которым он убил этого мужа. А убив, вызвал такси, заплатил таксисту 700 рублей, вывез труп убитого и выбросил где-то в Днепр. Поскольку его любовница, то есть жена убитого, также участница убийства, то и она сидела. Что интересно — они сидели в таких камерах, что могли перестукиваться через железные трубы. Они каждый день регулярно в определённое время перестукивались или разговаривали через кружку. Самое интересное, по-моему, в этом эпизоде было то, что после каждого разговора он подробно пересказывал мне, что она ему говорит, как они построят свою жизнь в будущем. Она, оказывается, детский зубной врач — редкая профессия. Эта редкая профессия даст им большое материальное обеспечение, и они будут счастливо жить после окончания этой эпопеи, которая, по его мнению, закончится для него очень благоприятно, потому что он не убивал. То есть он убил, но по необходимости, якобы защищаясь. Это он мне долго и много раз пересказывал. В его воображении прокручивался калейдоскоп событий прошлой жизни, как это бывает у людей накануне смерти — это известно психологам. И этот калейдоскоп он мне пересказывал, крутил головой, повторял одно и то же, и явно видно было, что он его заучил для того, чтобы пересказать следователям и судьям. Этот аргумент был слабоват, потому что он всё намекал, что его мать живёт в Грузии и наезжает в Днепропетровск и встречается с соответствующими людьми, которые могут повлиять на их судьбу. Они будут вдвоём счастливы, когда это закончится. Если любовницу выпустят, а его нет (она допускает, что его всё-таки осудят на какой-то срок), то она будет под воротами тюрьмы сидеть день и ночь и не отходить, пока он не выйдет. А как выйдет, тогда они уедут в Ригу и будут жить счастливо. Я слушал этот рассказ, слушал, а потом говорю: «Да как же вы думаете жить счастливо после такого убийства? Всё-таки, как-никак, но на вашей совести убийство человека в его доме при очень неблагоприятных для вас обстоятельствах». Этот грузин очень оскалился, хищно смотрел на меня, бегал по камере, насколько это возможно было по камере бегать, жестикулировал и ужасно рьяно доказывал, что это убийство с его стороны было абсолютно вынужденным и что этот вынужденный шаг не может быть криминалом.
Так проходили наши дни с тем Педером. Я уже не трогал и не беспокоил теми моральными вопросами его светлого будущего в Риге, как он его представлял с той любовницей. Так прошло где-то недели две, и меня переселяют в другую камеру. Опять же в так называемой «вилке», в четырёхместную камеру, но нас снова только двое. Молодой человек, совершенно бледный, какой-то хилый на вид, фамилия его Черноиваненко, а «кликуха» у него, как он рассказывает мне, «Чёрный». Он наркоман, наркоман первой гильдии. Он кололся наваром маковой соломки и в этом видел счастье жизни. Сидел он дважды, третий срок вот ему предстоял. Он его заработал намеренно: хотел вернуться назад в зону, потому что на воле ему нечего делать. В зоне у него были очень хорошие условия, в зону постоянно разными способами ему передавали соломку, они её варили и кололись — или что там они ещё делали с той соломкой. Но они там были вполне счастливы, потому что работа была необременительная и питание достаточное для такого, как он. Водка ему не нужна — наркоманы водки не пьют, и ему там было вполне хорошо. Он решил попасть туда в третий раз. Более того, он рассказал мне, каким способом там, в зоне, они даже зарабатывают на этой соломке. Эта соломка попадает к ним уже как навар. Они его покупают. А деньги в зоне водятся. Они в зоне имеют хорошие деньги. Очевидно, им с одной стороны руководило желание быть нашпигованным этим зельем, а с другой стороны, желанием заработать на этом. Он, следовательно, из таких меркантильных соображений решил вернуться в зону. Как он это сделал? Пошёл к сестре, которая живёт в частном доме где-то на окраине Днепропетровска. Во дворе стоял большой холодильник. Он его открыл и повыбрасывал оттуда мясо и другие продукты, которые там лежали. Сестра с зятем позвонила в милицию. Милиция пришла, забрала его, и он вот сидел и ожидал своих нескольких лет за мелкое хулиганство. «А чего же ты, — говорю, — к сестре пошёл, а не к кому-то другому, если решил спровоцировать себе новый срок?» Он говорит: «В другом месте могли бы побить, а тут сестра и зять, они не пытались бить, обошлись мирно». Так легко он пошёл на третий срок.
Я сначала очень тревожился из-за своего сокамерника, потому что это наркоман. У него бледное лицо, выпуклые глаза, какая-то гнусавая речь — у него был довольно ослабленный теми наркотиками организм. Он, например, не ел той баланды или каши, что нам приносили. Он, в основном, пил, а пить было нечего, кроме воды, так он воду пил и этим жил.
Я думаю, что это была одна из попыток, чтобы наркоман со мной поквитался. Потому что в своей агрессивности, которая у них наступает временами, — ему же не дают материала, который нужен для поднятия настроения, — он мог бы наброситься на меня, повредить мне что-то или даже задушить меня. Я с самого начала почувствовал, что у него такие намерения могли быть и что он на такое был способен. Он лежал на верхней полке по диагонали, а я лежал по диагонали внизу. Я его видел, и он меня видел постоянно. Я часто просыпался ночью и видел, как он на меня смотрит. Это мне, конечно, спокойного сна не добавляло. Какую-то неделю я прожил в тревоге, а потом успокоился. Я почувствовал, что если бы он на меня набросился с какими-то злыми намерениями, то я мог бы с ним справиться, несмотря на то, что он молодой. Но он не демонстрировал своей силы — он её просто не имел. Он постоянно планировал, как бы кого-то обмануть. Тех заключённых, что приносили нам баланду, он постоянно ангажировал на какое-то дело. И действительно, однажды ему принесли сапоги, за которые он пообещал дать 50 рублей. Сапоги он забрал, 50 рублей не дал, и на этом закончилось, потому что там некому такое дело обжаловать. Они у кого-то взяли эти сапоги и хотели за это деньги, но за такое дело их накажут. Поэтому промолчали. Он даже со мной подружился — я почувствовал, что он ко мне благосклонно относится. Он слушал мои рассказы, мою биографию, и это импонировало ему. Вплоть до того, что хотел подарить мне те сапоги, когда я шёл в зону. Но я отказался от тех сапог: думаю, кто-то узнает их или ещё что-то. Тогда он попросил, чтобы я закупил ему на свои деньги как можно больше сигарет. Я сделал ему такую услугу, набрал и себе сигарет, хотя я не курил тогда активно, а так, только иногда. Это разрешалось покупать на свои деньги.
Так я коротал время до своего суда. Был ещё один интересный эпизод. Нам давали литературу из тюремной библиотеки. Все книги были удивительно потрёпанные. Таких книг я не встречал нигде в жизни: каждая из них была порвана, потрёпана, в них погрызены, вырваны листы, всякие там надписи — но всё-таки книги. Попался мне в руки какой-то журнал без названия, без обложки, где шла речь об американо-английских конвоях, которые поставляли Советскому Союзу во время войны снаряжение, амуницию и продовольствие через Северное и Баренцево море в Архангельск, в порты на Белом море, даже на Новую Землю. И вот меня зацепил интересный эпизод. Какой-то капитан военного корабля мистер Смит потопил немецкую подводную лодку, и когда на поверхность воды всплыли члены экипажа потопленной немецкой лодки, то по международным правилам поведения на воде этот военный корабль Британии должен был бы подобрать этих людей, плававших на волнах Северного моря. Капитан Смит распорядился не подбирать никого из немецких подводников и поплыл своим курсом. Это закончилось тем, что адмиралтейство, узнав об этом эпизоде, вызвало капитана, сняло его с должности и назначило его на транспортный корабль, который конвоировали, когда он перевозил продовольствие и амуницию для Советского Союза. Итак, капитана Смита сильно понизили: он был одним из нескольких десятков капитанов кораблей, плывших в так называемом семнадцатом конвое. Этот конвой немецкая авиация, базировавшаяся на норвежских аэродромах, буквально разгромила. Только два повреждённых каким-то чудом судна спаслись. Один пристал к Новой Земле, а ещё один прорвался в Архангельск — как-то ему удалось обойти атаки немецкой авиации. Немецкая авиация за каждый потопленный корабль платила одним бомбардировщиком «Юнкерс-78». Это были пилоты-смертники, которые шли на явную смерть, но зато сбрасывали бомбы точно в цель, и корабль непременно тонул. Это вызвало у одного капитана английской флотилии, который уцелел, замечание: «Что-то новое происходит в средствах ведения войны, совершенно новое». Но меня больше всего поразил здесь эпизод, о котором рассказали дальше. Почти все корабли были потоплены, много моряков спасалось на плотах. Их подбирали немецкие подводные лодки, которые были поблизости, и небольшие надводные корабли, пришедшие в эту зону. Когда подобрали всех, кого можно было, то оказалось, что среди тех, кого подобрали, нет одного капитана — капитана Смита, который в своё время не подобрал немецких подводников, спасшихся после потопления их подводной лодки. Меня это так поразило, что я должен был поделиться со своими сокамерниками этой новостью. Мои сокамерники внимательно выслушали это и прокомментировали примерно так: «Так ему и надо, тому капитану Смиту». Такой был комментарий.
СУД В СОЛЁНОМ
Мой капитан Ткаченко, а теперь уже и майор, объявляет мне, что суд состоится в Днепропетровске. Даже назначают дату: 14 декабря 1979 года. Но через день-другой меня вызывают и объявляют, что суд будет в Солёном, опять же 14 декабря. Итак, 14 декабря рано утром меня везут на специальном «воронке» в Солёное. Когда останавливался автомобиль, мне странно было видеть через щёлочку в окне ноги граждан, которые передвигались через перекрёсток. Помню, у меня даже возникла мысль: не стыдно ли этим гражданам, что их соотечественники ездят вот в таких закрытых экипажах или автомобилях, что их возят, как скотину? И вспомнил себя: а мне было стыдно, думал ли я об этом? Мне казалось, что я думал. Мне хотелось услышать ответ от других — ответа не было.
Привозят меня в Солёное и заводят в камеру. Здесь все знакомые милиционеры, все такие официальные и неподкупные, хотя я к ним и не обращался, не пытался заговорить. Разговора со мной не было никакого, а всё было сухо, неприветливо и жёстко. Привели меня в зал. А перед тем мне как-то удалось сообщить, что будет суд. Я даже не помню, как это было, но, кажется, приезжали ко мне мой сын Павел и бывшая жена на свидание, и я им сказал, что будет суд такого-то числа. Приехали они, приехали некоторые знакомые: Иван Сокульский, Фёдор Клименко. И всё, больше никого не было. Но распоряжался в коридоре, как мне потом сообщили, такой Гаркуша — бывший заведующий отделом образования, негодяй первого сорта. Он выгонял тех, кто хотел попасть на суд, он не пускал их. Например, моей племяннице Надежде Михайловне он так и сказал: «Там тебе нечего делать, не иди туда». Она говорит: «Почему вы говорите, нечего делать? Там судят моего дядю». — «Ну и что?» Короче говоря, не пустил и всё. То есть он заменял милицейских, чтобы милиция этим не занималась, потому что это нарушение закона. Нарушением закона занимался партийный функционер Гаркуша.
Итак, меня судят. За столом сидит известный судья Данильченко, какая-то райкомовская шлёндра Якименко и бывший судья Яременко — человек без принципов и морали. Это «народные заседатели». Ну, надеяться от такого суда чего-либо не приходилось, и я решил использовать свой козырь с отводом суда. Я выразил судье Данильченко недоверие. У меня было три пункта недоверия — я их скомпоновал перед тем, потому что так и думал, что за это может взяться судья Данильченко — он был там главным судьёй и главным доверенным лицом партии и правительства.
Первым пунктом я напомнил такое. В своё время меня уволили с работы в пекарне с помощью мата. Я изложил своё заявление с подписями свидетелей и потребовал, чтобы того директора пекарни Третьяка наказали как негодяя и хулигана, который меня оскорбил. Он, судья Данильченко, сказал, что это мелкое хулиганство. Я говорю: «Если это мелкое хулиганство, то накажите, пожалуйста, как за мелкое хулиганство. Такие вещи нельзя пропускать, потому что они компрометируют человека и власть». Судья Данильченко сказал: «Если вы и дальше будете умничать, я вызову милицию». Я решил дальше не «умничать», а уйти от него. Это был первый аргумент, почему я такому судье не мог доверять. Второй момент. Я обратился к судье, что нашей бригаде не доплатили на работе. Мы работали согласно договору более 6 месяцев, поэтому нам надо доплатить в соответствии с законом как постоянно работающим. Мы подали такой иск тому же самому Данильченко. Тот Данильченко рассмотрел наше дело и вынес такое решение: поскольку бригада зарабатывала столько, сколько металлурги, то есть 300-400 рублей в месяц (это была подрядная работа по договору, мы строили деревянные утятники), то нам нечего доплачивать, потому что мы и так зарабатывали на уровне металлургов, следовательно, должны быть вполне довольны. На моё замечание, что он не учитывает в этом решении буквы и духа закона, он сказал, что хотел бы, чтобы я перестал «умничать», а слушал, что говорит судья. Кто здесь старший — он, судья, или истец? Итак, он отказал нам в иске, ещё и аргументировал таким примитивным способом. Это был второй аргумент, почему судья Данильченко недостоин решать мои дела, — потому что он уже дважды решал несправедливо, не согласно закону, а вопреки закону и правилам поведения людей.
Судья Данильченко был обеспокоен этими аргументами, их внимательно слушали присутствующие, и они казались абсолютно обоснованными. Поэтому он сильно забеспокоился. Он шептался со своими помощниками, то есть с так называемыми народными заседателями. Но вопреки моим аргументам решил продолжить судебное заседание и обращается ко мне так, будто ничего не случилось. Я встаю и говорю ещё раз: «Я отказываюсь участвовать в таком заседании, где судья не вызывает никакого доверия. И, пожалуйста, ко мне больше не обращайтесь. Это моё законное право — отвести суд, я привёл аргументы, которых вполне достаточно». Это уже совсем шокировало моего судью. Он вскочил, взял обоих своих заседателей, они пошли в совещательную комнату, сидели там минут 30, не меньше, вышли и объявляют: «Перенести судебное заседание на 21 декабря в связи с тем, что нужно вызвать дополнительных свидетелей». — «Вот так-так», — подумал я. Вместо того, чтобы сказать правду: в связи с недоверием судье, он выдумал аргумент — «дополнительные свидетели».
Так и случилось: суд закрыли, меня отвезли в тюрьму, я жду судебного заседания до 21 декабря в Солёном. В Солёном меня разместили в камере. В коридоре тех камер будто случайно встречается со мной какой-то господин из моего села. Давно уже уехал, но родом из моего села. Улыбаясь, он спрашивает, что бы я хотел пересказать или передать своим. Провокаторов и доносчиков нигде не хватало, но такой примитивный способ меня удивил. Я сказал, что всё и так известно, нечего пересказывать.
На 21 декабря снова подобрали контингент публики — это райкомовцы. Как я посмотрел — половина из них мои бывшие ученики. Говорю: «Хорошо я учил вас, что вы пришли, так сказать, статистами на мой суд». Это представители разных служб. Кагэбистов трое-четверо человек, не меньше. По крайней мере, возле Фёдора Клименко сидел точно один такой, что готов был немедленно заломить руки назад. Возле Ивана Сокульского такой будто случайно подсел. Была ещё Надя, моя племянница, привезли Тараса, моего сыночка, якобы как свидетеля. Ну, такой свидетель должен был быть непременно, потому что я действительно оставил тот злосчастный нож у него на квартире, между книжками его положил. Когда они обыскивали, то нашли этот нож. То есть Тарас мог выступать как свидетель, потому что нож всё-таки был найден в его доме.
Тот суд был самым скучным зрелищем, какое можно наблюдать. Материала нет, а суд есть. Назначили судьёй какого-то мне не известного из Днепропетровска, как видно по акценту, галичанина, хорошо владеет украинским языком. Но заседатели те же самые, что были в предыдущем суде. Я уже им отвода не давал, потому что у меня не было таких причин. Этот судья по фамилии Леон — такое бледное существо, измождённое от злости или недоедания, или ещё по какой-то причине. Внешний вид имел такой, что от него ничего хорошего ожидать было нельзя. Он был какой-то злой сам по себе, потому что он физиологически страдал — видно, больной желудком или ещё что-то. Прокурор сурово требовал наказать за такую вину, как ношение оружия. Ну, и адвокат, которого я не просил, но мне его назначили, — такое скользкое существо, который также просил наказать, но смягчить наказание в связи с тем, что ножи не применялись на практике. Если бы применялись, то надо было бы наказать, заметил адвокат, должным образом. Никто не сказал ни слова, что наказания может и не быть.
Мне предоставили последнее слово — я его написал, я его опубликую отдельно. Я его не зачитал как следует, а так, кусками. Суть была примерно такая. Нож, о котором идёт речь — карманный, маленький и никаким предметом преступления быть не мог. Второй нож охотничий. Он действительно является холодным оружием. Но оружием, объяснил я, является всякий предмет, который может нанести вред человеку, животному или имуществу в руках определённого человека. Итак, нож в руках лояльного гражданина — это не угроза никому. Например, кавказские народы, входящие в состав Советского Союза, носят ножи за поясами и к тому никто не имеет претензий. Но у нас на Украине это дело поставлено так сурово, что ношение или владение холодным оружием или ножом является большим преступлением. Это уже есть форма дискриминации. Примерно так я высказался. Это одно. Потом я попросил продемонстрировать тот маленький нож. Судья на мою просьбу показал его — и это вызвало какой-то вздох, как вскрик, в зале: что это за ножик, о чём тут можно говорить? Этот ножик признан харьковской экспертизой как холодное оружие.
В конце своего последнего слова я задал несколько риторических вопросов.
«Что это, — показывая жестом в направлении ножей, — меч крестоносца, дамасская сабля, домаха, казацкая кривая сабля, турецкий ятаган или меч самурая?» Этот мой вопрос вызвал в зале какой-то такой шумок. «Да это обычная жабоколка. Такой нож, — показываю я на тот меньший нож, — в моём детстве называли жабоколкой, и никто никого не подозревал ни в каком криминале. Если мы, — закончил я, — декларируем на каждом шагу, что строим справедливое общество на базе развитого социализма, — здесь я сделал паузу, — то я уверен, что ещё сегодня вечером я, оправданный этим судом, буду пить кофе у себя дома». На этом я закончил. Кофе я не пил: через 20 минут мне объявили три года заключения в зоне общего режима. Меня повезли обратно в тюрьму...
МОЁ СКОРБНОЕ СЛОВО
перед судьями, прокурором и адвокатом — все эти люди составляли единое целое, и это целое требовало моей крови.
Где-то в феврале 1977 года на автобусной остановке села Пшеничного я нашёл нож. Это самодельное изделие небольшого размера, рукоятка изготовлена из цветной пластмассы — настоящий сувенирный ножик, место которому на полке сувенирного магазина. Изготовленный из хорошей стали, лезвие в конце сужено — этот хорошенький ножик хорошо служил при открывании жестяных консервных банок, и вообще этот нож хорошо выполнял привычные для кухонного ножа функции. Иногда я носил его с собой. Идёшь, например, в поле печь картошку. Берёшь этот нож сало резать или картошку чистить. Или на бахчу — без этого ножа не ходил.
Я, разумеется, и сам примерно представляю, что можно назвать холодным оружием, однако с моей стороны на этот нож подозрение не падало. Кроме объективных представлений, способствовало этому и то, что работники милиции в ранге офицеров дважды видели у меня этот нож. Так, 17 марта 1977 года на моей квартире в Ивано-Франковске производился шмон (обыск). Руководитель этой операции ст. лейт. Панило вынул из ящика письменного стола этот нож, осмотрел его и положил обратно. В своих показаниях он этого не отрицает, утверждая, что нож дома не является криминалом.
Второй раз этот нож у меня видели 12 апреля 1979 года в Киеве перед посадкой на самолёт, летевший в Москву. Лейтенант милиции осмотрел нож и вернул мне обратно.
Эти двойные осмотры упомянутого ножа дополнительно убедили меня, что речь идёт об обычном столовом ноже. Ведь, надо думать, при малейшем подозрении на предмет его принадлежности к разряду холодного оружия работники милиции непременно бы им заинтересовались.
Но при посадке на самолёт в Улан-Удэ 24 апреля 1979 года во время осмотра моих вещей в рюкзаке на этот нож обратили внимание, отобрали его, составив протокол. Через полтора месяца мне сообщают, что нож экспроприирован и что против меня уголовное дело возбуждаться не будет. Сообщение это подписал капитан милиции Бернштейн. Но через некоторое время уже другой капитан, по фамилии Коляденко, решил против меня уголовное дело возбудить, вследствие чего вот я перед вами ныне вынужден делать отчаянные усилия, чтобы доказать очевиднейшую истину: это жалкое творение фантазии ординарного слесаря не является предметом криминальным.
Экспертиза Харькова признала этот мини-ножик холодным оружием на основании прецедента: такого типа ножи относятся к разряду холодного оружия. Признание это абсолютно неубедительно, ибо в его основе лежит принцип так называемого подобия. Ведь предельно ясно, что для подобного определения должен быть юридический документ — я назову его кодексом — где были бы указаны и описаны параметры предмета, что давало бы законное основание для такого вывода. К величайшему своему удивлению я обнаружил, что такого кодекса в этом государстве не существует и что в каждом случае следователи прибегают к услугам экспертов. Подобная практика, позвольте заметить, способна допускать произвольное толкование в определении характера предмета и, разумеется, содержит в себе опасность произвольного решения и определения. Ведь с таким подходом, с такими критериями можно идти в любой дом, находить ножи и относить их к опасной для общества категории холодного оружия.
Экспертиза определила обсуждаемый нож как имеющий средние размеры. Это определение можно дополнить эпитетами жалкий, мизерный, миниатюрный, сувенирный. Напрашиваются метафоры, которые очень точно характеризуют выводы экспертизы: что серо, то и волк, или у страха глаза велики. В детстве, я помню, подобные изделия именовались жабоколками. Характеристики же харьковской экспертизы, что нож «колет и режет» убедительными для суда быть не могут, поскольку каждый и всякий нож и колет, и режет.
Получается, что дело здесь в том, в чьих руках находится подобный предмет. Следствие, например, не установило, что я имею склонность к хулиганским поступкам или же что я планировал хотя бы кого-то заколоть этим ножом или совершить криминальную резню. Рассматривать вопрос ношения ножа абстрактно — без всякого сомнения, переть против здравого смысла и не быть в ладах с духом закона, который создаётся для человека, а не против человека.
Ведь с того времени, как человек в каменном веке научился изготавливать ножи из твёрдого кремня, с того времени, следовательно, нож стал и поныне служит предметом первой и ежедневной необходимости. Появление ножа у человека каменного века наложило отпечаток даже на саму структуру человека. Уже не надо было драть когтями добычу — мясо или корни растений — это делалось ножом. Рука человека стала элегантнее, вместо когтей появились ногти, которые так привлекательно выглядят у дам после маникюра. У меня даже возникает искушение знать, определили бы кремниевый нож времён палеолита харьковские эксперты также холодным оружием и можно ли было к моим прапредкам, жившим в пещерах и носившим кремниевые ножи, применить статью 222 ч. III УК УССР и соответственно статью 218 ч. II УК РСФСР и закрыть их в кутузку.
Наш великий поэт написал такое стихотворение на тему холодного оружия:
Ой виострю товариша,
Засуну в халяву
Та й піду шукати правди
І тієї слави.
Ой піду я не лугами
Та й не берегами.
Ой піду я не шляхами,
А понад шляхами.
В таком контексте речь идёт, без сомнения, о холодном оружии. Цитируя Т. Шевченко, я намекаю на то, при каких условиях может идти речь о холодном оружии. Ведь ножи — извечные спутники человека на протяжении всего его существования, чего нельзя сказать, например, об оружии огнестрельном.
Напрашивается, следовательно, такой риторический вопрос. О чём собственно идёт речь в моём случае? Может, это меч римского воина, казацкая сабля, турецкий ятаган или меч самурая? Ни то, ни другое, ни третье, ни четвёртое. Речь идёт о настоящей жабоколке, которая так напугала харьковских экспертов и вызвала в обществе 20-го века, в могущественной державе мира, имеющей на своём вооружении атомные и водородные бомбы, сверхзвуковые самолёты, могучую технику, следовательно, в супердержаве вызвала предварительный арест мирного человека, упрятала его в ужасную тюрьму и, наконец, поставила этого человека перед судом и перед перспективой длительного лишения свободы, что по сути своей является неслыханным актом в цивилизованных странах сегодняшнего дня. Как тут не повторить утверждение пессимистов, что мораль человека плетётся в хвосте прогресса! Я позволю себе с полной уверенностью заявить на основании литературных и исторических свидетельств, что в Украине 18–19 вв. ни один мирно настроенный и лояльный человек не был наказан каким-либо способом за ношение даже холодного оружия, не говоря уже о таком примитивном ноже, который лежит перед глазами судей сегодня.
А если учесть то обстоятельство, что миллионы людей, проживающих в СССР, в частности, народы кавказские, вообще всегда и постоянно носят солидные ножи-кинжалы на поясе, то становится совершенно очевидным явный парадокс: мирного и лояльного гражданина в том же самом государстве привлекают к строгой ответственности за ношение предмета первой необходимости — кухонного ножа.
Рассказывают, что в 20–30-х гг. этого столетия — один эпизод я и сам помню — в отдельных домах на стенах были развешаны кривые казацкие сабли, турецкие ятаганы — предметы гордости граждан, напоминание о том, что предки владельцев этих предметов казаковали или чумаковали. Ныне эти предметы переданы в музеи. Но речь в данном случае идёт о том, что в упомянутое время владение такими предметами не составляло криминала, потому что, подчёркиваю, в руках мирных и лояльных граждан подобные предметы ни в одну историческую эпоху, кроме эпохи нашей, угрозой для общества не считались.
Но в моём эпизоде дело с этим злосчастным ножом органы милиции обставили так, будто речь идёт об опасном разбойнике, который только тем и занимался, что резал и колол всех вокруг себя этим карикатурным ножом. На двух автомобилях 8 октября 1979 года приезжает целый отряд милиции во главе с майором, на меня набрасываются, выталкивают из дома и везут в Днепропетровск, а обыск в моём доме и среди моих вещей производят без моего присутствия. O tempora, o mores! О времена, о нравы!
В апреле этого года, находясь в Бурятии в городке Богданин, где на положении политического ссыльного живёт мой друг Евгений Сверстюк, я зашёл в хозяйственный магазин, где за семь рублей купил охотничий нож. Надо сказать, что я давно собирался вступить в общество охотников и рыболовов. Представилась возможность приобрести охотничий нож как предмет экипировки. Когда в Улан-Удэ делали обыск, то после обыска этот нож мне вернули, и я привёз его домой. Этот нож я признаю холодным оружием, поскольку он имеет все признаки такого оружия. Утверждения свидетелей из Улан-Удэ, что я якобы заявлял о том, что имею охотничий билет, являются лживыми.
Я собирался зарегистрировать этот охотничий нож как можно скорее, учитывая ещё и то, что нож этот зафиксирован в документах милиции.
Мы имеем честь жить, как известно, в общенародном государстве, в государстве развитого социализма, где существует новая конституция с её, как это известно, самыми гуманными принципами. Я очень надеюсь, что судьи при решении моего, скажем откровенно, проблематичного дела, в котором преступление можно увидеть при очень сильной фантазии и с помощью очень увеличительной линзы, будут объективными. Итак, судьи при решении моего дела, я надеюсь, наполнят полноценным содержанием слова, характеризующие самое демократическое в мире государство.
Такого наполнения более чем достаточно для полного и всецелого оправдания меня как перед законом, так и перед неписаным моральным кодексом, и я ещё сегодня вечером буду пить кофе у себя дома.
25 декабря 1979 года, посёлок Солёное Днепропетровской обл.
Правду говоря, какое-то вялое это последнее слово. Не получилось говорить юридическим языком. Даже когда цитировал Цицерона — O tempora, o mores! — прокурор не переставал спать. Его не тронул даже такой оратор.
В дополнение к судебному процессу. Как-то в процессе суда я упомянул, что 21 декабря 1979 года — это столетие со дня появления на свет выродка, воплощения сатаны и дьявола, тирана и деспота всех времён и народов, порождения московско-азиатской деспотии Иосифа Сталина. И ещё добавлю, что в приговоре было указано, что с меня надо вычесть 66 рублей за переводы на украинский язык бумаг с московского языка. Этого я потребовал во время следствия, они это сделали, но за мой счёт, оказывается.
КАМЕРА ДЛЯ ОСУЖДЁННЫХ
Теперь меня уже разместили в камере для осуждённых, и я имел определённую свободу: можно было выходить в коридор, больше никуда, в две-три двери. Потом дали поручение разносить еду на этаже, то есть подносить к каждой «амбразуре», как мы называли, наливать и подавать в камеры. Я не наливал, а только носил тот бак, наливал другой. Мы практиковали с первого дня отдавать всё. Перед тем нас инструктировали, что всё, что остаётся, нельзя раздавать на добавку, потому что это категорически запрещено, за такое дело будем наказаны. Но мы раздавали всё. Я говорил: «Раздавай всё, вычерпывай до дна». Мой напарник соглашался. Если оставался, бывало, хлеб, то тоже отдавали. Через некоторое время это заметили, кто-то донёс, видно, и меня оттуда выгоняют как нарушающего правила.
Меня разместили в камере с правом ходить в соседнюю комнату в душ. А это уже большая привилегия, потому что в баню не водили. Причём мыла не было, но я купался и таким образом облегчал своё существование. Итак, ждём этапа.
В конце года кто-то мне сообщил (газет, конечно, мы не имели), что началась война в Афганистане. «Как началась?» — спрашиваю. — «А так: ввели советские войска в Афганистан». — «В Афганистан?» Я сразу объяснил, что такое Афганистан, как там можно вести войну и какой будет результат. Афганистан в XII веке пробовали завоевать татаро-монголы — им это не удалось. Чингисхан договорился с племенами о разрешении пройти через Афганистан на Кавказ и в Крым и вернуться назад. То есть он купил такое право за деньги. Прошёл без войны путями Афганистана на запад, в направлении Европы. «Но, — говорю, — позже в Афганистане пытались закрепиться англичане — не удалось. Если в Индии они были дольше, то из Афганистана были быстро изгнаны. Таким образом, там долго никто не удерживается. Говорю: „Это опасная война, она может быть бесконечной, потому что там нет большой армии, но там есть большие природные крепости — горы, которые дают возможность прятаться и из-за каждой скалы стрелять“». Мои слушатели внимательно это выслушали, и кто-то из них донёс мои мысли об Афганистане. Меня вызывает так называемый опер (оперативный работник), китаец по физиономии. Посадил меня, щурит глаза, крутит головой, белками глаз мигает, что это я веду в камере неблагоприятную пропаганду. Я говорю: «Какую пропаганду? Я не понимаю, о чём вы говорите». — «Что-то вы там про Афганистан говорили?» — «Я говорил, — говорю, — как есть из истории войн в Афганистане». И повторяю ему в несколько сглаженных тонах то, что я говорил в камере — что за территория, какие там люди живут и какие «успехи» в кавычках имели те, кто попытался туда прийти. Он это послушал, посоветовал мне «не болтать много», как он сказал, и отпустил. Вот было моё первое афганское крещение.
ЭТАП
Нас готовят к этапу. Перегнали в огромную комнату на первом этаже. В углу стоит переполненная параша, из неё льётся, никому дела до того нет, чтобы её вынести. Мне есть дело, но ведь нужно, чтобы было разрешение. Я по своей наивности обращаюсь к первому попавшемуся надзирателю, который появился, чтобы вынести парашу и чтобы не было такого ужасного смрада, в конце концов, чтобы было куда оправиться. Как он на меня озверел, как он топал ногами, как он пообещал не парашу вынести, а меня вынести вперёд ногами! Тогда я перестал хлопотать о той параше, так она и текла — длинный ручей поперёк комнаты. Его переступали, туда же оправлялись, и всё это было в такой атмосфере смрада, неприятного до крайности. Я убедился, что эти этапы, подготовка к этапам — это способ самого тяжкого издевательства над человеком, какой только можно придумать. Это московское творение, которое, я думаю, нигде больше не применяется. Нигде не разрешается такая бесчеловечная атмосфера, бесчеловечные взаимоотношения. Везде есть какие-то правила, даже у полудиких народов есть правила, которые не позволяют над человеком так измываться.
Нас выводят к «воронку», чтобы отправить в вагонах, в так называемых «столыпинах». Так есть ли необходимость обязательно загонять с собаками? Стоит очередь, каждый берётся руками за поручни, становится на подножку и так постепенно поднимается. Но конвоиру надо специально подгонять, он балуется, он пса напускает, пёс сзади чуть не кусает. До укусов он не допускает, но каждый вскакивает на коленях, каждый побьёт себе колени, побьёт руки, прежде чем влезет в тот вагон, потому что там тесно кругом, неудобно. Ну, посадили нас в вагоны. В вагонах тот же порядок. «Молчите. Кто будет шуметь — выведем, будем бить», — предупредили конвоиры. В туалет будут водить только по определённым часам. То либо вечером, либо утром, и всё. Куда едем, никто не говорит — секрет. Но опытные, кто уже не первый срок отбывает, слышали, что едем мы сначала в Пятихатки, потом в Жёлтые Воды, потом в Кривой Рог, потом в Никополь, потом в Запорожье, а потом в Днепропетровск. Раз в неделю происходит такой круг этапа заключённых. Их развозят по зонам этих районов, из зон забирают в тюрьму — либо на новое следствие, либо для перевода куда-то в другое место. Всё это делается через тюрьму. А вагоны эти только для того, чтобы в них находились заключённые и никуда не сбежали.
Так привезли в Пятихатки. Поставили где-то в тупик. Оправляться разрешают только вечером и утром. Утром мы просились, мы шумели, но никто на это не обращал внимания. Некоторые заключённые запаслись полиэтиленовыми пакетиками и оправлялись в те пакетики. Можно представить себе, какое было положение в том нашем «купе». Наконец меня повели в туалет, и я никак не мог это сделать, потому что засиделся, залежался, воды не пил. Конвоир кричал на меня, чтобы я быстрее справлялся, я попросил его подождать немного, потому что я же ещё ничего не сделал. Я так к нему обратился, он навострил уши: «Бандера, что ли?» Я говорю: «Да нет, я не бандера, я власовец». Он задумался, и пока он думал и расспрашивал своего напарника, что это такое власовец, я успел оправиться. Это мне помогло. Власовец помог мне.
ЖЁЛТЫЕ ВОДЫ
Повезли меня в зону Жёлтые Воды. «Ну, — подумал я, — нет ничего подлее, чем придумать в Жёлтых Водах создать зону на 2000 и более человек». Концентрационный лагерь в Жёлтых Водах — это намёк на то, что нашей свободе поставили надёжный заслон, ведь именно в Жёлтых Водах 300 лет назад Богдан начал войну за независимость Украины. По замыслу москалей, мы должны помнить, что Жёлтые Воды перестали быть нашей надеждой. Жёлтые Воды — это наша вечная тюрьма, это концлагерь без срока, навсегда. Так я чувствовал себя в Жёлтых Водах. Равнина кругом — можно было кое-что увидеть, когда поднимешься на второй этаж. Нас разместили по казармам. Их там было довольно много — на 2000 заключённых, кажется. Но нас разместили там три тысячи. Так уплотняли всё время.
У меня сразу нашлись знакомые, подошли ко мне, узнали меня, завели разговоры. Одного из них, может, я и не видел, но почему-то лицо его показалось мне очень знакомым, оно было какое-то очень типичное. Это господин из Березнеговатого, который сел в зону за то, что в автокатастрофе кого-то там убил, ему дали семь лет. Он сразу начал мне рассказывать, как он ездил в район и как на каждом совещании — а он был в колхозе главным инженером — вспоминали обо мне. «Как вы узнали обо мне?» — «А вот посмотрел в список, тут Розумный, так я и вспомнил». Оказалось, он в зоне над всеми зэками, так сказать, зэковский начальник (нарядчик): распределяет работу, распределяет по бригадам. Он уже получил задание начать со мной переговоры. Я его будто узнал — где-то я его видел, и не раз видел. Я приезжал в Березнеговатое к своему знакомому, Григорию Ивановичу, может, там и его видел. Он пообещал, что сделает мне какое-то послабление. Ну, я не надеялся на какое-то послабление, но послабление заключалось, видно, в том, что меня назначили в бригаду, которая занималась электросваркой. Я с самого начала отказался брать в руки принадлежности для сварки как то, что мне не подходит. День-другой это было на уровне скандала с бригадиром 22-й бригады и начальником отряда, или как оно там называлось. Но потом я всё-таки добился своего: мне поручили не сваривать, а только затирать специальным наждаком, который держат в руках, те узлы, которые образуются при сварке. Работа была не такая тяжёлая. Всегда я не угождал, всегда были какие-то придирки ко мне, но как-то я выполнял ту работу. Приходилось поднимать железные ящики — не самому, а вчетвером, и складывать их в штабеля. А ящиками я называю такие ящикоподобные структуры со специальными ушами, которые надо было заваривать точно по стандарту. Они шли на заводы и фабрики, чтобы паковать в них железные изделия, скажем, болты, гайки, кронштейны. Те ящики были довольно сложной конструкции, они были разных размеров и должны были быть абсолютно точными. Это выяснялось в конце сварки. Кто делал неточно, тот получал наказание в виде запрета на посылку, или деньги не выплачивали полностью, или лишали свидания, нельзя было купить продуктов в ларьке на 9 рублей, а только на 7. И нас наказывали. Но в конце выяснялось, что эти ящики где-то на треть были нестандартные, неправильные, и они браковались. Для этого нужна была тщательность и внимательность, и, пожалуй, больше всего — специализация. А кто эти сварщики, которые работали в этой бригаде? Да это были люди, которые вчера этого не видели и не знали, в течение недели или двух недель научились что-то там кое-как делать, так и продукция их была кое-какая. Итак, каждый третий ящик приходилось браковать, когда уже его сваривали полностью. Выяснялось, что он неправильно сварен — или меньше, или больше, или косой, или какой-то недостаток у него был. И тот бракованный ящик резали. Это уже не мы, а другая бригада — бригада металлолома.
Это была «железная зона», как я её сначала назвал, или мир металла. Это был металл, металл, металл, это были штабеля жести разной толщины, из которой резали, рубили, варили, штабеля швеллеров, разных заготовок — то, что называется прокатом. Это было невероятное количество металла. Глянешь — склады, сотни и тысячи тонн металла. И всё это надо было превратить в какое-то изделие. Так происходило это превращение, эта порча материала. Я сразу определил в разговоре с нашими ребятами, что такая работа непродуктивна и невыгодна — мы делаем значительно больше вреда, чем пользы. Металл дорогой, а мы его портим. Приходится резать нашу работу, везти переплавлять. Это непродуктивный труд. Но были и опытные сварщики, им поручали делать более сложную «посуду», например, для танковых аккумуляторов, которые потом грузили на вагоны, везли аж в Сибирь. В Сибири закладывали в них танковые аккумуляторы и везли куда-то к танкам. Часть ящиков шла на экспорт. Их и красили соответствующим образом. Сваривали их лучшие специалисты. К тем ящикам контролёры имели более высокие претензии, их должны были делать лучше.
Ещё был цех покраски, цех рубки или резки металла, прессовый цех. Там было наибольшее количество травматизма — из-за недосмотра, с непривычки. Молодые люди, которых ставили к станкам, должны были рубить железо разной толщины. Там каждый третий ходил травмированный, каждый третий стал инвалидом — тот без руки, тот полруки, тот без пальцев, тому что-то ударяет в плечо и он калекой становится. Это был цех, где одна треть становились инвалидами. Это был худший цех. Как и везде, там рубили кое-как, и половина всех тех изделий, которые они вырубали из металла, шли обратно в домны, их превращали в металлолом. Такая была работа.
Ещё был цех производства щёток, цех деревянных ящиков. Что интересно, что как только тех ящиков собиралась хорошая куча, метров так десять вверх, то они почему-то немедленно загорались и сгорали дотла, дочиста. Ту кучу складывали две недели, а потом она сгорала. То же самое делалось и с цехом покраски. Красят, красят неделю, другую — и вдруг загорается целый цех. Сгорает всё — электропроводка, краска. Это всё горит таким чёрным дымом, люди убегают. Тогда неделю-две ремонтируют, подкрашивают, ставят новое электрическое оборудование, всё начинают сначала. Пройдёт месяц — снова загорается цех покраски. И так без конца. Я из этого сделал вывод, что эта зона крайне непродуктивна, она приносит больше убытков государству, чем пользы. Это и все другие замечания, как я узнал, дошли до ушей особиста, фамилия которого была Шестериков. А фамилия начальника зоны была Харитонов.
Жизнь в этом избранном обществе воров, казнокрадов, лжецов, убийц, алкоголиков, наркоманов была довольно-таки тяжёлой. Единственные люди, с которыми мне приятно было общаться, это семь-восемь баптистов, адвентистов седьмого дня и других верующих, которых судили преимущественно за то, что они отказывались от службы в армии, не хотели брать оружие в руки. С ними я при случае встречался еженедельно, мы вместе пили чай и беседовали. У них, во-первых, было почему-то немало денег, они могли покупать и пить чай, даже угощать меня. Они имели Библию маленького формата и каждый раз её прятали, где это было нужно. Я даже переписал из их Библии Нагорную проповедь Иисуса Христа. Так что это было общество, с которым можно было общаться. Однако меня удивило, что, например, баптист из Дубно ездил на Закарпатье агитировать за свой баптизм (по дороге совершил аварию, за то его и судили), но всё это было на русском языке. Песни, которые он мурлыкал, — на русском языке, а сам украинец, и жена у него должна была быть украинкой, и родители украинцы. Я заметил: «Как это вы можете нести веру, в которой вы убеждены, на чужом языке?» Но они не знали, что говорить на эту тему, они просто отнекивались, отвечали уклончиво и не хотели на эту тему говорить. Как правило, так было.
А в целом этот состав заключённых интересовался тем, как бы друг друга обмануть, как бы где-то чаю купить или выпросить, как бы уклониться от работы, как прожить сегодня — на этом были завязаны все проблемы бытия. Чем интересовались? Например, раз целая делегация пришла ко мне и хотела выяснить у человека образованного — такую репутацию я там имел, — сколько было на свете генералиссимусов. Этот вопрос меня очень удивил, но я так подумал себе, чем может быть озабочен среднеарифметический зэк? Я сказал, что знаю только двух генералиссимусов — это Чан Кайши и Сталина, а больше не хочу знать, я этим никогда не интересовался. Это их разочаровало, и они группой написали письмо в какую-то газету. Через некоторое время пришло сообщение, сколько было тех генералиссимусов, их имена, даже где они находились. Это очень обрадовало заключённых, они ходили по всей зоне, показывали и рассказывали, и это вызвало, так сказать, ажиотаж.
Был ещё один вопрос ко мне — снова приходила целая делегация: сколько государственных должностей занимал отец Сталин? Я говорю, что Сталин руководил всем государством, по сути, все должности были его, а кто-то там номинально будто бы руководил. Везде руководил Сталин. Это также не понравилось, они должны были писать в газету.
Что в лагере было самое светлое — что можно было подписаться на некоторые книги. Каталоги приходили. Я, правда, подписался на немногое, потому что денег много не было, но приобрёл некоторые хорошие книги, особенно словари.
Сидел в нашей зоне харьковский диспетчер, обвинённый в аварии самолёта, который вёз футбольную команду, и она погибла где-то возле Днепропетровска. Он уверял, что это не он виноват, но, как стрелочник, отсиживал срок. Он уверял нас, но не говорил, кто виноват.
Общая ситуация была более чем тяжёлой. Нам не выдавали или очень мало выдавали мыла. Нельзя было хорошо вымыть руки, нечем было. Мыло было такой дефицит, что просто невероятно. Мыло нельзя было в передачах и посылках получать, потому что подозревали, что в мыле может быть спрятан какой-то наркотик, оружие или какой-то другой нежелательный предмет. Купание было также, как правило, без мыла. На всю смену — это было где-то 500 человек, не меньше — было не более пяти пунктиков бани, где можно было искупаться. Но эти душевые держали блатари и их друзья, а рядовым зэкам нельзя было ни руки вымыть в горячей или хотя бы в тёплой воде, ни помыться. Я сделал определение, что коммунизм строим с помощью грязных шей, грязных рук и вшей, которые также заводились. Нас регулярно проверяли... Не проверяли, а мы сами предъявляли, что есть вши. Поэтому всё сдавали на дезинфекцию. И всё равно это не помогало, потому что всегда было мало мыла и горячей или тёплой воды.
В тёплые погожие дни зэки выходили во двор и играли в шахматы. Я там играл в шахматы с большим успехом, был бы у той братии чемпионом, если бы такой чемпионат организовали. Но я этого не хотел, просто не было нужды. Зато ставили на меня: что я выиграю. И на мне выигрывали. Дошло до того, что меня вызвал особист Шестериков и ставит вопрос: «Почему вы играете на интерес и организуете такие ажиотажные игры вокруг шахмат?» Я говорю: «Я не играю на интерес и не беру ничего. Это они ставят, но это их дело, а не моё». Он больше ничего не спрашивал на эту тему, но спросил: «Почему вы не любите певицу Аллу Пугачёву?» Я говорю: «Она мне не импонирует. Она поёт какие-то такие развязные мелодии, а тексты этих мелодий на самом низком уровне, ни одного текста я не помню, чтобы он был для меня привлекательным». — «Вы называете её песню, — говорит, — дур-оперой». Я говорю: «Не её песни, а вот эту, что вы каждый день крутите, крутите и крутите без конца, что можно с ума сойти от той мелодии — „Женщина, которая поёт“. Каждый куплет кончается „женщина, которая поёт“... Это какая-то такая оперетка в современном стиле, но от неё у нас уже психическое расстройство. Я назвал это дур-опера, потому что она добавляет людям одурения». Он поцокал, никак, правда, не прокомментировал, но после этого эту дур-оперу прекратили крутить в зоне по репродукторам. Крутили, правда, другой такой же хлам, но уже не Аллу Пугачёву.
Раз объявили по радио в зоне, что приедет прокурор. Кто желает с ним встретиться, тот пусть подаст в отдел вопрос, с которым он хочет обратиться, а мы, мол, подытожим и разрешим встречаться с прокурором. Я быстренько написал свой вопрос: почему лишают права на посылку, лишают права на свидание, права на письма — мои письма никогда ни до кого не доходили. Короче говоря, всего лишают. И самое главное — постоянное нарушение законов, ими же созданных. Перед приездом прокурора — а он действительно приехал — меня приглашают к особисту и там держат. Пришёл какой-то незнакомый офицер — и разговоры, разговоры всякие — то, другое, третье — балагурил, ни о чём говорить. Наконец через некоторое время до меня дошло, что меня просто держат, чтобы я не пошёл к прокурору на разговор. Я сказал это офицеру, а он будто не услышал, не обратил внимания, продолжал дальше. И только когда прокурор закончил выступление перед зэками, меня отпустили.
Сказать, что питание было плохим — это значит ничего не сказать. Оно было просто невыносимым. Достаточно сказать, что ни зимой, ни летом нам не поступали свежие овощи, даже капуста была кислая. Кто её делал кислой? Кислая капуста, кислые все те супы, борщи кислые, и это такая жалкая баланда, которую нельзя описать. Однажды врач, такая престарелая Тамара, приходила на дегустацию. Я видел, как она это сделала, и спросил, как она, врач, может терпеть такую баланду? Пыталась ли она когда-нибудь протестовать против того, что людей кормят такой несъедобной пищей? Она ужасно возмутилась и позвала контролёра: вот, мол, здесь занимается пропагандой. Контролёр, правда, послушал и ушёл, а она меня запомнила. Рассказывали, что контролёры целую ночь воровали кусочки мяса, которые нам полагались по нормам, поедали его до утра жареное, а нам оставался какой-то там навар от костей. Но к тому ещё и повара раздавали своим друзьям лучшие кусочки, варили отдельно для себя и для своих друзей. Так нас кормили.
Эти контролёры были такие наглые. Помню, один сопровождал меня, когда приехал брат со мной увидеться. Разговор был по телефону через стекло. В конце разговора вижу, что брат передаёт для меня пакет с какой-то едой, где была колбаса. Пока брат вышел, пока я перешёл в другую дверь, пока контролёр подошёл ко мне с той сумкой продуктов, колбасы не было. Я спросил его, куда колбаса делась. Он на меня гаркнул, толкнул в плечи и показал, куда идти. Такие были воришки.
Вообще, я бы сказал, что 9 лет своей жизни я находился в рабстве. И это рабство оказалось худшим. Здесь питание было худшим. Три года в Германии, три года в армии и три года в заключении — это девять лет жизни в рабстве. Но о питании надо сказать, что лучше всего оно было всё-таки в Германии во время войны. Почему лучше всего? Теперь-то я точно знаю, почему. Во-первых, потому, что та порция, которую полагалось отдать нам, всегда отдавалась, немцы не воровали и просто не поручали нашим готовить и раздавать еду. Немцы готовили и раздавали сами — и хлеб, и баланду. Выдавали всё персонально, точно по весу, согласно нормам. В советской армии вообще был ужас. Там голод был гораздо хуже, чем в Германии. А ещё хуже в зоне. Так что из тех девяти лет, что я находился в рабстве, три года в Германии были, с точки зрения питания, самыми благополучными. Это такой мой вывод.
Что ещё было особенно тяжёлым в той зоне? Это язык. Язык, конечно, был ни украинский, ни русский, это был блатной язык, язык общественного дна, которое выработало свой жаргон. Он всегда был отвратителен. Я всегда должен был переспрашивать, а если кто-то объяснял, то я не принимал это во внимание, потому что он что-то мелет и мелет, и хочет, чтобы я его понимал без объяснений. Такое было не раз. Даже были скандалы на эту тему. Но некоторые мужики, которые туда попали, приспосабливались к этому языку и пытались ему подражать. Я из этого делал предмет насмешки. Один мужик из Николаевской области, с которым я познакомился, рассказывал, что у него взрослая дочь, ходит в школу. Его вина была в том, что он срезал три дерева в поле и притащил их домой трактором — он трактористом был. Сначала договорился с бригадиром, что эти деревья можно срезать, но когда бригадир увидел, что эти деревья уже у него во дворе, то рассердился, подал заявление в прокуратуру и этого арестовали как разрушителя лесополосы, хотя это была не лесополоса, а три отдельных дерева, как он говорил, в поле. Так вот, этот мужик употреблял вместо слова «опоздал» блатное «продрочил». Это до меня как-то дошло, и я спрашиваю его: «Что это вы такое говорите, что это за слово „продрочил“?» Он что-то ответил. Я подождал, пока больше людей заинтересовались нашим разговором, и говорю: «Вот вы, когда ваша дочь, скажем, опаздывала в школу, вы ей когда-нибудь говорили, что она „продрочила“?» — «Да нет, чего бы это я говорил, разве можно с ребёнком так говорить?» — «А почему, — говорю, — здесь говорите? Вас что, за язык кто-то тянет „продрочил“ говорить вместо опоздал, не успел?» Ему стало стыдно, и он действительно перестал пользоваться тем жалким жаргоном.
И ещё одна особенность — это плевание. Где их собирается двое или трое, то сразу оплёвывают вокруг себя — нет тому никакого спасения. Всё заплевано — и пол, и дорога, и где они стоят, и где они сидят, и лавочка, — просто было противно общаться с ними.
«ХИМИЯ» В НИКОПОЛЕ
Я уже 13 месяцев в зоне, и мне полагается, как отбывшему одну треть срока и не нарушавшему режим, ехать на «химию». (Введённая в хрущёвские времена «химизации народного хозяйства» форма «условно-досрочного освобождения»: после отбытия 1/3 срока заключения, при отсутствии нарушений режима, отправлять заключённых «на стройки народного хозяйства», в основном, химической промышленности. — В.О.). Меня назначают ехать на «химию» и уже снаряжают туда. Это снова этап. Ну, «химия» — это что-то привлекательное, потому что это определённая свобода. Но этап — это что-то страшное, о чём думаешь с большим нежеланием туда попадать. Этап тот же — этапный поезд описывает этот круг из Днепропетровска через Кривой Рог, Никополь, Запорожье и снова Днепропетровск. Итак, еду я на этап. Позабирали у меня всё, что можно было забрать — шапку, тёплую одежду — эти холодные, голодные дети, мол, едешь на свободу — там всё будешь иметь. Я отдал шапку, отдал более тёплую одежду, потому что у заключённых действительно была проблема с этим.
По новому этапу привезли меня, правда, очень быстро, потому что это недалеко — в Никополь. Там разгружают и поселяют нас в так называемые комендатуры. Комендатура — это помещение возле вокзала, которое охраняет милиция, имеет три-четыре этажа, и мы там начали жить.
Мне дают работу самую тяжёлую из всех, какую могли дать, — это работа на кирпичном заводе. Это выбирать кирпич после того, как он стал готовым. Это жара, это сухая горячая пыль, такое страшное, дышать нечем, это темп работы, тяжёлая лопата, вагонетка. Я делал, как мог, не успевал, сколько успевал — столько и было. Меня подгоняли, но это не помогло. Как-то приспособился и работал там.
Ко мне приехали родственники, некоторые друзья, помогли мне материально, некоторой одеждой. Доработался я до того, что имел неприятную болезнь — радикулит. Пролежал я недели три, как бревно, без рук, без ничего. Позже мне эти дни не зачли в срок, я их должен был отсиживать, несмотря ни на что. Такая была «гибкая система».
Могу вспомнить несколько эпизодов о конфликтах, которые возникали в комендатуре в Никополе. Однажды я прихожу с работы и вижу, что мои вещи выброшены из тумбочки, лежат на полу книги, газеты. Всё разбросано будто нарочно, как дети разбрасывают. Я возмутился, но когда я пришёл вечером, то не с кем было говорить, начальства не было. Утром я написал заявление и ждал, какое будет решение по этому поводу. Через некоторое время вызывает меня капитан по фамилии Пролетарский и: «Что вы там пишете?!» В такой маленькой комнатке, вижу, по периметру сидят милиционеры, человек пятнадцать, и очень заинтересованно смотрят на меня. Я говорю: «Вы нарушили самое главное право человека — его право на имущество». Как только я сказал «нарушили право человека», все аж подскочили, как по команде, а этот капитан Пролетарский, который руководил этой группой, выскочил из-за стола и бросился ко мне, будто бы даже драться. Но до того не дошло, чтобы аж дрался, потому что я вёл себя не агрессивно, движений никаких не делал. Тут он отчитал меня, мол, слушаете радиопередачи, где о правах человека говорится, всю ту ложь. Это был наглядный пример тем милиционерам, как я понял, как надо воспитывать зэков, которые у них под властью. Никаких последствий того заявления не было, он просто-напросто обругал меня и сказал, чтобы я больше не приходил с такими заявлениями ни к кому. Я пообещал написать прокурору. Я действительно написал, но это не помогло, никто не обращал внимания.
Второй эпизод был такой. Был у меня начальник цеха на кирпичном заводе, где я работал — кирпичный завод этот был в Никополе посреди города расположен. Он любил врать и очень восхвалять, какая это благословенная советская власть, а её некоторые порочат и врут на неё. Это он каждый раз имел в виду, конечно, меня, когда идеологически обрабатывал своих работников, грязных от той кирпичной пыли. Некоторое время не было его на работе, а потом появился и рассказывает, как он ездил в Болгарию в туристическую поездку. Так бодро рассказывает, как там было хорошо. А главное, что он рассказывал — это не про архитектурные сооружения или обычаи, а как он и его друзья, с которыми он ездил, ловко обманули таможенников и провезли соответствующее количество водки — денег у них было мало, — продали ту водку в Болгарии и с этого имели определённую пользу: купили некоторые предметы, которые они могли бы и не купить, если бы не была продана та водка. Так вкусно рассказывал, что аж заинтересовал меня. Я вдруг, даже не желая того, как-то поднял руку. Он сразу заметил: «Что вы хотите?» Я говорю: «Я хочу поехать в Болгарию». Это было как маленькая бомба разорвалась! Все сначала онемели, а потом все хором засмеялись, да таким смехом, что аж по животам себя били. «Я хочу поехать в Болгарию» — это было так унизительно для того рассказчика, как он ездил в Болгарию, как он ту водку прятал от глаз таможенников, что он на меня, конечно, начал иметь большой зуб и вскоре организовал мне отправку обратно в зону.
Однажды привезли к нам в комендатуру эдакую замученную на вид учительницу. Она должна была нам прочитать лекцию. Говорила она по-московски, конечно, о том о сём и, в основном, какая это беда в Никополе, что люди повсюду лузгают семечки, мусорят и плюют, разводят антисанитарию, что это очень вредная привычка — лузгать семечки. Слушатели зевали и дремали, а я спросил даму: «А если предположить, — услышав украинскую речь, дама вопросительно взглянула на лейтенанта: что это у вас такое завелось? — что лузганье семечек у нас национальная черта. В Германии, говорят, на улице едят жареную кукурузу — и ничего, никакой антисанитарии. Да и надо учитывать, что люди, лузгая семечки, добавляют калории в ежедневный рацион». Моя лекторша взъярилась: «Не национальная, а националистическая!» И снова взглянула на лейтенанта, мол, разберитесь с ним.
Из Никополя я завел переписку с пани Ириной Калинец. Она с мужем была в ссылке в Читинской области. Где-то там поблизости отбывал свой срок Василий Лисовый. Ему угрожало возвращение в зону, но она уладила дело своим дипломатическим вмешательством. (О нет! Василию Лисовому всё-таки сфабриковали в ссылке в Бурятии дело о «тунеядстве» и посадили на 1 год. Лисовый Василий Семёнович, род. 17.05.1937 на Киевщине, философ, заключён 6.07.1972 на 7 лет и 3 года ссылки по ст. 62 ч. 1. Освобождён в июле 1983. Калинец (Стасив) Ирина Онуфриевна, род. 6.12.1940 г. во Львове. Арестована 12.01.1972, осуждена по ч. 1 ст. 62 на 6 лет лагерей и 3 года ссылки. Отбывала наказание в Мордовии и Читинской обл. — В.О.).
Вблизи Никополя жил и сейчас живёт мой сын, и я как-то собрался поехать к нему, чтобы в тот же день вернуться назад. Без разрешения, конечно, потому что разрешения не давали. Они выследили, что я уехал, где-то в районе Орджоникидзе высадили меня из автобуса, привезли в Орджоникидзе, посадили в КПЗ в милиции. (Камера предварительного заключения — по-украински «камера попереднього ув’язнення», или КПУ. — В.О.). Из Никополя приехали, забрали меня, посадили в КПЗ в Никополе. Я там два дня посидел — отпустили. Тут не было проблемы: не готовы были меня таким образом оформить и вернуть обратно в зону. Потому что это было самое большое наказание — вернуть обратно в зону. Я не имел права выезжать за пределы Никополя без разрешения, а я выехал.
Однажды я пишу заявление — прошло некоторое время, месяца три, кажется, — чтобы мне официально разрешили поехать в моё село, к себе домой. Разрешают ехать, я уже собираюсь. Показывают маршрут. Очень долго мне составляли этот маршрут, так что я уже начал подозревать, что они хотят меня задержать, чтобы я приехал домой уже на ночь. Мне это не понравилось, я начал уже нервничать и сказал, что я сегодня ехать никуда не хочу. Они передумали и отпускают меня. В сопроводительном документе уже маршрут не указывают. Я сам выбираю, как мне ехать. Я решил поехать в Апостолово к своему сыну, одеться соответствующим образом, потому что таким оборванным ехать в село не хотел. Мне два дня разрешалось там побыть.
Я поехал в Апостолово. Там ещё на трассе людей, которые должны ехать в Апостолово, встречает автобус, потому что там несколько километров надо было идти пешком. Высаживают нас возле гостиницы. Как только я вышел из автобуса — через дорогу идут ко мне два лейтенанта, берут под руки, ведут в апостоловскую милицию и сажают в КПЗ.
Итак, я уже в Апостолово целую неделю жду суда и уже знаю, какой будет приговор: побег из комендатуры, побег из-под стражи. За это наказывают, как минимум, возвращением в зону. Судья по фамилии Галущинский пришёл после обеда. Пообедал очень вкусно и очень сытно, как я на него присмотрелся, и так ему спать захотелось после обеда, что он, бедняга, во время судебного заседания зевал так непосредственно, что хотелось помочь ему: отдохни, человече, от этого судебного дела и попробуй заняться подсудимым. Он, судья, мало что говорил, мало о чём меня спрашивал, но поручил это делать заседателям. Вот какая-то ярая коммуняцкая морда допрашивала меня. Я настаивал на том, что ехал по маршруту, мне надо было в Апостолово заехать, чтобы попасть на станцию Елизарово, с которой идти пешком домой. Я настаивал на том, что не нарушил, что это провокация, не стоящая выеденного яйца. Тогда эта дама взялась меня учить географии и показала мне на карте, что станция Павлополье якобы прямее, чем Апостолово. Я объяснил, что на станции Павлополье не живёт мой сын, где я мог бы переодеться в другую, лучшую одежду, и поэтому я должен был ехать именно так. Но это не помогло, и меня отправляют назад.
Снова я на этапе, снова меня отправляют этапным поездом по тому же кругу из Никополя в Запорожье, из Запорожья в Днепропетровск. Я снова в тюрьме. Это был интересный этап. Два дня абсолютно не давали ни хлеба, ни баланды никакой — абсолютно ничего не давали. Поскольку я ничего с собой не брал, понадеялся, что буду на так называемой свободе — было несколько рублей, так куплю себе по дороге еду... Это была форма экономии, как я потом узнал. Мне опытные зэки объяснили, что так очень много экономят. На этапе человек 150, так они списывают продукты на всех 150 за два дня, но ничего никому не дают — даже хлеба, ничего. Пей воду, да и всё. Выдержал я и это. Снова меня этапом отправляют в Жёлтые Воды.
Итак, я снова в Жёлтых Водах. В тот же день, как меня привезли, вызывает меня особист по фамилии Шестериков и так ехидно, с нажимом: «Ну как?» Я говорю: «Ну как, меня отправили назад из-за провокации». Он: «Меня не интересует, как вы это оцениваете. Меня интересует, как вы дальше думаете жить. Собираетесь ли вы помогать нам воспитывать молодых людей, среди которых попадаются такие, что ведут себя неподобающе, имеют деньги, достают наркотики через какие-то каналы. Нам бы надо это всё знать, чтобы навести порядок». Я ему объяснил, что этим делом я не занимался, не занимаюсь и не буду заниматься, потому что это не моё дело. И он от меня отцепился. Это он вызвал, чтобы показать, какая у него большая власть и кто он такой.
В другой раз вызвал не знаю зачем. Я стучу в дверь, он разрешает зайти. Вижу, длинный стол перед ним, он сидит в глубине. За этим столом он, очевидно, проводит какие-то совещания. В конце стола, прямо у дверей, в которые я зашёл, стоит на коленях один вор-карманник из Днепропетровска (он сам это говорил). На коленях, кланяется до земли, челом бьёт. Я подумал, что он мне не разрешает заходить. Только ведь я слышал, что разрешил. Но это было нарочно разыграно, чтобы я увидел, как перед ним другие кланяются, и чтобы и сам попробовал наклониться — так я предположил. Этот Шестериков в моём присутствии бросает ему по столу пачку чая. Как тот воришка схватил тот чай обеими руками, как он начал благодарить! Тот показал ему пальцем — «вон, убирайся отсюда», и тот ушёл. Так этот «кум», как они его называли, то есть тот, кто вербует себе стукачей или доносчиков, вёл себя со своими подчинёнными, которые помогали ему «воспитывать» других людей.
ЭТАП В СИБИРЬ
Объявляют этап в Сибирь, а точнее в городок Хор Хабаровского края. Это было заранее известно. Напихали нас полный вагон. Смотрю: я там единственный «патриарх» — самый старший среди всех. Тут всё дети, которых посылали на Московщину, чтобы они там со временем нашли себе дружбу среди москалей и там пооставались. Но не об этом сейчас. Нам дали по несколько буханок хлеба в сумку и сказали, что назначены какие-то там деньги, на них нам закупят продукты на дорогу. Закупили продукты в Харькове — это нам сообщили, — потому что если ехать дальше за Харьков с деньгами, то можно ничего не купить, кроме тюльки и гнилых селёдок. Итак, наши сопровождающие знали это дело и на всю дорогу закупили продукцию в Харькове. Вагон закрытый, так называемый столыпин, купейный. Глухо, как в танке, только слышны звуки, которые доносятся со станции. Как-то вечером послышались бесконечные звуки «а-а-а-а». Тогда до нас дошло, что это мы уже в Азии. Азиатская речь. Действительно, это была Уфа. В Уфе я услышал это азиатское «а-а-а», будто боевой клич. А это всего лишь станционные разговоры.
Мы движемся 12 суток. Лечь было нельзя, только сидя, стоя как-то переночевать. Невыносимо тяжело было ехать: 12 суток таких мук, каких я, очевидно, в жизни ещё не знал. Некоторые залезали наверх, там, сверху, были какие-то полки, а туда лезли только молодые и очень блатные, и никого больше туда не пускали. Да и там нельзя было вылежать всё время. Они спускались вниз и должны были тут сидеть, потому что здесь и воздух был чище, и как бы прогулка. В туалет водили только один раз в сутки, так что надо было очень осторожно себя вести. Я, правда, ел очень мало, пил ещё меньше, и этим самым, так сказать, экономил своё здоровье. Это тяжкое дело — держаться часами без вывода в туалет.
Итак, через 12 суток мы приехали в этот Хор — городок возле железной дороги. По-моему, на Дальнем Востоке, да и в Сибири вообще, вся жизнь размещается у железной дороги. Когда наш вагон подгоняли к Хору, то он сошёл с рельсов, и многие из нас немного покалечились, побились в результате этого. Скорость была небольшая, но когда вагон сошёл с рельсов и внезапно остановился, то люди попадали с полок, один другого ударили. Короче говоря, была маленькая авария. Я подумал: даже железо не выдержало того издевательства и сошло с рельсов.
Это был городок «химиков». Здесь делали какой-то особый технический спирт и ежедневно вывозили его многими цистернами. Делался он в основном из дерева, если я не ошибаюсь.
В Хоре нас разместили в вагончиках, и мы ждём своей судьбы. Я заметил, что тот спирт зэки пьют. Они ежедневно его доставали и потребляли, хотя он был, как меня уверяли, очень вредный. Но это не мешало его пить. Там атмосфера была очень тяжёлая. Мы увидели пьяных людей, как звери, во-вторых, голодных, как звери, и, в-третьих, людей с какой-то расстроенной психикой. Там было страшновато даже думать жить.
БИКИН
Мне ужасно повезло: нас два дня подержали в вагончиках, а потом загрузили в автобусы и повезли дальше на юг Хабаровского края. Повезли в городок Бикин, что стоит на реке Бикин. Разместили там в комендатуре для «химиков». Мы должны были вести строительство, следовательно, я стал строителем.
Городок Бикин — это тысяч десять населения и тысяч десять солдат, которые жили, правда, отдельно, но их очень часто можно было видеть на улицах, особенно офицеров. Они оккупировали единственный ресторан — днём и ночью ресторан не знал отдыха, потому что офицеры стояли в очереди в тот ресторан. Можно было хорошо видеть, как они себя вели.
Вечером видны были огни Жаохэ — поселения в Китае. Китай был в восьми километрах к западу от Бикина.
Мы приехали в конце ноября 1981 года, а уже была температура 30 градусов мороза. Летом температура тоже была 30 градусов, но уже жары. Это была местность с ярко выраженным континентальным климатом. Городок в яме — такая глубокая долина, окружённая тайгой. Очень бедная местность. Земля обрабатывалась только у реки. Её немного там скребли и сажали капусту, преимущественно корейцы. У колхозов был какой-то скот, который летом пасся под лесом и спасался от оводов в реке Бикин. А в целом местность была симпатичная, очень богатая природа — красивые леса, деревья и горы, окружённые горами. Мы жили в окружении гор.
Здесь была определённая свобода, мы могли даже поехать куда-то за пределы Бикина в гости к кому-то после работы. Нас и приглашали. Нас никто не ловил и не угрожал вернуть в зону. Возвращение в зону в тех краях означало очень тяжёлое дело. Зона была в России, московская, жестокая. Наши люди об этом знали и боялись самого слова «возвращение в зону». Да нас там и не очень притесняли, чтобы ограничивать наше передвижение. Можно было спокойно поехать в тайгу, насобирать ягод, какой-нибудь травы — там собирали всякие травы. Или погулять на берегу реки, пособирать красивые камушки.
Работа была как везде на стройке. Платили маленькие деньги, на которые можно было себя прокормить — не более.
Я тут связался со всеми теми нашими людьми, кто был в Сибири в ссылке или просто находился в Сибири. Это был, прежде всего, Евгений Александрович Сверстюк, который в это время был в ссылке в Бурятии. Второй — Зиновий Красивский, который в Тюменской области отбывал в ссылке свой срок. (Красивский Зиновий, 12.11.1929 – 20.09.1991, политзаключённый в 1948–53, 1967–78, 1980–85. Член-основатель Украинского Национального Фронта (1964–1967), член Украинской Хельсинкской Группы. — В.О.). А больше всего я был связан с Оксаной Яковлевной Мешко, которая тогда была в ссылке в городке Аян на берегу Охотского моря. (Мешко Оксана Яковлевна, род. 30.01.1905 в Старых Санжарах на Полтавщине — ум. 2.01.1991. Заключена 19.02.1947 на 10 лет по обвинению в намерении убить Хрущёва. Член-основатель Украинской Хельсинкской Группы. Арестована 13.10.1980 и осуждена на 6 мес. заключения и 5 лет ссылки. Её воспоминания проф. Василий Скрипка опубликовал в ж. «Курьер Кривбасса» в 1994 г. — В.О.). Мы с ней были, так сказать, в одном краю, в одной административной единице — Хабаровском крае, и я сразу назвал нас земляками. Ей это понравилось. Мы очень активно переписывались и активно вели телефонные переговоры. Переговаривались мы почти еженедельно — если не я звоню, то Оксана Яковлевна. Это не очень дорого обходилось. Можно было общаться — и мы общались. Такое активное общение как-то подбадривало и давало надежду на то, что мы как-то выживем, что мы не одни в мире, что о нас помнят, знают, что нас не забыли. А что нас не забыли, то мне это было доказано предметно, так сказать: мне переслали посылку, которая пришла, кажется, из Берлина — с кофе, с какими-то пряностями, с чаем и с такими всякими продуктами, которые были дороги и порой недоступны в том Бикине. Там в магазине была только рыба — сортов десять всякой рыбы, а больше почти ничего не было. Мяса там я не видел ни разу, несмотря на то, что район якобы производил мясо, даже был мясокомбинат в городке. Все те изделия мясокомбината куда-то вывозили, в продаже их никогда не было.
Итак, мы живём в условиях Дальнего Востока. Я уже говорил об определённой свободе. Она заключалась в том, что мы могли поехать организованным порядком в лес собирать папоротник — так называемый папоротник-орляк. Этот папоротник тут же на месте покупали японцы. Он шёл на экспорт в Японию. Японцы очень любят эту штуку, она у них деликатесная, они её закупали всю. Её засаливали в бочках и вывозили в Японию на продажу. Мы могли поехать также на экскурсию — так просто посмотреть лес. За ягодами ездили летом далековато — аж в Приморский край, там собирали ягоды. Это была очень полезная и интересная забава.
Зиновий Красивский предостерегал меня от какого-либо чрезмерного поведения, за которое бы меня снова посадили в тюрьму, и очень не хвалил тех людей, которые сами в какой-то мере спровоцировали своё осуждение на повторный срок. «Нам, — намекнул он, — не нужно, чтобы вы сидели, нам нужно, чтобы вы были на свободе». Такова была, так сказать, непрямая инструкция. Он меня очень поддерживал в этом вопросе, и я так понял, что он давал такие советы и другим. Оно так и было. Он просто говорил, что вот сейчас Ярослав Лесив гниёт в колонии среди уголовников. Нам это не нужно, нам нужно, чтобы Лесив и ему подобные были на воле. (Лесив Ярослав, род. 3.01.1941, с. Лужки Долинского р-на Ивано-Франковской обл. Член Украинского Национального Фронта (1964–67), Украинской Хельсинкской группы. Заключён 29.03.1967 на 6 лет, отбывал наказание в Мордовии. 15.11.1979 г. обвинён в хранении наркотиков, 2 года в Сарнах Ровенской обл. В мае 1981 г. ему снова подбросили наркотики, 5 лет заключения. Один из инициаторов возрождения УГКЦ, священник. Погиб в автокатастрофе. — В.О.). Это звучало довольно убедительно. Он раза два даже присылал мне какие-то продукты питания, какую-то одежду, которая там была мне нужна. Потому что он уже имел опыт и знал, что нужно. Таким образом меня одели, обули, и я был более-менее обеспечен материально.
Пробовал я, когда прошло полсрока, обратиться в прокуратуру, чтобы меня отпустили как не нарушающего порядок и не нарушающего режим. Но меня не отпустили, отказали, и так я должен был находиться там весь тот год, что остался мне до конца срока.
Строили мы в Бикине пятиэтажный дом. Прорабом был молодой немец по фамилии Вагнер. Он был такой кроткий, никогда не ругался с нами и сквозь пальцы смотрел на то, как разворовывали то цемент, то известь, то ещё что-то. Но как-то раз он поговорил со мной. Говорит: «Я понимаю, за что они сидят, — а за что вас осудили? Мне, — говорит, — непонятно». Я ему сказал: «За национализм». — «То есть как?» — спросил он. Я говорю: «Украинский национализм». Он подумал, а потом: «А для чего это?» Я хотел что-то сказать, но он почувствовал, что его вопрос неуместен, и замял этот разговор. Он потом начал говорить, что вот мы строим пятиэтажный дом, а наверх, аж на пятый этаж, вода никогда не будет доходить. Да и жить тут будут бичи — это те люди, которые на лето на целый сезон уходят в тайгу, ловят рыбу, собирают ягоды, а зимой возвращаются в город. Это для них мы строим. Однажды он даже продемонстрировал, что это за люди приезжают в Бикин. Говорит: «Вон там, пойдите посмотрите, в том вагоне приехали ваши земляки». — «Какие земляки?» — «А вот увидите, пойдите». Пошёл я к тому вагону, поздоровался. Высовывается какая-то лохматая голова, нечёсаная женщина, неумытые дети. Я спрашиваю: «Откуда вы? Мне говорили, что вы земляки». — «Из Запорожской области». Ага, из Запорожской области. «А как вы сюда попали?» А вагон товарный. «Мы переселенцы, переселяемся сюда жить». Кто-то из них спросил меня: «Где тут можно сдать пустые бутылки?» Вот такие кадры приезжали туда на поселение, на далёкий-далёкий восток, и для таких кадров мы строили пятиэтажный дом.
Вообще это слово «бич» там очень распространено. Женщины, например, в очереди стоят и, когда вспоминают о своём муже, говорят «мой бич» — «мой бич ушёл, мой бич пришёл, мой бич» ещё что-то — у них это нормальное слово.
Раз в неделю в мою комнату приходил такой молодой кагэбист. Говорил, что он из службы безопасности, но он интересуется, как тут люди живут, как они тут работают и всё такое. Но почему-то всегда шёл в мою комнату и долго сидел, слушал всякие рассказы и так украдкой поглядывал на меня. Я иногда вмешивался в разговор. Как-то один шофёр из Днепродзержинска, который сидел за кражи, рассказал, что у них был эпизод с избиением милиции за то, что милиция жестоко обошлась с какими-то арестованными. Рассказал он это так красочно, даже со смаком, как эту милицию там поколотили. Кагэбист слушал-слушал, а потом говорит: «У нас это невозможно, мы бы этого никогда не допустили». И замолчал.
В этом же Бикине стояло огромное помещение, которое называлось табачная фабрика. Но она никогда не производила ни сигарет, ни табака, а только была построена и также заброшена, как ненужная. Построили, но потом оказалось, что нечего перерабатывать, самого табака нет.
Когда похоронили непоколебимого идеолога московского большевизма Суслова, Евгений Сверстюк мне пишет: «Что-то очень скромно его хоронили, так незаметно, будто он и не большая шишка», — примерно так написал он. Но вот вскоре умирает сам вождь Брежнев. Помню, как его хоронили, как бросили в яму тот гроб, а он загрохотал. Это на всех произвело такое весёлое впечатление — целыми днями вспоминали, как его бросили к такой-то матери, как говорили, туда в землю, чтобы тут его не было. Ребята надеялись на амнистию, хотя, по правде сказать, амнистия нам уже не нужна была, потому что практически наша «химия» уже заканчивалась — больше года не было ни у кого.
Ко мне зачастили мои персональные доносчики. Один такой молоденький мальчик из Закарпатья всё приставал, чтобы я высказался относительно смерти Брежнева. Что я думаю о смерти Брежнева? «Как это, что я думаю? — говорю. — Жаль человека, который умер. Мы его грехи не вспоминаем, что-то плохое о нём не говорим». Этого для него оказалось мало, он ещё и ещё раз подходил — что всё-таки я думаю о Брежневе, о его смерти? Этот же мальчик настаивал, чтобы я ответил ему, каким способом я буду добираться домой. То есть ехать поездом или самолётом от Хабаровска лететь, или, может, как-то автомобилем. Я до последнего так и не сказал, что собираюсь ехать только самолётом. Я так и собирался, у меня был маленький запас денег, мне его хватало на самолёт. Я так и не сообщил этому допрашивающему, как я хочу ехать, а ему позарез надо было знать, каким видом транспорта я буду ехать.
До Хабаровска я доехал поездом, там взял билет на самолёт и целый день должен был провести в Хабаровске, осматривая этот город. Город производит впечатление какой-то пустыни, которая неуместно претендует на статус города. Никакого порядка, тротуары никчёмные, ни газонов, ни деревца нигде не растёт такого, чтобы оно было деревцем — словом, это какая-то пустыня, как запущенное кацапское село. Так выглядел Хабаровск. Центральный ресторан Хабаровска — я думал, что он таковым является — оказался очень уважаемым местом: он не закрывался ни днём, ни ночью, работал непрерывно. Оказалось, что в этом ресторане постоянные клиенты — золотоискатели. Они где-то тут неподалёку намывают золото, приезжают в Хабаровск и тут же все деньги, что заработали, пропивают. Для того, чтобы они их пропили, так сказать, основательно и до конца, ресторан не закрывался, работал день и ночь. Оттуда, я видел, не раз выносили ногами вперёд и увозили прочь тех, кто уже напивался до смерти, очевидно.
«НА ЯСНЫЕ ЗОРИ, НА ТИХИЕ ВОДЫ»
Попрощался я с Оксаной Яковлевной по телефону. Несколько телеграмм подал, что еду я уже «на ясные зори, на тихие воды». Сообщил Фёдору Клименко, потому что с ним переписывался. Полетел я в Москву, потому что в Киев самолёта не было, а оттуда в Киев, затем добрался домой 1 декабря 1982 года. Матери моей было уже 87 лет, она уже не двигалась, нуждалась в уходе, и я без всяких колебаний остался жить в селе, в родительском доме, ухаживая за матерью. Устроился работать в колхозе — там принимали всегда, потому что работа всегда какая-то была, безработицы не было.
Работал, слушал передачи разных «голосов», в частности «Свободы», был в курсе всех событий. Узнал, что где-то в Казахстане находится Богдан Ребрик (Род. 30.07.1938, заключён 6.02.1967 на 3 года по ст. 62 ч. 1, во второй раз — 23.05.1974 по ч. 2 ст. 62 на 7 лет и 3 года ссылки. Член Украинской Хельсинкской Группы. Вернулся из Казахстана летом 1987 г. Народный депутат Украины I созыва. — В.О.), передали его адрес, я записал. Также дали адрес Мирослава Мариновича — и его записал. (Род. 04.01.1949, член-основатель Украинской Хельсинкской группы, арестован 23.04.1977, осуждён на 7 лет заключения и 5 лет ссылки по ст. 62, ч. 1, отбывал наказание в Пермских лагерях, в ссылке в пос. Саралжин Актюбинской обл., Казахстан. — В.О.). Связался с этими людьми, и эта связь была продуктивной. Мне сообщали, как они поживают, а я даже кое-что посылал им.
Был даже такой эпизод, когда Богдан Ребрик попросил помощи, и я ему эту помощь послал. Он был в критическом положении. Прислал письмо, как он, Богдан Ребрик, хотел повысить жизненный уровень тех людей, с которыми работал. Он предложил им пойти к директору и поставить условия о повышении зарплаты, потому что зарплата очень низкая. Они схватили вилы и гонялись за ним полдня, угрожая заколоть за такую смелость — требовать повышения зарплаты. Я, говорит, перестал пробовать повышать жизненный уровень тех людей и, так сказать, смирился с их бедой.
Наиболее интенсивно я, конечно, переписывался с пани Оксаной Мешко, даже выполнял её мелкие поручения, постоянно посылал ей что-то. Переписывался с Евгением Сверстюком, с Зиновием Красивским, с Ярославом Лесивым. Мне написал Иосиф Тереля (Род. 27.10.1943, п/з 1962–66, 1966–76, 1977–82, 1982–83, 1985–87. Ныне живёт за границей. — В.О.), я ответил и переписывался также и с ним. Всё это составляло продолжение моих контактов с товариществом как из Украинской Хельсинкской Группы, так и вне Группы.
Излишне говорить, что «Свобода», «Голос Америки», Би-би-си, «Дойче велле», Итальянская программа, даже Испанская программа — всё это были спутники связи, через которые я узнавал о том, кто, что, где, когда. Информация была активной, объёмной, полной и большой. Благодаря этой информации было всё известно, что и к чему. Глушение этих передач не помогало, потому что при настойчивом поиске в эфире этих станций их можно было найти. Эти станции как-то умели избегать глушения, и рядом с глушилкой, рядом с грохотом можно было хорошо услышать слова.
Ко мне приехал Борис Скоропляс — нас арестовывали вместе в 1961 году. Он переехал, собственно, сбежал, в Запорожскую область, потом в Крым со своим ребёнком, девочкой, и здесь скитался. Он уехал аж в Казахстан, потому что там себя чувствовал, очевидно, безопаснее, он мог спокойно пережить лихолетье. А теперь он вернулся в Крым, я его пригласил к себе. Я ему сказал, что вокруг меня создаётся плотное окружение. Соседи активно допрашивают меня, активно подглядывают за мной, активно высказывают всякие подозрения. Были слухи, что и шпион, и радиостанции слушает, и служит Америке, и немцам, и ещё кому-то служит... Говорю, что будут ещё обыски, будут аресты — нам так на роду написано, мы должны всё это выдержать. Борис согласился с этим, мы должны были жить в этих условиях.
Однажды вечером часов в девять стучат в дверь. Я спокойно, ничего не подозревая, вышел, зажёг свет. Вижу, стоит передо мной такой типичный москаль — видно по физиономии, по осанке, по речи. Он даже не поздоровался, а хочет у меня переночевать. У меня переночевать? У меня как в калейдоскопе сверкнуло: такие «ночевалы» были у Николая Леонтовича (Выдающийся композитор, убит в 1921 г. в с. Марковка на Подолье. — В.О.), такие «ночевалы» были у Льва Платоновича Симиренко (Выдающийся помолог, убит 6.01.1920 г. в с. Млиев, ныне Черкасщина. — В.О.). Я, по правде сказать, испугался его — у него был вид убийцы, уголовника — такой жестокий. Он наклонил набок голову и слушает, что я буду говорить. Я говорю: «Но у меня тут есть люди, ночуют, вам негде переночевать». Он отступил на шаг назад и очень удивлённо — аж пошатнулся назад — сказал: «Я не знал, что так». Я его спрашиваю: «Каким транспортом вы приехали так поздно?» Потому что никаких автобусов в это время нет. Он подъехал на попутной машине и пришёл именно ко мне ночевать. К счастью, я как-то вовремя соврал, что у меня кто-то ночует, к счастью, он поверил и ушёл. Думаю, что это был посланник сатаны в мой дом.
Совершались разные провокации такого типа. Я прогонял соседских кур со своего огорода. Кагэбисты организовали так, что соседу привезли десятка два колхозных кур и заставили этого соседа, чтобы пригнал их на мой огород. Я их буду прогонять и, возможно, завяжу драку, а он это сфотографирует и мне пришьют хулиганство. Так, по крайней мере, этот сосед впоследствии рассказал. Сосед тот на ту удочку пошёл, очевидно, неохотно. Когда я увидел, что на мой огород сунется такая лавина кур и их подгоняет сосед, то я подошёл и говорю: «Что ты делаешь, для чего ты это делаешь?» У него был перепуганный вид, он говорит мне: «Осторожно, осторожно». Я говорю: «Что ты мне "осторожно", я тебя спрашиваю, для чего ты их сюда гонишь? Возвращай их назад». Он остановился, эти куры стали на месте, я их погнал прочь от межи. Провокация не удалась, потому что мой сосед не проявил той активности, которой от него требовали. Он должен был гнать их ко мне, я должен был его вытолкать со своего двора, и этого было бы достаточно, чтобы осудить меня как хулигана. Очевидно, таков был план.
Сосед впоследствии рассказывал мне, как они демонстрировали ему записи того, что делается в моём доме. То есть они записали на плёнку весь мой вечер: что я слушал, какие передачи. Мол, он прослушивает все те «голоса», ведёт антисоветскую агитацию и настроен по-антисоветски, националист и что угодно. На него это впечатления вроде не произвело, больше он ни на какие провокации меня не вызывал. Он мне сказал, что мать ему запретила встревать в любые провокации, потому что это большой грех.
А как они записывали моё житьё-бытьё? Им надо было узнать, как этот человек проводит время. Были какие-то факты, документы или что? Они договорились с соседкой через дорогу и разместили у неё в доме такой ящик, который надо было вдвоём нести. И тот ящик привезли. Я не видел, как тот ящик привозили, но как-то случайно увидел, как его забирали. В том ящике были какие-то прослушивающие устройства. Они таким образом имели на меня доказательства того, что я активно слушаю эфир, да и только, потому что ничего они больше не могли знать. Вот такое было моё житьё-бытьё. Но поскольку я очень много времени тратил на уход за матерью, которая лежала почти парализованная, поскольку я ежедневно бывал на работе, то мне трудно было что-то предъявить. Никаких далёких поездок я не делал. Потому что тот в ссылке, тот арестован, а тот далеко — было не до жиру с этим вопросом.
Но вот меня приглашает в Киев Евгений Александрович Сверстюк и говорит, что есть необходимость помочь приехать Оксане Мешко домой. Заканчивается её срок ссылки. Это был ноябрь 1985 года. Она просит, чтобы кто-то приехал в Хабаровск, встретил её и сопроводил домой. Мне это было понятно, потому что они по дороге могли бы сотворить с ней что угодно. Такой план действительно был, как потом выяснилось. Её ещё до Хабаровска, где-то в Комсомольске-на-Амуре, кажется, высаживали на промежуточной станции с самолёта, и она только своим напористым характером добилась того, что её не оставили на аэродроме. Она вскочила в самолёт и полетела дальше. Потом они планировали её снять с самолёта и неизвестно, что они хотели сделать с ней.
Киевляне дали мне деньги, потому что у меня не было таких денег, и я полетел в Хабаровск. Мне удалось долететь до Хабаровска, хотя это было нелегко — с трудом я взял тот билет. Я думаю, что мне даже кто-то тайно помог, потому что я с аэродрома ездил в центр Москвы в билетные кассы, сюда-туда, нигде нельзя было взять билет. Но вот я приезжаю на аэродром, может, в третий раз — и мне без всяких препятствий дают билет. Думаю, что это кагэбисты следили за мной и решили всё-таки дать мне билет, чтобы посмотреть, что из этого дальше будет.
Мне ещё в Киеве сказали, что хочет поехать встретить Оксану Яковлевну какой-то Лёня Васильев. «Ну, — говорю, — я того не знаю, не слышал, но если он планирует, то пусть едет, это его дело, но моё дело поехать самому».
В том Хабаровске в аэропорту практически никакой информации никто не даёт. Где-то какой-то самолёт прилетел из Москвы или ещё откуда, то ещё сообщают, а о местных рейсах абсолютно ничего не сообщают. Я почувствовал, что я не буду знать, когда она прилетит — если прилетит из Комсомольска-на-Амуре. Напрасными будут мои потуги. Как-то совершенно интуитивно — а сидел я на втором этаже, — как-то будто не желая того, в очередной раз спустился вниз к турникету посмотреть, что делается на лётном поле. Потому что туда не пускали, можно было только посмотреть через дверь и через окно. Вдруг я вижу: идёт группа пассажиров, так рядочком идут, — и среди них Оксана Яковлевна! Такой озабоченный, взволнованный взгляд, водит во все стороны глазами, кого-то ищет, но, к счастью, я её узнал. Она меня, очевидно, не узнала, потому что видела меня, может, раз в жизни, и я её также раз в жизни видел перед тем, но от страха можно было легко узнать. И вот только она из-за турникета вышла — я к ней подхожу и представляюсь. Как она обрадовалась, как она меня начала обнимать, как она начала меня восхвалять, за то, что я так удачно встретил её! Она почувствовала облегчение, она аж заплакала от той радости, что имеет какую-то опору. Но тут подходит ещё один человек, который представляется Васильевым Леонидом из Москвы. Оксана Яковлевна спросила, кто он такой. «Я друг украинцев», — сказал он. «Какой ещё тут друг? — сказала Оксана Яковлевна, — Ну, хорошо, поехали». — «Куда?» — «Да поехали в гостиницу сначала», — потому что холодно и надо — это был ноябрь — думать уже о движении дальше.
Но нас встречает не только этот Васильев, а встречает ещё какой-то Василий Иванович с почты, какая-то такая черномазая молодица лет под 40, кажется, Надя. Василий Иванович, оказывается, знакомый Оксаны Яковлевны, он приезжал в Аян по делам почты, по делам телефонов и там они познакомились. Он её также встречал, хотя она его не предупреждала, что будет ехать, не говорила ему и не писала ему писем, когда она едет отсюда и когда прибудет. Итак, эту информацию он получил из каких-то других источников. Вот такие были наши встречающие. Так что если бы я не успел, то эти люди таки Оксану Яковлевну встретили бы. Они пришли к турникету, неизвестно кем посланные, объявлений никаких не было, нигде нельзя было узнать, когда самолёт прилетает. А я случайно и совершенно интуитивно почувствовал потребность спуститься вниз и случайно встретил Оксану Яковлевну там, где надо.
Итак, мы едем в гостиницу, размещаемся. А этот Василий Иванович и эта женщина — ну абсолютно нельзя от них оторваться — они хотят сделать Оксане Яковлевне экскурсию по Хабаровску. Я говорю, что экскурсия ей не нужна, пусть она отдохнёт, пусть мы пообедаем и отдохнём, нам не надо экскурсии. Билеты надо дальше брать. Этот Васильев также согласен на экскурсию поехать. Пришлось и мне согласиться. Сели мы в один автомобиль, поехали по Хабаровску, несколько улиц посетили, посмотрели на ту пустыню через автомобильное окно. С трудом мы оторвались от них.
Я сказал, что хватит экскурсий, мы занимаемся своим делом. Взяли мы билет до Москвы, до Киева нельзя было взять. Целые сутки пришлось ждать в гостинице. Была радость, были разговоры, но Оксана Яковлевна не забыла допросить этого Васильева, кто он, что он. Единственная рекомендация, которую он на себя дал, это что он любит украинцев, что его сын служит в армии на Украине, и он рад, что он на Украине служит, а не где-нибудь ещё. Оксана Яковлевна не была удовлетворена этим объяснением, допрашивала его не раз и не два, кого он в Москве знает из тех людей, которых все знают, например, Сахаров, Орлов и другие. Он этих людей не знает, но слышал о них. Ни одного знакомого человека, который бы убедил Оксану Яковлевну, что он свой человек, он не назвал. Итак, Оксана Яковлевна дала ему однозначную оценку: человек ненадёжный.
К счастью, нас больше не трогали. Мы прогулялись по берегу Амура, насобирали красивых камушков, смотрели, как рыбаки ловят рыбу. Вода уже у берега была замёрзшей. Посмотрели на реку — она широкая, красивая. Это единственная красота, которую можно было увидеть в этом городе Хабаровске.
И вот мы уже летим. Я сижу возле Оксаны Яковлевны, тот Васильев не отстаёт и всё надоедает какими-то разговорами. Она его отшила. В Москве мы уже движемся на Киевский вокзал, а этот Васильев неоднократно: «За нами идут, за нами следят, вот идут двое, вот-вот будут рядом». Оксана Яковлевна остановилась и сказала ему: «Перестаньте меня тут запугивать, я уже это всё прошла. До свидания. Спасибо, что встретили меня». Вот так она его отшила. Он так и не ушёл, он провёл нас аж до вагона, но больше нас не запугивал тем, что кагэбисты нас окружили и неизвестно, что они хотят. Они таки действительно нас окружили, потому что им было известно, что мы едем, и они должны были за нами следить, но не трогали, если мы на них не обращали внимания, это также точно.
Николай Руденко на Алтае с женой, от него приходят вести на спутник связи, и мы знаем кое-что о нём. (Руденко Николай Данилович, род. на Луганщине 19.12.1920 – 1.04.2004. Писатель, философ, правозащитник, председатель Украинской Хельсинкской Группы (9.11.1976), арест. 5.02.1977. Лауреат Государственной премии им. Т. Шевченко, действительный член Украинской Свободной Академии, Герой Украины; Руденко (Каплун) Раиса Афанасьевна, род. 20.11.1939 г. в с. Петровка Синельниковского р-на Днепропетровской обл. Арестована 15.04.81. 5 л. заключения и 5 л. ссылки. Лагерь ЖХ-385/3, Барашево, Мордовия. С апреля 1986 — в ссылке в с. Майма на Горном Алтае. Освобождены из ссылки в декабре 1987 года. — В.О.). Олесь Бердник пишет покаянное письмо и приглашает Николая Руденко присоединиться к его мысли об отказе от так называемой антисоветской деятельности. (Бердник Олесь Павлович, 25.12.1927 – 18.03.2003, выдающийся писатель-фантаст, художник, политзаключённый в 1950–55, член-основатель Украинской Хельсинкской Группы, арестован 6.03.1979. Освобождён 14.03.1984, покаянное заявление опубликовано в газете «Литературная Украина» 17.05.1984. — В.О.). Я ужасно переживал: если Руденко согласится — это будет катастрофа, это будет такое несчастье, такая компрометация нашего движения! Но Николай Руденко оказался твёрдым орешком, он никогда не оступился и засвидетельствовал всей своей жизнью, какой он стойкий украинец.
Власть живёт в конвульсиях. Лихорадочно принимают решения, которые призваны как-то поправить дела. Экономика страны в упадке, работать люди не хотят, инфляция, надвигается катастрофа, которую Кремль начал наконец чувствовать. Как пример их конвульсивного руководства было решение Андропова проверять людей, которые слоняются по улицам, почему они не на работе, проверять их сумки, если они что-то покупают в гастрономе — что они покупают, почему они в рабочее время покупают. Его назвали «Торбохватом». Я даже сказал одному партийцу-начальнику: конвульсивная власть и торбохваты. Кажется, он не донёс, потому что меня никогда об этом не спрашивали.
Пошли слухи, что Андропова убили или, во всяком случае, помогли ему умереть. А когда уже стал у руля Черненко, то стало ясно, что упадок государства движется семимильными шагами. Когда этот господин врезал дуба, то приход Горбачёва, его выступление на съезде, его идея перестройки и нового мышления — это был лучик надежды во тьме нашего бытия, который стал спасательным кругом для всех народов, населявших эту ужасную тюрьму народов. На душе стало спокойнее, переписка, общение стало надёжнее и смелее. И дальше приходилось решать материальные вопросы, которые всегда стояли на повестке дня, однако это было не главное. Главное, что мы понемногу получали свободу общения, свободу выражения, свободу слова, и это нам помогало и подбадривало нас.
Глушение иностранных передач ослабло, а то и вовсе прекратилось. Было уже совсем доступно послушать новости и познакомиться с тем, что делается в мире. Из Москвы высылают евреев на Запад, с Украины шлют в концлагеря, русские несмело присоединяются к перестроечному движению.
Левко Лукьяненко в ссылке. (Лукьяненко Левко Григорьевич, род. 24.08.1928, заключён 20.01.1961, приговорён к смертной казни, по ст. 56 и 62 ч. 1 за создание Украинского Рабоче-Крестьянского Союза, отбыл 15 лет; во второй раз — 12.12.1977 по ст. 62 ч. 2 на 10 лет и 5 ссылки как член-основатель Украинской Хельсинкской Группы. Освобождён из ссылки 8.12.1988, выехал из Томской обл. в январе 1989. — В.О.). Я с ним связался письмами. У нас завязалась переписка (надо будет эти письма понаходить). Он мне сообщает, что в нашей области есть такой Владимир Забигай, который к нему обратился. Он дал ему мой адрес. Я не успел обратиться к этому Забигаю, как вдруг вижу однажды: какой-то мужчина останавливается возле моего двора, заходит во двор и представляется как Владимир Забигай. Я его спросил, почему он не обратился в нашу организацию, которая есть здесь, в нашу Группу, к Сокульскому, например, — а обратился сразу к Левку Лукьяненко. Он на это ничего толкового мне не сказал. Этот человек никогда не был в нашем полном доверии, он вызывал какое-то не то подозрение, не то недоверие. Какая-то неуверенность в нём была. Уж очень он свои походы, свой патриотический подвиг красноречиво и красиво расписывал, хотя ни с кем нигде никогда не был связан. И это хуже всего, по моему мнению, что он вышел не на организацию, которая уже существовала, а прямо на Левка Лукьяненко.
Как-то ко мне приезжает человек, который представляется Павлом Скочком (Журналист, политзаключённый. — В.О.), и сообщает, что он уполномочен спросить меня, подпишу ли я Декларацию о создании Украинского Хельсинкского Союза вместо Украинской Группы содействия выполнению Хельсинкских соглашений. Я, конечно, согласился, дал ему ещё каких-то денег на дорогу, которые он потом зарегистрировал как благотворительный взнос. («Обращение Украинской Хельсинкской Группы к украинской и мировой общественности» о возобновлении её деятельности было опубликовано 11.03.1988 г. Его подписали 19 членов УХГ, которые уже были на свободе или в ссылке. — В.О.).
Началась новая для нас жизнь. Мы преобразовали Украинскую Группу содействия выполнению Хельсинкских соглашений в новую структуру — Украинский Хельсинкский Союз. (Декларация принципов Украинского Хельсинкского Союза была обнародована на 50-тысячном митинге во Львове 7 июля 1988 года. — В.О.). Основателями этого Союза были Вячеслав Чорновил, Михаил Горынь и другие.
В том же году, 1988-м, я поехал в Днепропетровск к пани Орысе Сокульской, у которой был центр всех наших собраний, а там как раз был Чорновил с женой. Я там познакомился с ним близко, и мы договорились, что я устрою ему экскурсию по нашей области, в частности, в Запорожье, на Хортицу. Чорновил с женой переночевал в моём доме, и мы на автомобиле моего брата Степана совершили такую экскурсию. Мы впервые записали в книге отзывов в музее на Хортице, что мы члены Украинского Хельсинкского Союза — и не меньше.
Интервью к печати подготовил Василий ОВСИЕНКО по программе Харьковской правозащитной группы.
Опубликовано в журнале «Курьер Кривбасса» в 2006 году, ч. 196, 197, 198.
А также на сайте Харьковской правозащитной группы http://museum.khpg.org (Музей диссидентского движения).
Пётр РОЗУМНЫЙ 9 ноября 2001 года в Киево-Могилянской Академии на конференции по случаю 25-летия Украинской Хельсинкской Группы. Фото Виктора Зильберберга.