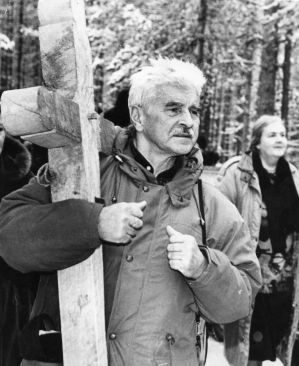ПОРТРЕТ НА ОСЕННЕМ ПЛЁСЕ
ПРЕДИСЛОВИЕ
Не я нарисовал этот портрет. Моё дело было угадать погоду и терпеливо и корректно зафиксировать отражение. А читатель уже дорисует.
Этот автобиографический рассказ Евгения Александровича Сверстюка я записал по программе Харьковской правозащитной группы 26 декабря 1999 и 9 января 2000 года. Дополнен он в июле – ноябре 2005 года.
Василий ОВСИЕНКО, лауреат премии имени Василя Стуса.
Е. Сверстюк: Начнём с преамбулы.
Воспоминания — это островки памяти. Чаще всего непроизвольной. Прожитое — как разлитое. Вспоминаю свои намерения какое-то явление запомнить навсегда. Но потом уже не помню, о чём шла речь.
Хорошо запоминаются начинания и действия, закрепившиеся в мотивации. Почему-то больше запомнились эпизоды ссылки, чем тюремные и лагерные. Нехватка свободы и нехватка позитивных эмоций не способствуют внутреннему освещению эпизодов, даже когда они были значительными. Недоедание. Незавершённость начинаний под прессом обстоятельств и нехватка законченной формы.
Настроение формирует что-то отчётливое и яркое — и то, что «болит, и плачет, и не спит...»
Итак, какими мы были, какими мы стали. Старыми мы стали. Но старость несёт память, как карму...
Я думаю, человек всё тот же, что и был. Меня, например, ещё с детских лет выбирали на роль «мирового посредника». Наверное, считали, что чувство правды у ребёнка есть, а на какие-то ухищрения он не способен. Мне доверяли выполнение поручений, хранение вещей, тайн...
Так же с детства я был безальтернативно прозападной ориентации, со склонностью к идеализму. О Востоке я знал только по почтовым маркам — красноватым-серпастым-молоткастым.
Уже в детстве открылось мне абсолютное присутствие Бога. Не в доверчивом повторении за мамой слов молитвы «Верую», «Отче наш», «Богородице» и Десяти Заповедей, а в том типичном классическом «Как тревога, так к Богу».
В раннем детстве я был болезненным. У нас говорили «нездалый». Это называлось «скрофулы», или «золотуха», или «гули». Осложнение переходило на глаза...
Когда летним августовским днём, наверное, года 1932-го, отец с матерью привезли меня (30 км на телеге по ухабистой дороге) в Сокаль, врач осмотрел меня и сказал: «Что же вы так запустили — сгубили вы ребёнка: мальчик слеп». Он знал состояние глазной хирургии начала 30-х годов, но посоветовал везти во Львов — может, возьмутся оперировать.
На обратном пути мне открылась бездна слепоты. В такой миг дети становятся взрослыми...
Смеркалось, и родители решили по дороге заехать к маминой сестре Степаниде, которая никогда не падала духом и всегда давала добрый совет. Феноменальная женщина казацкого духа. В ней сочетался крестьянский практицизм с глубоким мистицизмом.
Меня оставили у тётки: в селе Матов есть баба Химка, которая заговаривает... Уверенности не было у родителей, не было у тётки, не было у меня, не было и у бабы Химки. Но до восхода и на заходе солнца она приходила в своём шелестящем кожухе, произносила молитвы и прикладывала лезвие ножа. На вопросы отвечала: «Как Бог даст». И на том сходились все.
Через две недели меня привезли домой здоровым. Папа приехал на той же телеге, и я разглядывал лес, кусты и полукопны по обочинам дороги в сёлах Матов, Подбережье, Охлопов, Сельцо.
В повести Степана Васильченко о детстве Шевченко «В бурьянах» есть такая гениальная формула: «Он жил на содержании природы и под присмотром Бога».
Опросите людей, и 99 процентов, особенно сельского происхождения, объяснят, что такое «на содержании природы». Но они же вам скажут, что «под присмотром Бога» — это метафора, которая означает — без всякого присмотра... И мало кто задумается над словами поэта:
Ти взяла
Мене, маленького, за руку
І в школу хлопця одвела
До п’яного дяка в науку.
«Учися, серденько, колись
З нас будуть люде», – ти сказала.
Итак, над природой есть Рука, которая ведёт. В жизни я колебался между просветлениями и затмениями, но часто чувствовал ту Руку, которая незримо вела над пропастями и неслышно вела меня к неведомой мне цели.
Если задуматься, то присмотр Бога значит куда больше, чем присмотр родителей. Хотя в определённой мере через родителей он осуществляется. Но никто тебя не убережёт и не присмотрит, и никто не даст гарантии даже на один день... Как говорит английская пословица, многое может случиться, пока чашку донесёшь до уст. There is many a slip ’tween the cup and the lip.
Однако мы плаваем на мелководье видимости и запоминаем очевидные факты...
Когда мы были в ссылке, мы стали больше западноевропейцами, потому что такими были наши корреспонденты. Мы были причастны к тому культурному пространству, которое что-то определяло и говорило, когда наше «православное» пространство всё время молчало. Поэтому мы были и немножко католиками. На латинское Рождество я ощущал орга́н на полнеба. Я его немного смещал: мир и веру отцов наших экстраполировал на западные территории. Всё это, мол, и до сих пор существует в современном западноевропейском мире. И конечно, в какой-то мере Криста Бреймер это подпитывала, потому что сама была женщиной религиозной. Но она всё время намекала, чтобы я не делал обобщения, потому что она религиозна, а мир вокруг неё не таков. Поэтому не нужно питать особых иллюзий.
В. Овсиенко: Итак, суженого и конём не объедешь...
Е. Сверстюк: Между прочим, что касается воспоминаний об участии в событиях — то где-то у Достоевского, кажется, в романе «Подросток», есть рассуждение о мотивах: я постарался изложить последовательность событий так, как оно было на самом деле, чтобы вы сами выводили мотивацию и судили о причинах из последовательности самих событий. Я думаю, что в этом есть давно испытанный романистами эффективный психологический приём. В конце концов, отсюда и ошибочные суждения: post hoc ergo propter hoc.
Однако мне кажется, что когда говорить о биографиях людей, то из самой последовательности, может, и не последует то, что должно было бы последовать. Ну, скажем, есть и такая последовательность событий: вы выходите на некоего человека, которого назвали «благодетелем» и который был участником положительных акций. Но из той же последовательности событий также следует то, что один очень проницательный соучастник назвал его «зловредителем». Так как тут проникнуть в правду, лежащую в основе последовательности событий? Как проникнуть в правду мотивации?
Очевидно, это и есть главное — мотивация. Люди, как правило, дают своему участию в событиях несколько иное объяснение, чем это кажется со стороны. Они либо сами не до конца понимают мотивацию своих поступков, либо передают эту мотивацию в принятой литературной манере. А эта литературная манера уже обеспечивает их положительными стереотипами. Или они скрывают то, что на самом деле лежало в основе действий.
В. Овсиенко: Может, просто Господь их вёл за руку, да и всё?
Е. Сверстюк: Ну, Господь ведёт за руку в плане провиденциальном, а всё же человек сам каждый день делает определённый выбор, и делает его в соответствии со своим характером и с теми обстоятельствами, которые его подталкивали или сдерживали.
Таким образом, нужно разграничивать эту провиденциальную сферу и сферу психологическую или социально-психологическую. Вот здесь, собственно, и заключается тонкость подхода: понять, а что же на самом деле лежало в основе поступка? С одной стороны, кто-то скажет, что смелость и прямота, а кто-то другой скажет: это свинство его натуры, попавшей в такие обстоятельства. И в результате прямота вылилась в героизм: хряк разрушил своим рылом бастион. Что мы, в конце концов, имеем в биографиях большевиков времён революции — как они выходили в герои. Особенно те, кто остались целы и, вероятно, давно были натренированы в приспособленчестве, имели хороший нюх и способность к выживанию в любых условиях. Всё это касается, конечно, не только деятелей. Поэтому я с большой осторожностью отношусь к таким понятиям, как патриотизм (ибо он имеет очень широкую гамму), и к таким понятиям, как героизм, потому что героические начинания и оценки героизма — это разные вещи. И вообще я не очень понимаю, что такое героическое начинание. Мне кажется, что здесь есть фальшь с самого начала.
В. Овсиенко: Часто это бывает просто нормальное поведение человека в то время, когда подавляющее большинство людей ведёт себя ненормально.
Е. Сверстюк: Да, в соответствии со своим характером... Но, опять же, нужно определить, было ли это стремление человека вести себя нормально вопреки соблазнам, которые были на каждом шагу, и прецедентам, которые всегда были перед глазами. Я недавно, например, прочитал рассказ одного отважного, умного, путного человека, который действительно совершал отважные шаги. Он вспоминает о шпиках, которые выслеживали его и его друзей. Из его рассказа я увидел, как он боялся. Он ведь не пишет о том, что он боялся, он просто рассказывает, но я вижу, какое это имело для него значение, как он это замечал, как он не мог от этого отвлечься и подняться над этим! И я начинаю вспоминать, что это история каждого из нас. Только каждый из нас по-разному переживал.
В. Овсиенко: Есть такое выражение: боятся все, а кто не боится, тот пусть не врёт. Но мужество заключается в том, как человек способен переступать через свой страх.
Е. Сверстюк: А ещё бывает, что либо слепой, либо глупый. И такое бывает. Потом — есть люди заводные, которые любят борьбу. Таких, говорят, Цезарь подбирал — по признаку покраснения в ситуации опасности.
В. Овсиенко: Евгений Концевич вспоминал, как мама о нём говорила: «О, уже закусил удила!» Это ещё до его увечья...
Е. Сверстюк: Концевич вообще принадлежит к людям внутренне крепким, к людям очень крепким, я бы сказал, морально обеспеченным характерам. Когда он о чём-то говорит — у него без сентиментальной кваши. Тут чувствуется цельный человек.
РОДИТЕЛИ. «ДОМ ПОД ЖЕЛЕЗОМ»
Характеры открываются тебе уже в детстве. Конечно, когда ты каждый день живёшь с отцом-матерью, то ты их почти и не видишь, разве что в каких-то мелких бытовых обстоятельствах. Но у моего отца часто бывали какие-то экстраординарные обстоятельства. Если какую-нибудь глупость он совершал, то потом её вспоминали всю жизнь. Где-то он однажды продал телёнка — и проиграл — какая-то игра была, там же, на ярмарке. Это был такой позор, что потом этот эпизод припоминали ему, хотя он единственный раз в своей жизни отважился на такой легкомысленный шаг. И никогда не оправдывался.
А вообще он был человек отважный, и это все понимали. Это проявлялось везде. Накануне Первой мировой войны он сватался к моей маме. Сам он был из семьи побогаче, но она не пользовалась очень большим уважением, не имела особой репутации. Это были Заблоцкие, которые жили где-то «на том краю». У него был один брат, Иван (он «где-то пропал в революцию»), три сестры, а отец пятый. Как старший, он имел право получить свои шесть гектаров, а сёстрам раздавали по одному гектару, когда они выходили замуж. А тут через лощину, недалеко, была семья Присяжного Якова. Моя мама тоже была старшей в той семье.
И вот отец посватался. Мама восприняла это без большого энтузиазма, и её родители тоже восприняли сватовство Ликсандра без энтузиазма: он «какой-то надорванный». Я не знал, на чём держалась эта репутация, но, очевидно, были такие молодецкие ситуации, что где огонь, никто не пойдёт — так Ликсандр пойдёт. Ну, а в крестьянской среде такое отклонение от середины никогда не трактуется положительно. «Пойдёт в огонь и в воду».
Итак, отец стал свататься. Конечно, мамины родители отнеслись к этому рассудительно: а чего ж — девок полна хата, к старшей сватается парень работящий и не бедный — так пусть выходит. Но сразу давай торговаться за приданое. И дают маме один гектар земли где-то там далеко, за селом. Это такой гектар на четыре или пять метров ширины, нива длинная-длинная-длинная и очень песчаная и глинистая. И то ли отец не захотел, то ли мама выразила недовольство тем приданым, что, мол, я у вас дочь или что? А отец говорит: «Ну хорошо, я Евку без ничего возьму». Ну, это уже было беспрецедентно — кто это берёт девку без ничего? Опять — «надорванный». Но это было сказано с такой решимостью настоящего мужчины, что вопрос «на потом» не откладывали. Он взял маму, правда, с этим гектаром... (Смеётся). Помню, я тоже однажды жал на этой нивке (до сих пор чувствую, как это было тяжело) жиденькую пшеничку, потому что там не родило ничего. Туда навоз было очень тяжело завезти — через овраги, далеко. Словом, с этим «приданым» я знаком, и поэтому я себе запомнил эту историю.
У родителей сперва не складывалось, потому что и женитьба пришлась на начало войны. Надо было девок выдавать замуж, отцовских сестёр. Тут война, немцы. Правда, о немцах времён Первой мировой войны говорили очень хорошо. Но девушек надо было от них оберегать... Собственно говоря, я запомнил единственное яркое воспоминание из той беспросветности: сгорела хата! Они остались без крыши над головой и наскоро строились. Первые дети были Леонтий и Надя. Они поумирали ещё до двух лет. Мама была двужильной. Даже больше: сколько я её помню, можно было не считать того, что утром накормить скотину и накормить семью. Работа начиналась уже после этого — до вечера. А вечером снова, между прочим, накормить скотину и накормить семью. А накормить семью — это отцовы родители (дед и баба) и пятеро детей. Причём баба Мария больна эпилепсией, а в условиях села это не «божественная болезнь». Это болезнь, которая делает человека инвалидом, и на него в хозяйстве положиться нельзя.
Сколько я себя помню в раннем детстве, то в нашей хате «под чёрной бляхой» были сени, из сеней со скрипучей дверью входили направо в хату — эта комната называлась «хата», а там — ванькир. В хате была печь, а в ванькире была кухня, лавка, маленький стол. Итак, дед и баба, отец и мать и нас пятеро, то есть всех девятеро.
В. Овсиенко: А вы какой были?
Е. Сверстюк: Я был последний, самый младший. И в этом отношении я, наверное, имел какую-то привилегию. А в общем-то церемониться с детьми было некогда, и разбираться в справедливости, кто из них кого ударил, тоже не было никакого смысла, и в это родители не вникали. Поэтому всегда я был виноват, потому что не спускал старшему брату Якову. А Яков был такого нрава: видишь, я тебя побил, а ты ещё и виноват — чтобы не задирался со старшим. Его недобросовестность меня всегда шокировала и поражала.
Я дома был таким себе балованным оракулом — вот от нечего делать посчитаю, сколько буханок хлеба уходит на один день. Потому что мама сама пекла хлеб — и на девять душ сколько его расходится. Я вспоминаю, мне в детстве задавали порой «философские вопросы», причём, ещё когда у мамы на руках сидел. Ну, например (я не думаю, что это было в раннем возрасте, но, ясное дело, что не больше, чем пять лет, где-то так), помню, такой вопрос мне был задан: теперь у нас, на Волыни, полякам раздают землю. И тем, кто переходит в католическую веру, могут даром дать землю, которую мы так тяжело покупаем! «Нет, не переходить в католическую веру», — советовал я. Конечно. Меня хвалили «за ум». Но особенно удивлялись, когда я на вопрос «кем ты хочешь быть» ответил: «Хочу сидеть в тюрьме за Украину». Конечно, это свидетельствует прежде всего о настроениях, которые ребёнок впитывает, как губка воду. Наверное, такое не раз рассказывали, поэтому мне запомнилось. Удивляла предприимчивость отца: он каждый год покупал землю. Мне кажется, каждый год десятину покупал. Конечно, никакого масла, никаких яиц дома мы не ели, потому что это всё продавалось. У отца было множество связей с евреями, которым он продавал и у которых он одалживал деньги. Я помню такие длинные бумажки-векселя — это слово «вексель» знаю с детства. Там была отцовская подпись — он или крестик ставил, или расписывался: «Сверстюк». Тех векселей было несколько, и мне велено было не лазить в ящик и не брать их. Но они там между нитками и между пуговицами всегда валялись.
У отца были часы — «Le Rua a Paris» или что-то такое, словом, часы королевские и с французской надписью. Они всегда портились. У отца был «свой» часовщик, которому он их всегда возил. Это продолжалось всю мою молодость.
В. Овсиенко: А часы какие?
Е. Сверстюк: Большие настенные часы. Они очень быстро портились, а у того не было деталей, и он делал их то из проволочки, то из жестянки. Те часы пойдут несколько недель, а потом снова портятся. Отец снова терпеливо везёт, берёт пуд зерна, чтобы рассчитаться. Всё это вызывало улыбки дома (смеётся): «Старик, почини-ка часы!» Отец снимает часы, потому что они не идут, стучит ими о лавку. Я вмешиваюсь: «Ещё раз их стукните, потому что надо, чтобы они запомнили себе».
Отец терпеливо относился ко всяким насмешкам, с выдержкой. А вообще он заводился и очень ругал то корову, то лошадь: «А чтоб ты сдохла!» Эти ругательства — одно из тяжёлых воспоминаний. Корову, лошадь ругали на чём свет стоит — за то, что они неправильно себя ведут. И сам я сколько раз догонял корову, чтобы её проучить за непослушание и что она такая хитрая, что делает вид, будто она пасётся у межи потому, что там трава, а только я отвернусь — она уже и за межой, в чужой пшенице. Так что война со скотиной и мысль о том, что она понимает — это первые экскурсы в зоопсихологию. Но когда отец её ругал, я понимал, что это смешно, а там, где я сам ругал, — то я понимал, что я правильно её хочу перевоспитать. Потом, уже старшим, я в шутку спрашивал, когда он что-то там разговаривал с коровой: «Что она вам говорит?» Но он делал вид, что не слышит.
Помню, что у отца всегда всё должно было быть, как у хозяина. Инвентарь должен был быть исправен. Собака должна была быть лучшая, и он умел её находить где-то там за лесами, за километров шестьдесят от дома. Овчар. Он искал собаку, чтобы была из волков — такая смесь. А на самом деле получались большие, весёлые и добродушные собаки (смеётся). Насколько я помню, то никогда у нас не было этого по-настоящему «волка», которого отец искал. Всегда было две не злых собаки.
На Сочельник полагается рыба. А где ту рыбу взять? Где-то за километров десять отец поедет — то зимой, санная погода. Или метель. У отца всегда было две-три лошади, и он не жалел усилий. У него вообще не было понятия о плохой погоде и о внешних препятствиях — этого он не признавал и не знал, как это человек может лениться. Перед Рождеством надо достать рыбы. Надо — значит надо, и отец поехал. А там, в Староставе, лёд замёрз так, что рыбу пришлось доставать задохнувшуюся из-подо льда — ну, отец привёз задохнувшуюся, из-подо льда. Но рыба была всегда. Чаще всего она была «задохнувшаяся».
Отец был очень религиозен, и это бросалось в глаза, если сравнить с соседями, которые просто ходили в церковь или и не очень ходили. Ну, ходили все, наверное, потому что как же, люди скажут: «Тот даже в церковь не ходит». Он всегда читал Библию и очень часто хотел, чтобы я что-то прочитал ему — я же вроде бы лучше мог прочитать. Но я читал всякую литературу и мог лучше прочитать, в том числе газету, но Библию — нет. Не потому, что она была не на нашем языке (конечно, Библия была на русском языке), а потому, что у меня не было предварительных знаний об этом. Вот в школе было изучение Закона Божьего, но, очевидно, оно было такое эпизодическое и такое неосновательное, что практически то, что знал отец — это было несравненно больше, чем то, что знал я. И я читать ему Библию не мог — с позором признаюсь, что эта книга была неосвоена. А однажды я с соседом, который был старше меня лет на пять, взял в поле Библию почитать. Стали мы читать и остановились на том, как была создана Земля и как был создан человек. Всё это нам показалось очень смешным, и на этом мы эту книгу закончили читать. Так что пастухи лучше всех могут критиковать, с уверенностью, что они понимают каждое слово, которое прочитали, а поскольку оно не вяжется с их знаниями, то, следовательно, оно не имеет веса.
Что я ещё помню об отце? Видите, я сейчас люблю вспоминать об отце. Как я сейчас вспоминаю всякие эпизоды — он был очень незаурядным человеком.
ДЕНЬ МОЕГО РОЖДЕНИЯ
О дне моего рождения я узнал чисто случайно. Не придавали значения, когда ребёнок родился: перед Рождеством — и достаточно. Или незадолго до Рождества. Я был записан в метрике 8 декабря 1927 года. Отец мне часто рассказывал, что он и у батюшки добивался, чтобы не записывать ребёнку «старый год» — запишите ему новый год, запишите ему 1928 год. Но как записать — нужна же дата? Очевидно, дата для него не имела никакого значения. Главное — чтобы год был уже 1928-й. Для него это почему-то имело значение. А я не понимал, какое это имеет значение. Он мне всё время рассказывал, что для него это имело большое значение.
Потом как-то я с мамой заговорил о дне рождения. Дело в том, что метрики у нас были уничтожены во время войны. И не потому, что бомба или пожар уничтожили. Церковь сохранилась, а сами селяне не хотели, чтобы метрики хранились, потому что тогда все фальсифицировали года. Каждый себе из каких-то соображений записывал какой-то фальшивый год. Кого-то это спасло, кого-то не спасло — а меня спасло.
Но предварительно я скажу о дате, как я её установил. «Ты родился, — говорит мама, — на Андрея». Я говорю: «Так-таки?» — «Точно на самого Андрея!» — «На самого Андрея? А это что — постоянная дата?» Постоянная дата, оказывается, — это 13 декабря. Я говорю: «Так почему же мне тогда 8 декабря записано, если я 13-го?» — «А это я помню, потому что старик поехал к...» — Какой он ещё тогда старик был? Но уже «старик», потому что много детей. — «Поехал купчую оформлять. Вечером он, или под вечер вернулся, с мороза зашёл в хату, а я сказала ему: "Батько, а у нас есть мальчик!"» — «Вот и хорошо, — говорит отец, — я ему морг леса купил».
Таким образом я установил дату своего рождения. Но, забегая вперёд, я скажу, что у отца какое-то предчувствие было. В 1944 году, когда пришли «вторые советы», то сразу началась тотальная мобилизация. Брата Дмитрия взяли и брата Якова взяли в армию. Они были, соответственно, 1921 и 1925 года. Дети у нас рождались через два года, и поэтому мне легко высчитывать возраст своих старших братьев и рано умершей любимой сестры Лиды. Итак, когда пришли «вторые советы», стали мобилизовывать, и 1927 год был мобилизован в «ястребки». Те ребята, которые учились со мной при Польше, — они были «ястребками»! В «стрыбках»... Это была очень и очень паскудная служба — пожалуй, паскуднее не придумаешь. А с моим характером — совершенно однозначно — я бы перешёл в лес. При любых условиях я бы перешёл в подполье и погиб бы в первых же стычках. Настроенность была ницшеанская, решительная.
А я пошёл в школу с 1928-м годом и, соответственно, так переходил из класса в класс, из школы в университет, из университета в аспирантуру — так, будто я родился в нормальной стране и в нормальных условиях. А это как раз была рука Провидения. Но как отец чувствовал, как он настаивал: «Ты дурак, молчи!» Дело в том, что при всём том, что я был антисоветски настроен, я же очень хотел на фронт. Для меня это была такая нестерпимая романтика! Единственное, что меня очень серьёзно сдерживало — это то, что пошли старшие братья, — а с кем же родители останутся? Итак, ты сиди в углу и молчи, дурак, и правильно тебе говорят, что дурак, потому что совесть надо иметь: а с кем же родители будут?
И действительно, мне пришлось в тех страшных условиях сыграть роль некоего защитника. Мы на волоске уцелели от вывоза в Сибирь.
БРАТ ДМИТРИЙ
Дело в том, что где-то в первых же месяцах ту неподготовленную часть, где был старший брат Дмитрий, бросили на фронт. Бросили на фронт, как это обычно у советов бывает, почти невооружённых и в гражданской одежде. А Митька был очень своевольным по отношению ко всем, и к родителям. Кстати, у меня всегда были с братьями конфликты на моральной почве — я не мог понять, как он может, как он смеет об отце говорить плохо — за глаза, конечно, — или делать не то, что велят!
Вот натуры он был такой незлобивой — но во всём он поступал по-своему. Он тогда сбежал с фронта. Ну, то, что сбежал, никто бы не осуждал, потому что все были так настроены. А он сбежал домой, к жене, и чисто случайно они его застали. Они ещё не знали, но они почему-то всегда лазили по хатам. Какая-то военная часть из района — зашли и застали его в хате. Проверили документы и увидели, что он дезертир. Взяли его в район, в военкомат. Он там, очевидно, мог бы у них выполнять какую-то чёрную работу, но он и оттуда сбежал — и оттуда он снова сбежал домой! Ну, это уже была очень большая безответственность и по отношению к жене. Я уже не говорю о том, что жена была совсем не из тех, которых советовали бы родители, — она из очень бедных и беспомощных. Ясное дело, что для детей Ликсандра Заблоцкого (так называли отца) жениться на девушке хорошей и хорошего достатка проблемы не было. А он был такой, что всё по-своему.
Я его не видел, потому что был тогда на квартире в Горохове. Мне только рассказывали, что у нас снова устроили обыск, всё позабирали, даже корову забрали, и нашли в сарае старый сундук с одеждой, при немцах закопанный, потому что всё же было при немцах закопано в землю. Когда фронт проходил, всё крестьянское добро, такое как праздничная одежда, рядна и тому подобное — всё закапывали в землю. Немцы неспособны были всё это найти, но советы вмиг находили. Итак, это всё выкопали, когда Митьку искали, и сундук забрали, и корову забрали, — а его не нашли. А он же был простужен и ещё и кашлял. Они полностью перебросали снопы, а он спрятался под снопами в сарае. И ходили по нему — а он уцелел. После этого он догадался, что это уже не укрытие — у жены дома.
И что же он сделал? Он был прямая противоположность мне — я ничего не мог, как и немец, найти. А Митька всё найдёт. Всё, что спрячут, — или мёд где спрячут, или колбасу, или что-то такое в кладовке, — Митька вмиг это найдёт. Во время войны, когда фронт прошёл, у меня было очень большое хозяйство: я же с ребятами очень много гранат бросал, а много и приберёг на потом. Я уже не знаю для какого случая, но у меня было штук двенадцать своих гранат, разного вида. Была винтовка советская и винтовка немецкая. Причём, всё это я собирал из кусочков — тут кусочек затвора, тут деталь. Я уже научился всё это сам собирать. Немецкая винтовка была хорошо смазана и спрятана в стожок в поле. А Митька её нашёл. Люди видели, как он с ней шёл в направлении леса на Скабаровщину.
В отличие от меня, очень идейного, просто готового, как мотылёк, пойти и сгореть, Митька был абсолютно безыдейным. В отличие от Якова — насмехался над партизанами, над нашими ребятами, которые хотят идти с винтовкой или с обрезом против танков. Это была такая типичная насмешка. На мой тогдашний взгляд, это была обывательская позиция. Но здравый крестьянский смысл поставил Митьку по ту сторону этого движения. Ну, а сейчас он пошёл в то движение, потому что у него не оставалось ничего другого. Где-то он вышел на партизан. Очевидно, он не мог вписаться в их среду. Очевидно, где-то он не справился с теми задачами. Они стали его подозревать, потому что как это так — всех большевики сразу расстреливают, а его, видишь, и один раз выпустили, и второй раз выпустили. Закончилось это тем, что они его расстреляли. Потом маме передавали, что «это и он был». А какой он был — это была довольно заурядная история того времени. Людей, расстрелянных партизанами, было немало — и виновных (в смысле стукачей), и тех, на которых просто пало подозрение. Итак, от Митьки осталась дочь Валя, она до сих пор живёт в той маминой хате. Его жена потом вышла замуж и имела очень много детей. Я эту сюжетную линию обрываю.
БРАТ ЯКОВ
История Якова тоже была очень и очень печальной. Их, тот молодняк, взяли на шофёрские курсы с расчётом поучить несколько месяцев, а потом бросить на фронт. Взяли их в шофёрскую школу аж в Харьков. А в Харькове обнаружили, что они были «юнаками», то есть состояли в молодёжной организации ОУН. И всех их, одиннадцать ребят из села, арестовали. Что им вменяли? Во-первых, что они были ангажированы в ОУН, это совершенно ясно, во-вторых, что они участвовали в боях против немцев и против красных партизан. Но то, что они воевали против немцев, — это им не засчитывалось, а то, что против партизан — это им засчиталось. Якову дали 8 лет.
Яков был в Мордовии, станция Явас — этот адрес я очень хорошо знаю ещё с моего восьмого класса, потому что сразу стали приходить письма, и отец систематически искал дощечки — а отец мастерил понемногу, он всё умел понемногу — сбить ящик, и ежемесячно — кровь из носу — а должна пойти Якову посылка. Ежемесячно. Потом я узнал, что это значит, когда ежемесячно — это же никому так не ходили посылки. Одному приходила посылка раз в полгода, другому раз в год, а то и вообще не приходила. А тут систематически, ежемесячно.
Соответственно, у Якова было специфическое положение в лагере. Дело в том, что он не умел — это у него от отцовской натуры, — он не умел для себя что-то спрятать. Он — душа нараспашку и всем всё раздавал, и не очень смотрел, кто есть какой: человек голоден — надо дать. Он был простой. И там, соответственно, он имел среди ребят хорошую репутацию. Но, как потом я узнал, репутация его была не столько от того, что он имел и дарил, сколько от его отцовской дерзкой натуры. Ну, например, в селе был такой Ванька Ковалев — вот парень! И пел, и артист, и остроумный, и начитанный. Мне он казался вершиной одарённости, а в лагере оказался — трус и эгоист. Однажды он получил посылку — один раз в год ему родители прислали посылку, — а бытовые, урки, забрали эту посылку. Тогда он пошёл к Якову Сверстюку и говорит ему, что у него забрали посылку. «Как? Кто забрал?» Яков стал разбираться. Он вызвал этих жуликов и призвал их к ответственности. «Ну, Яша, мы не можем — уже её нет». — «Чтобы была посылка тут же!» — «Ну, то что осталось, мы принесём». Принесли остатки — но принесли.
Потом какие-то фантастические рассказы доходили. К сожалению, я тогда не записывал, и было не до того, но я думаю, что биография Якова была бы интереснее моей. Где-то он сдружился с каким-то смельчаком из Харькова, но не совсем бытовым, евреем, отважным парнем — Мишкой. Где-то они с этим Мишкой уже заработали БУР по шесть месяцев, а после этого БУРа их переправляли этапом. Их бросили в вагон, где были бытовые. А урки точат ножи. Яков ростом где-то метр восемьдесят пять, может, и весом будь здоров — словом, он крепкого сложения. И этот Мишка, когда они зашли: «А ну сдать ножи!» А те улыбаются. Другие заходят сбоку. Тогда Мишка одним махом свалил кого-то из них, забрал нож. Яков тут же тоже бросился, и они весь вагон разоружили, собрали ножи: «Мусора! Заберите от своих жуликов ножи!» Такой был эпизод.
Ещё другой эпизод дошёл до меня, с другого этапа. Урки раздавали еду. Там была пустая баланда для таких, как он. Яков сделал замечание «баландёру», а тот ответил ему грубо. Яков выхватил у него котёл и вылил ему на голову — в одиночку! Они его страшно избили, он выжил почти случайно.
Вот таких два эпизода из его истории мне запомнились. Уже теперь рассказывали, когда я где-то на Львовщине встретился с некоторыми зэками, что Яков был очень весёлого нрава. Когда ребята падали духом — Яков запоёт, развеселит. Хорошо было с ним. Вот такой был Яков. Я был у него в Красноярском крае в 1953 году. Он уже был на «пожизненном поселении». Это была фантастическая история, но я не знаю, успею ли сейчас рассказать. Так я только скажу, что Яков женился там, имел квартиру в Красноярске, потом перебрался в Украину, на станцию Лозовая на Харьковщине. Там у него сын родился. Он ещё дожил до моего ареста, у него ещё и обыск делали, и он однажды приезжал ко мне на свидание вместе с моей женой Лилей. Но на второй год уже не приехал — он был шофёром, погиб в автомобильной катастрофе. Что случилось — трудно понять: так, словно сердце остановилось или сознание выключилось.
Теперь ещё насчёт братьев. Я, конечно, писал автобиографию почти прямо: что в 1944 году мои братья Яков и Дмитрий были мобилизованы на фронт, я пошёл в школу — о братьях я больше ничего не писал. И оно так сходило, ко мне никогда не цеплялись, потому что, собственно, не было оснований цепляться. У них своя история. Я думаю, что той формулой много людей пользовалось: надо было лишнего не болтать. Другое дело, если бы мой брат Дмитрий прижился в УПА — тогда ясное дело, что семья была бы вывезена в Сибирь. Более того, вывоз в Сибирь уже был заготовлен. В моём деле №50 вы можете найти такой ордер: «Постановлением МГБ от такого-то числа назначен на вывоз в отдалённые районы СССР». Итак, документ на вывоз уже был готов.
Я помню, что в районе были какие-то маленькие катаклизмы, когда за злоупотребления прогнали начальника КГБ. Но это не могло повлиять на нашу судьбу. Скорее всего, на судьбу семьи повлияло то, что брат погиб. Ведь кто его расстрелял — они, наверное, знали. Он принадлежал к категории списанных и, следовательно, не опасных, не тех, что возвращаются с оружием. В разоблачительных публикациях после моего ареста писали, что Дмитрий погиб в бою.
УНИВЕРСИТЕТ
В. Овсиенко: Как родители представляли себе, кем должен стать их сын Евгений после учёбы?
Е. Сверстюк: Трудно представлять будущее, когда вчера ты был уважаемым хозяином на всё село, а сегодня тебя «раскулачивают», и ты раздаёшь соседям по мешку зерна на хранение. Мать втайне мечтала увидеть меня священником, но понимала, что теперь нет места для священника. Отец напоминал: «Что бы там ни было, но Бога не забывай». Отец говорил, что «советы всё испоганят», сведут на нет. А мама втайне верила в моё необычное будущее, и когда говорила о знакомых «уже начальник, и уже с животиком, а ты опять студент», то явно не хотела видеть меня «с животиком». Но трудно было объяснить людям, «на кого он учится»...
В. Овсиенко: Когда арестовали, то кое-что прояснилось.
Е. Сверстюк: Только с одной стороны, ведь нет никакой информации. Разве что врачи, к которым мама попадала, что-то ей говорили с пиететом.
После окончания школы я смог поступить во Львовский университет в 1947-м году. Я ехал с такой самоуверенностью! Я думал, что все двери в университете мне открыты. Оказалось, что это далеко не так. Я хотел на английскую филологию. На английскую филологию только потому, что я же «байронистом» был, и духом Байрона пронизаны мои ученические годы. Я собирался выучить английский язык и переводить Байрона. Но не прошёл по конкурсу. Я прошёл на отдел логики и психологии — и в этом тоже была рука Провидения. Это был единственно возможный для меня отдел. Это намного лучше, чем украинская филология, вся начинённая фальшивой информацией.
В университете у меня с самого начала были довольно интересные приключения. Несмотря на то, что это «бандеровский» край, был очень слабый контроль за теми, кто поступал в университет. Я во время поступления в 1947 году вытворял такие вещи, что я много дал бы за такой кинофильм. Я сдавал экзамены за кого-то (мне подделывали печать), причём порой дурацкие экзамены, даже по физике я пробовал сдавать.
В. Овсиенко: И успешно?
Е. Сверстюк: Нет, по физике не успешно — без подготовки, ну, а по филологии — то конечно. Но ведь те ребята совсем ничего не знали — были такие.
Помню, как мы там митинговали — «дети разных народов». Во всяком случае, мне запомнилась оценка. Один парень из Кировоградской области сказал: «Я неверующий, но я буду Богу молиться, чтобы вы поступили в университет». Что-то из тех моих дерзостей поразило его. Но потом, когда и он поступил, и я поступил — а он поступил на юридический факультет, который в условиях Львова был будущей номенклатурой, — то он уже был осторожен. Надо представить то время: по сёлам ходят голодные с Восточной Украины — живая реклама колхозов. С крыш вагонов милиция сбрасывает замёрзшие трупы. Власть боится показывать рога. Просителей с Украины на Волыни называли «американцами». А университет — это остров.
Когда я был старостой на первом курсе, то ввёл режим свободного посещения. Чего это мы будем ходить на те лекции, где нечего слушать? А я буду записывать. Давайте чередоваться, кто не придёт на лекции: ты тогда-то имеешь право не прийти, а в журнале всё будет о'кей, пока я староста. Меня, конечно, уволили с «должности».
На втором курсе меня исключали из университета. Это уже был 1949 год, тогда был погром «космополитов». Был курс на «космополитов», а я так, между прочим «вписался». Меня обвиняли, главным образом, в том, что я кому-то сказал, что Сталин и Гитлер — это одно и то же, два сапога пара. Я подробно не буду рассказывать эту историю. Могу только сказать, что когда меня вызвали на курсовое собрание (а курсовое собрание — это была страшная инквизиция: это полно людей, тебя вызывают за стол, ты должен исповедоваться) — то когда я шёл к столу, то меня Михеев, бывший партизан с орденом «Красной Звезды», дёрнул: «Женька, молчи!» Потому что он знал мою прямоту.
И это в какой-то мере тоже на меня повлияло. Я стал иронизировать («Он еще смеется!»), что, насколько я понял, то мне приписывают практическую и теоретическую деятельность. Практическая деятельность заключалась в том, что было на расписании на военной кафедре написано слово из трёх букв. Там такое слово действительно было, но, поскольку я был старостой, то меня спросили, что надо сделать, и я сказал, что это позор для студентов университета — это не общественная уборная, давайте вытрем это слово. Вытереть не удалось, так мы сняли это расписание и не показали руководителю кафедры. Но до них это потом дошло. Всем было понятно, что со мной это никак не связывалось. Это был очень большой мой выигрыш — первое обвинение отпадало за абсурдностью. А второе обвинение они просто боялись повторять (смеётся).
В. Овсиенко: Какое?
Е. Сверстюк: Ну, что Сталин и Гитлер — это одно и то же. Это же при Сталине было.
В. Овсиенко: А! Кто это такое вслух мог вымолвить!
Е. Сверстюк: Да, кто вслух такое мог сказать — а кто такое посмел бы написать в протоколах? И кто уверен, что он после такой собственноручной записи удержится?
Таким образом, в какой-то мере предостережение и, в конце концов, мой инстинкт самосохранения сработали. В конце концов, тот, кто донёс, у них был под шифром, они не готовы были его выставлять. Он был на английском отделении. Потом мы с Михеевым его вычислили. Это был некий Погорелый, который говорил, что его отец был сторожем колхозного курятника — «плебей из плебеев». Но он был, видно, ангажирован и на том условии и попал на английское отделение университета, как «свой человек». Поскольку они не имели свидетельств, а свидетельствовал от его имени некий старый конь, полковник с военной кафедры, который это дело вёл, то на мои вопросы, кто это сказал и кто может подтвердить то, что в глазах нормальных людей было абсурдом — сравнить Сталина с Гитлером в 1949 году — это и страшно, и абсурдно, — то оно мне сошло.
Они перестали тянуть меня в комсомол, сразу перестали меня агитировать. Я был в какой-то зоне подвешенности, неопределённости. Вместе с тем, я в университете вёл себя очень непосредственно. Я дружил преимущественно не с местными, а с теми ребятами, которые не боялись. Вот такими, как Пётр Михеев. Я отказался от всяких контактов с теми лжецами с кафедры украинской литературы, увлёкся психологией, дипломную работу тоже писал на философскую тему. Какая тогда могла быть нейтральная тема? — «Проблема понятия в первом разделе "Капитала" Маркса». Мой руководитель был среди тех, которые тогда приходили на курсовые собрания — Ковалёв, инвалид войны, громила. Но я когда-то, во время погрома, задал ему очень резонный вопрос: они судят, проигнорировав закон достаточного основания — это четвёртый закон логики. Ему это понравилось. А потом, когда я у него был дипломником, он носился с моей дипломной работой и показывал, что вот у него есть дипломная работа — вот это дипломная работа, настоящая! Он давал мне читать «Метафизику» Аристотеля. У него была философская литература, и он любил, чтобы студенты к нему приходили. Советовал мне вступить в партию — он меня поддержит и возьмёт в аспирантуру. Тут я ему сказал решительное «нет», и он к этому тоже отнёсся с пониманием. Я думаю, что в большой степени ситуацию спасали девушки — нас, парней, было немного, так нас, я бы сказал, покрывали. Я учился вместе с Василием Горбачуком.
В. Овсиенко: Который сейчас живёт в Славянске?
Е. Сверстюк: Сейчас он завкафедрой в Славянском университете. Мы были на одном курсе, нас вместе тянули в комсомол. А потом, на пятом курсе, всё-таки встал вопрос об окончании университета и о работе.
В. Овсиенко: В каком году вы заканчивали обучение?
Е. Сверстюк: В 1952-м году, ещё при Сталине. И очень резонно мне советовали: «Слушай, вот ты пойдёшь в школу — куда ты хочешь?» Я говорю, что хочу на Волынь. — «Так что, может, и в свой район?» — «Хочу». — «Ну, дурак. В свой район не надо. А может и вообще на Волынь не надо». — «Нет, я хочу только на Волынь». На Волыни не было мест, и только поэтому я туда не попал. — «А знаешь ли ты, что там будут копаться в биографии? А если ты пойдёшь не комсомольцем в школу, то ты сразу будешь как заяц, на которого набросятся волки». — В то время молодому парню пойти не комсомольцем в школу — это надо думать! Так мы с Василием подумали, взвесили и я говорю: «Слушай, Василий, нам придётся оформить эти бумажки в комсомол». Ну, тут уже девушки, которые были членами партии, сказали: «Ой, Женя! Ну, наконец-то — давай мы сделаем! Только знаешь что? Тут мы уже говорили — там будут вызывать на беседу в райком комсомола, так мы сами ту беседу проведём». Они боялись за меня, что скажу что-то не то. И всё обошлось, нам принесли уже готовые билеты.
В. Овсиенко: И без собраний, без райкома?
Е. Сверстюк: Без. Освободили от этого всего, всё было так хорошо. И это было чрезвычайно уместно. Чрезвычайно. Я в деталях не знаю, как у Василия складывалось, но нас послали вместе: меня в Почаев, а его за Почаев, в село Жолобки.
ПОЧАЕВ
В том Почаеве мне пришлось сыграть такую динамичную и такую революционную роль, а они просто не знали, как ко мне прицепиться. Потому что формально — только что окончил университет, комсомолец. А они же моей биографии не изучали, они не знают, что было в университете. Это район, там своя мафия, которая тесно связана — директор школы, заврайоно, инспектор облоно — люди, которые всегда вместе выпивают. Это их, собственно говоря, и объединяет.
В. Овсиенко: «Кровное братство» — на водке.
Е. Сверстюк: Да. Они от этого получают свою радость.
Попадаю я в этот Почаев и с самого начала, ещё перед началом учебного года, вижу, что это ужасно запущенная школа, что нет элементарного порядка, элементарной чистоты и опрятности. Что об учителе там и думать не думали — где его поместить и где ему квартиру дать. Об этом никто даже слышать не хочет, некому об этом говорить. Эта мещаночка-директор — единственное, к чему она подготовилась — это чтобы взять себе три параллельных восьмых класса, а мне дать седьмой, девятый, десятый. Но поскольку это ещё не полная нагрузка, то мне дали ещё немножко: дарвинизм, логику и психологию. Итак, логика, психология, украинский язык, украинская литература, дарвинизм — молодому учителю, который только что приехал, который только что впервые практикует!
Там мы встретились с Петром Разумным и ещё с двумя местными учителями. Наливайко и Павлюк, — ребята, у которых были прекрасные голоса...
В. Овсиенко: И интересные фамилии — Разумный, Наливайко, Павлюк...
Е. Сверстюк: Да, можно сказать, казацкие полковники: Разумный, Наливайко, Павлюк. Там у нас очень быстро сложился такой квартет. Павлюк преподавал математику, Наливайко немецкий язык, а потом и русский, Разумный преподавал английский язык, ну и я эти предметы.
Мне было чрезвычайно тяжело. Достаточно таких деталей: я стал сам искать квартиру, чтобы с питанием. Это было почти невозможно. Я наткнулся на какую-то хату, где хозяйка соглашалась готовить обеды — только окрашенный пол высохнет, а пока можно спать на чердаке. Учитель идёт в солому спать! А он не сохнет неделю, другую. Я иду в школу, кое-как умывшись, у меня завелись вши. Я боюсь, не знаю, что делать. Наконец я догадываюсь, что терпеть это состояние нельзя. Осень, и маме что-то недоброе снится. А когда маме снится, то мама моя в снах ясновидящая — значит, приедет. Боже, когда она приедет? Она же приедет в Почаев — ко мне и в Почаевскую лавру. Как она приедет и всё это увидит — так как же она будет жить? Я нахожу другую квартиру — без питания, но нормальную. Иду на базар, покупаю дуст, скидываю с себя всё — а у меня же ничего нет, только то, что на мне, — скидываю с себя всё, в этот дуст — и освобождаюсь. Вот такая бытовая революция!
А в школе тем временем продолжается интенсивная жизнь. Директор, когда увидела, что я на неё смотрю как на мелкую эксплуататоршу, стала меня подсиживать, заходить на мои уроки. На уроках литературы она могла только удивляться — просто я читал легко и знал предмет. Хоть я этого в университете не изучал, но я мешок книг с собой привёз. Я никогда из учебника не читал — не выносил учебников. Они мне были до такой степени отвратительны, бездарны и не нужны, что это трудно передать словами. Это, как говорила одна художница, когда её спросили: «Почему вы не вступаете в Союз художников — у вас какие-то принципиальные возражения?» — «Нет, — говорит, — меня ноги не несут. Как-то меня ноги не несут». (Смеются).
А на уроках языка всегда можно было к чему-то придраться. Директор стала мне устраивать проверки конспектов перед уроками — всегда. Словом, я попал в среду очень напряжённую, так что некогда было думать о домашних невзгодах. И в школе была очень нехорошая атмосфера. Скажем, там у директрисы была сестра — «отличник народного образования». На вид — интеллигентная. Преподавала русскую литературу, разговаривала только на русском языке. Но как она относилась к другим — это сразу меня поразило. Как она при мне к своей же коллеге отнеслась, побывав на уроке! Ну, пусть она плохо ведёт урок: «Слушайте, да вы же ничтожество, да вы же совершенно не понимаете материала! И как вам не стыдно!» И так далее. Ну, думаю себе, что ты за человек такой? Ну пусть ты на порядок выше её — та преподаёт русский в пятом классе, а ты в старших классах. Но ведь так к человеку нельзя относиться! Это меня страшно возмущало. И та директриса к нам не относится как к людям.
Мы, конечно, отвечали тем же. Мы насмешливо относились и к дирекции, и к парторгу. А там был парторг — бывший советский партизан и сволочь Дудченко, который хвастался, что сжёг живьём человека, который кричал: «Слава Украине!». Они завели такой обычай, чтобы учителя приходили на политинформацию. Я проигнорировал этот обычай, считая его унизительным, и не приходил. А Пётр Разумный приходил и записывал этого Дудченко. Оттуда пошли эти знаменитые афоризмы: «Товарищи, мы видим о том, что когда Марко Озерный прогремел на весь мир, в Закарпатье сеется кукуруза. Там, впрочем, испокон веков кукуруза сеется». Вот такое. И каждый раз Пётр Разумный пойдёт с карандашом и записной книжкой — и поймает рыбку, потому что у этого Дудченко был какой-то параноидальный комплекс. Он нам давал колоссальную пищу. Он жаловался: «И молодые ребята, и умные ребята, и вроде неплохие ребята — а смеются!»
Итак, мы как-то спасали себя этим смехом в той кромешной атмосфере. Когда директор пронюхала, что я, собственно, являюсь инспиратором среди тех, кто смеётся и бунтует, а молодые учительницы тоже уже начинают присматриваться, что вот смотри — вот есть же люди, которые сопротивляются. До сих пор их ни во что не ставили, так примерно, как ту учительницу. То нас и в райком партии вызывали, секретарь райкома рисовал нам радужные перспективы, что Лавра будет закрыта, уже Печерскую лавру в Киеве закрыли. А школа же была в ограде Лавры... Вообще, это было удивительное явление: тропинка в Лавру, у колокольни нищий, который и летом, и зимой босой, и всегда он — и утром, и вечером. Дальше школа, за школой милиция, дальше КГБ. А тут слева Лавра. В Лавру мы, конечно, не ходили. Я заходил как-то раз или два, так тихонько и, я бы сказал, отстранённо — всё же холод отчуждения очень и очень дал о себе знать.
Из Почаевской школы и из Почаева я вылетел, как снаряд — с большим шумом. Началось это с того, что объявили открытый урок упомянутой «отличницы» по русской литературе, и хитрый завпед придумал, что я должен выступать как оппонент. Эта сестра директрисы была по-своему человеком дипломатичным: как-то она даже предлагала мне союз: мы всё-таки «ведущие учителя» и так далее. Я не очень понимал, что такое союз с ней, меня отталкивала её грубость в отношении к другим. Это будто союз двух акул? Но, во-первых, я не был акулой и, во-вторых, с её точки зрения, я преподавал «всего лишь украинскую литературу». Правда, я был воспитателем девятого класса. В этом классе её не слушали дети и заявили мне, что будут слушать только тогда, когда я им прикажу. То есть они выразили мне такое особое доверие. Я немного поиронизировал, но, конечно, в откровенность с детьми не пускался и против другой учительницы с детьми не мог говорить.
Открытый урок был организован помпезно, она его старательно подготовила, привезли несколько десятков учителей со всего района. При обсуждении они хвалили, что всё было так блестяще, как в оперном театре, это было чрезвычайно, поучительно и так далее. Когда мне дали слово, я стал анализировать этот урок требовательно и сурово. И как-то так вышло, что в конце этого анализа упавшим голосом директриса спросила меня: «Так как вы, Евгений Александрович, считаете — можно поставить "удовлетворительно" за тот урок или нет?» Я сказал, что я не хочу ставить оценки, потому что я, видимо, не для того приглашён официальным оппонентом, а только для того, чтобы высказать замечания, с которыми можно согласиться или не согласиться.
Им было очень трудно опровергнуть эти замечания. Я показал, что опрос — это был просто парад отличников. Потом я, самое главное, показал, что материал не раскрыт и сама учительница не понимает, что она должна была объяснить. Она должна была детям объяснить «Размышления у парадного подъезда», а у неё вообще никаких «размышлений» не было, у неё был только образ вельможи и образ покорных крестьян. А «размышлений» нет, и непонятно, почему нет — ведь в заглавии произведения есть «размышления»? Это чрезвычайно важная проблема — собственно, здесь весь Некрасов, размышления его о судьбе русского народа: «Ты ль проснёшься, исполненный сил, Иль, судеб повинуясь закону, Всё что мог, ты уже совершил — Создал песню, подобную стону, И духовно навеки почил».
Я нашёл очень много ошибок в её русской речи. Я анализировал на украинском языке — это по тогдашним сталинским обычаям тоже был вызов. Это вызвало у неё припадок. Она не могла ничего опровергнуть.
После этого анализа эта женщина заболела. Я думаю, что по-настоящему заболела. Хотя разбор урока был незлобивый, тем более он был болезненный. Незлобивый в том смысле, что я не хотел аж так много найти у неё всего этого — она всё же была хорошая учительница. Она, видно, плохой человек, но как учительница она действительно принадлежала в Почаевской школе к лучшим. А вышло так, что я стал её «фатумом».
После этого они решили от меня избавиться. Директриса договорилась с начальством и решила под конец полугодия устроить мне погром. Приехал из Киева представитель Министерства образования, приехал инспектор облоно, и она выставила меня как образец тех учителей, которые не подчиняются администрации и не хотят сотрудничать.
Мне дали слово. Я помню, что представитель Министерства образования перебивал меня, я его успокоил: «Пока что мне дали слово, а когда вам дадут слово, то вы скажете своё в поддержку молодых учителей. Прошу меня не перебивать». Такое поведение по отношению к представителю из центра в Почаевской школе тоже было необычно. Я уже не говорю о тех наших мелких школьных или околошкольных чиновниках.
Помню, собралось заседание в большом зале. Секретарь райкома партии за столом, выступает представитель облоно, инспектор, раскрывает свой блокнотик и цитирует Толстого: «Человек — это дробь, где числитель — это то, что он есть, а знаменатель — то, что он о себе думает». И тут же ссылается на молодого учителя Сверстюка, который слишком много о себе думает. Я в первом ряду, встаю и демонстративно выхожу. Меня из президиума начинают сдерживать. Я ушёл. За мной Пётр Разумный тоже демонстративно выходит. Мы молча идём ко мне на квартиру, я собираю вещи и говорю: «Пётр, я поехал». — «Куда?» — «К маме, на Рождество». — «Ну, я тоже еду». — «Ну, поехали, если ты согласен. Только имей в виду, что за это будет серьёзная расплата». — «Ну, будет — будем расплачиваться».
И мы поехали к маме на Рождество. Дома это была очень большая неожиданность, потому что все учителя — на зимней конференции. И у моей мамы на квартире местные учителя тоже удивляются, что я приехал. Мы хорошо провели Рождество у мамы, а после Рождества возвращаемся на станцию Радзивилов (когда-то Червоноармейск), а отсюда тридцать километров пешочком по метели — метель хорошая тогда была.
Приходим в школу. Я ещё успеваю написать конспект на урок, потому что знаю, что будет проверка. И действительно, Кикимора, как мы называли директрису, уже ждёт меня в коридоре. Говорит: «Вам не надо идти на урок — вы идите к заведующему районо, вас вызывают». Заведующий районо с такими глазками мышки: «Евгений Александрович, чего вы хотите?» — «Ну, — говорю, — как вам сказать? Я знаю, чего я не хочу». — «А чего вы не хотите?» — «Я не хочу с вами работать». — «Как не хотите?» — «Вот так, вы сами знаете, как. Не хочу я с вами работать — нечестные вы люди». — «Ну, если так, то нате вам». И вынимает из ящика открепление — уже заготовленное и заверенное печатью, — о том, что я уволен с работы в Почаевской школе.
Я собираю свои вещи в мешок, их уже больше, чем мешок — два мешка книг, да даже не тёмные мешки, а белые. По снегу мы их с Петром Разумным тащим к автобусу и прощаемся. Но не навсегда: он остаётся верным другом на всю жизнь.
Меня принимает начальник Облоно, для которого я уже прикинул ответы. Причём, я готовился к разговору с ним далеко не в умоляющем тоне. Но понимаю, что у них такого ещё никогда не было, чтобы учитель в присутствии киевского и райкомовского начальства так демонстративно себя вёл. И это же первые месяцы работы в школе. Именно поэтому — необъезженный конь. А тем временем тот завоблоно (Краглик, бывший директор Кременецкого пединститута) спокойно выслушал меня и говорит: «Я знаю, что это дурни, но всё равно так вести себя, как вы, нельзя. Вот что, сынок, тут в одной школе у нас не преподаётся литература с самого начала года — там учитель ушёл в аспирантуру. Десятый класс, выпускной — надо выручать». Будто отпадает дальнейший разговор...
Тем временем входит тот инспектор облоно, что выступал со своим записничком о том, что человек — это дробь. И несёт целую папку материалов, постановление районо по поводу моего поведения, осуждение собрания учителей района и такие другие материалы, о которых мне потом рассказали. Увидел меня и говорит: «Это же он и есть, тот из Почаевской школы! Вот и папка с материалами». А завоблоно говорит: «Перед тобой человек сидит, а ты со своими папками. Иди!» Он его прогнал. (Смеётся).
Я говорю: «Ну, конечно, я хотел бы просить школу, где были бы какие-то условия для работы. Но после того, как вы сказали об этой школе, что я могу сказать? Единственное, что я всё же хочу спросить: директор школы умный человек? Потому что я с дураками не могу». — «А вот как раз директор школы там умный человек! А за всё остальное не ручаюсь».
БОГДАНОВКА
Так я поехал в Богдановку Тернопольской области, Подволочисского района. В этой Богдановке у меня тоже было очень много приключений, но директор — старший, умный человек, Алексей Валерьянович Белинский. Он только порой просил: «Евгений Александрович, ну не сыпьте соли!» Он меня спрашивал, какая причина того, что я так держусь, как бы сказать, неординарно. Я говорю: «Помните, есть у Горького в повести о детстве такой эпизод, когда у Кашириных, где невмоготу было всё это видеть изо дня в день и жить среди тех людей, то порой он бросал пачку соли в борщ, и они дурели от этого. Или залезал на крышу и затыкал дымоход, и они никак не могли понять, почему дым. Он хотел в этом мире устроить хоть какое-то приключение». Так директор меня просил: «Не сыпьте соли в борщ!»
А я бы сказал, что там была довольно разнообразная среда — тоже молодёжная. У меня сложились хорошие взаимоотношения с детьми. Я там имел славу «украинский пан». Там всё-таки сохранилась галицкая, более интеллигентная атмосфера. Учитель украинского языка — это «украинский пан».
В Богдановке не было такого враждебного окружения, которое в Почаеве вызвало противостояние, всколыхнувшее учителей района, потому что выходило за рамки воображения. В Богдановке я получил письмо от ученицы необычайной скромности и трудолюбия: «Где вы теперь, украинский Байрон?» Хотя было известно, что я лишь на другом краю Тернопольщины. В Богдановке было слишком тихо и не хватало девятиклассников, готовых поддержать восстание «на бусурман».
Помню один эпизод — на Пасху. Ну, жилищные условия там были ужасные. Там не только некому было кормить и столовой не было, а там даже не было отопления. Зиму 1953 года — январь, февраль, март и так далее — я жил в нетопленой хате. Потому что нечем было топить, не завезли топлива тому учителю, которого нет. Но молодость как-то побеждает. Помню, иду я на Пасху по улице — бежит напуганная Оксана, учительница английского языка. Она пошла под церковь, а в неё запустили камнем и ударили в плечо. Очевидно, её прогнали, чтобы она не была разведчиком — как учительница, которая смотрит, кто принимает участие в пасхальных гаивках. Я её задержал, расспросил и говорю: «Пошли вдвоём». Я был уверен, что в меня не запустят камнем и что можно будет это как-то загладить.
Действительно, мы постояли там сбоку. Сельские парни как-то так стыдливо смотрят на меня, будто они и не враждуют. Не школьники, а те, что постарше. А школьники, само собой разумеется, смутились. Потом девушки осмелились, взяли меня за руку и потянули в хоровод. А я Оксану. Мы пошли с ними, немножко поразвлекались. Легализовали их гаивки — и ушли. Ну, ясное дело, что это сразу стало известно в райкоме — гаивки с участием учителей! Директор просил, что «уж так — нельзя».
Было ещё несколько дерзостей по отношению к секретарю райкома и к другим — ничего, всё сошло. Тогда, к великому счастью, умер товарищ Сталин. Мы сидели в учительской. Я сел как-то на стол, тут же радио недалеко. Радио сообщает голосом Левитана. И когда сказало, что «скончался», наша пионервожатая сказала: «Встать, товарищи!» Я сидел. Другие тоже не встали. То есть я фактически задал тон.
Надо сказать, что я это событие глубоко пережил. Во-первых, это была моя давняя мечта: когда же он, наконец, «скончается»? А когда он скончался, была такая музыка... Если бы на меня посмотреть в то время, то можно было бы сказать, что я принадлежу к самым заслуженным людям. Эта музыка — это невероятно! Всё заполняла эта траурная музыка. Я считаю, что это был один из лучших спектаклей эпохи Сталина — эта траурная музыка.
В тот год спали, так сказать, морозы. Чувствовалось, что есть какое-то потепление. Была объявлена амнистия — конечно, для уголовных преступников, а не для политических. В том же году — весть об аресте Берии. Событие за событием. А плечами чувствуешь, что мир как-то немного распогодился.
Тем временем брат Яков вышел на поселение в Красноярском крае. Он много лагерей обошёл, и я уже не знаю, какие. Знаю, что его выпустили на поселение. Но он был в Канском районе Красноярского края, «посёлок Хондальское». А лесоповал — так там уже без номера. На берегу реки Бирюса.
Я решил увидеться с братом — столько лет! Сказал маме, папе. Они поддержали.
Я опускаю много таких пикантных деталей. Например, выпускной вечер. На выпускном вечере за столом, в новых костюмах мои ученики. Слышу их родителей: «А где же "украинский пан"?» И показывают: «Вон тот?» У меня рукава такие почти по локоть, из хорошего материала пиджачок, но рукава короткие. Бедность — ну 65 рублей! Из них надо было много отдавать на книги, потому что всё, что выходило, я покупал. Фактически в библиотеке никогда ничего нет, если с собой не привезёшь.
АТМОСФЕРА ЭПОХИ
Я хотел бы сказать об общей атмосфере, в которой проходила моя жизнь. Это подарок судьбы, когда человек в детстве имеет что с чем сравнивать, не выезжая за границу. Скажем, в детстве польская власть, которая воспринимается народом как оккупационная. На смену ей приходит советская власть, которая резко обесценивает вчерашние ценности, а народом воспринимается также как оккупационная. Наконец приходит немецкая власть, которая тоже резко меняет все ориентации и ценности, и та уж — абсолютно оккупационная. Наконец, приходят после немецкой власти «вторые советы» — это уже брутальные оккупанты. Но всё имеет свои нюансы и всё очень относительно. При той оккупации я учился, при той оккупации я даже имел какие-то привилегии. Каждая оккупация тоже имела какие-то свои преимущества, давала какую-то информацию для сравнения, для сопоставления, а самое главное — давала дух сопротивления. Было чему противиться, за исключением, может, первой польской, когда ещё было детство и там только накапливались первые впечатления, ещё фактически не было какой-то политической позиции.
Я рассказывал, что меня родители в детстве спрашивали, как я отношусь к тому, чтобы перейти в католическую веру, и тогда те десятины земли, которые нам надо покупать, нам даром дадут. Конечно, этот вопрос был хитро мне поставлен. Перед родителями, совершенно понятно, этого вопроса не стояло.
А ещё хорошо помню: девушки и парни ходили на Пляшеву, под Берестечко, каждое лето, а польская полиция резала на них вышитые сорочки и била их нагайками. Были парни арестованы и сидели в тюрьме, в Картуз-Берёзе, — это впечатление с детства осталось, и мода «страдать за Украину» была привита уже тогда, в детстве.
Потом, ориентация — на каких людей? Я бы сказал, что меня при всех тех условиях спасала ориентация на людей посмелее, на людей порядочных, с которыми можно иметь дело, которые не донесут — пусть они мне будут не единомышленниками и пусть я даже разговариваю с ними на чужом языке.
Кстати, вспомню ещё один эпизод, который случился с моим отцом во время оккупации.
В. Овсиенко: Какой оккупации?
Е. Сверстюк: Немецкой. Советская почему-то не называется оккупацией.
В. Овсиенко: «Первые советы» и «вторые советы»?
Е. Сверстюк: Только на Волыни говорили «советы». А то было осенью 1941 или 1942 года. Итак, отец держался близко с моим дядей — маминым младшим братом. Он был баптистом и таким себе человеком, который пытливо ищет, человеком, который задаёт вопросы. Это по-своему тоже была революция — сменить веру. Хотя в селе баптистов было довольно много. Итак, они повезли сдавать картошку на заготовительный пункт. Ночью, поздней осенью ехали, и их остановил какой-то человек с пистолетом в руке. Дядя был моложе отца лет на пятнадцать. Молодой человек. А отцу было, может, лет пятьдесят с чем-то. И тот велел дяде снимать кожух. Ну, дядя снимает кожух. А мой отец тоже остановил фуру, подходит: «Что такое?» — «Не подходи, а то буду стрелять!» — «Так чего ж, — говорит, — стрелять? Я же хочу посмотреть, что такое». Отец подходит, смотрит — на возу драли (драли — это вилы с набалдашниками на концах, которыми накидывают картошку), он хватает за эти вилы — бац того с пистолетом по руке! Тот — дёру! Отец стал искать пистолет — нет. Отец распрягает коня — и за ним. Дядя держит его: «Да не надо! Ну, зачем — пусть себе бежит. Ну, убежал — и хорошо». Нет, отец ловил! Но ночь! Ночь тёмная! Он немного поездил, не нашёл, вернулся назад и поехали домой.
В. Овсиенко: Тот же мог быть с пистолетом?
Е. Сверстюк: Мог быть, потому что отец пистолета не нашёл. Но вот он был такой — зух, как говорили. Я думаю, что эта атмосфера немножко передавалась детям.
Теперь я вспоминаю много таких эпизодов, особенно уже при немцах — тоже дерзкие эпизоды. Отец мог два дня, когда я захотел, искать лыжи... Где достать лыжи? Говорят, что когда советы отступали, они много лыж оставили. Отец запрягает коней — раз ребёнок хочет, то надо искать. Два дня мы ездим, ищем. Не нашли. Потом мы нашли у какого-то старого поляка ещё польские лыжи, заплатили ему фантастическую сумму — достал отец лыжи!
Теперь по поводу того ужаса, террора, который наступил с появлением вторых советов. С одной стороны, это была оккупация брутальная — беспощадное истребление людей, заподозренных в соучастии в УПА. А, с другой стороны, это была всё же большая и дерзкая борьба с ними, с советами. Это очень сильно влияло. Ходили героические легенды о Черноморце, о Славке — тех ребятах, которые гибли в засадах и схронах. Та легенда ходила по сёлам. Кто-то перепугался, а кто-то и Богу за них молился, а кто-то и рассказывал детям о такой удивительной храбрости и бесстрашии тех ребят. Итак, это по-разному влияло. Я, конечно, могу сказать, что родился в том крае, где писали на стенах: «Смерть Гитлеру и Сталину!» Но к этому надо непременно добавить, что тех, которые с большой радостью смотрели на такие надписи, было пусть пять процентов — а остальные смотрели с испугом. Потому что эти лозунги писались и при Гитлере, и при Сталине — особенно при Гитлере, а при Сталине не очень-то и писались.
Я помню, когда ещё студентом шёл со станции Стоянов в село к своим родителям с другими студентами, — Боже, как я с ними разговаривал! Всё равно, что мнёшь-мнёшь эту глину, а она глина, и ничего из этой глины не будет. Она податливая, она равнодушная, она не хочет думать о характере, о чести, о других «выдуманных словах» — не хочет! Она хочет покорно приспособиться к обстоятельствам. И таких в университете тоже было большинство. Поэтому я имел дело преимущественно с ребятами, которые не боялись, и это мне давало возможность хорошо ориентироваться. Я себя хорошо среди таких чувствовал. Ну, скажем, Яриков — антисоветчик ярый. Есенина знает наизусть всего. Может, он слишком много тем Есениным травил себе душу — он ядовитый поэт, а вместе с тем — это поэт! Может, и Байрон имел обратную сторону. Имел, но это то, что больше всего развивает. И Достоевский тоже ядовит в значительной мере, но я его проштудировал в девятом классе средней школы, когда узнал, что это запрещённый писатель. Всё — против течения. Когда ты не запуган, то тебя никто и не догоняет — это тоже очень важно. Ты себя чувствуешь свободным. Я думаю, что это дало мне возможность так независимо держаться и в моей учительской работе.
АСПИРАНТУРА. ПОЕЗДКА К БРАТУ В СИБИРЬ
После Сталина — это уже период некоего оттаивания и раскрепощения. В частности, от университетской науки. Это 1953-56 годы.
В. Овсиенко: Вы из той Богдановки пошли в аспирантуру?
Е. Сверстюк: Да. История с аспирантурой была такая. Я поехал к брату в Сибирь с наивным «командировочным» удостоверением, выданным мне этой же сельской школой. Как я сказал, так они и написали. Никто из тех железнодорожных кассирш даже не хотел читать эту бумажку, а с улыбкой мне её возвращали. Ну, как-то обошлось — всегда найдёшься, когда тебе 25 лет.
Итак, я приезжаю в Канск и беру билет на какой-то автобус, еду в Хондальское. Приезжаю туда, там ничего нет, кроме какого-то пункта, «лесхоз» или что-то такое. Я спрашиваю, когда может быть машина — там 75 км по тайге ехать. Они говорят, что машины тут бывают раз в неделю, порой чаще. Я вышел со своим чемоданчиком, в котором узелок коржиков для Якова, и, собственно, больше ничего. А чемоданчик здоровый, как когда-то были.
В. Овсиенко: Деревянный, наверное?
Е. Сверстюк: Не деревянный — картонный. Ну, и так хожу в сумерках. Уже темнеет, пасмурно. Думаю, где я заночую — вокруг ни души. Хочу собраться с мыслями. Напротив меня какой-то человек с велосипедом в руках, смотрит мне в глаза и говорит: «Женя?» — «Яков!» — «Ой, — говорит, — если бы ты знал — ну наконец-то встретились! Если бы ты знал, как я сюда приехал!»
Стыковка как в космосе — один к одному! А я послал телеграмму «на деревню дедушке», что выезжаю такого-то числа, на его адрес. И всё, потому что я же не знаю, сколько буду ехать — неделю или две, и куда я еду — я вообще беру билет на Красноярск, а потом оказывается, что надо ещё 200 км ехать. И конечно, денег нет — какие же деньги? Дома их нет, а у меня только отпускные — на такую дорогу!
А оказывается, что брат получил телеграмму. Точнее, брат не получил телеграммы. Он перед тем заблудился в тайге и на нём уже поставили крестик, потому что из тайги не возвращаются. Он по той тайге вышел аж на какую-то реку. И там за три дня блуждания по лесу дал знать. Сразу появилось КГБ и вертолёт, потому что — политический! Они его сразу перевезли на место. Ну, тут ребята радуются: «Яков появился, мы знали, что он справится... Яков, тут тебе телеграмма». Яков — решительный человек — посмотрел телеграмму: «Ого, — говорит, — надо ехать!» Взял чей-то велосипед, не спросив, да и поехал по тайге. И минута в минуту встретился со мной!
Это было путешествие очень романтичное. Я из него вернулся худой, как скелет. Дома застал письмо от своей бывшей знакомой из университета, которая написала, что она поступила в аспирантуру на психологию. Ну, думаю, если она поступила в аспирантуру, то почему же у меня могут быть проблемы? И себе тут же написал заявление в аспирантуру. Я, конечно, не готовился, потому что когда там мне было. Но это хорошо, что я в тот год поступал, потому что именно тогда эта дьявольская машина забуксовала: тогда арестовали Берию. Только тогда и мог я поступить. Я приехал в Киев в Институт психологии, на Ленина, 10. Сдаю экзамены без подготовки. Что-то там начинаю выкручиваться, они в восторге от какого-то там импровизированного моего ответа по марксизму-ленинизму — это называлось «философия». Потом экзамен по психологии. На этом экзамене меня спрашивают, как я отношусь к учению Павлова об условном рефлексе, о высшей нервной деятельности и о её значении для психологии. Я высказал своё почти негативное отношение к этому культу в науке, о том, что он не имеет прямого отношения к психологии и так далее. Они были немножко шокированы такой дурацкой прямотой на экзаменах, но им что-то и понравилось в этом. Мне поставили «пять». Так я поступил в аспирантуру «диссидентом».
А потом не было назначений для психологов. Директор Костюк, который в общем непросто ко мне относился, не очень хотел меня в Институте как сотрудника. Не очень. Ещё у нас потом будет много приключений, и он ещё даже будет принимать меня по конкурсу, когда меня уволят... по идеологическим мотивам. Потом я буду выступать на конференциях в середине шестидесятых годов, и эти выступления будут фигурировать в моём приговоре. Тогда меня увольняют с работы по требованию КГБ. Такое «потаённое никодимство» и сочувствие со стороны профессора Григория Силовича Костюка.
ПОЛТАВСКИЙ ПЕДИНСТИТУТ
Литературу я любил, но никогда как следует не изучал, и в университете её почти не изучал, кроме зарубежной. А это давало даже преимущества. Я занимался психологией в Институте психологии, диссертацию писал — правда, на смежную литературно-психологическую тему.
В. Овсиенко: А каково её название?
Е. Сверстюк: «Особенности понимания старшими учениками мотивов поведения литературного персонажа». Восприятие персонажа. После аспирантуры я попал к умному замминистра, который с интересом поговорил со мной, сказал мне, как надо читать литературу, и спросил, смогу ли я так читать, чтобы заслушались. «Так, — говорю, — может, и не смогу, но не хуже, чем те, что мне читали». И он мне дал назначение в Полтаву. Я попадаю в Полтавский пединститут.
В. Овсиенко: Это уже какого года?
Е. Сверстюк: Это 1956 год. Время венгерского восстания. В пятьдесят восьмом году меня увольняют — я не проработал и трёх лет. «По сокращению штатов» переводят на заочный отдел — это фактически увольняют. Я до сих пор не знаю — мотивы, очевидно, те, что я не вписывался «в формат», насмехался над комичным ректором, который никогда не читает лекций, но всегда есть в расписании. Ректор пединститута М.В. Семиволос — из тех идейно-полицейских шавок, которые с трудом пролезли в кандидаты наук и которых поддержали соответствующие органы. В общем-то я выделялся — давал студентам читать «Историю украинской письменности» Ефремова. Не всем, но давал. Мне казалось, что тут ничего особенного. Но теперь я встречал выпускников Полтавского института, так они вспоминают, что в то время услышали от меня то, чего не слышали от других. Итак, что-то было. Мне казалось, что революции я там не делаю, но у них есть с чем сравнивать: всё было очень запуганное, очень лояльное. Так я думаю, что не случайно тот догадался, что надо избавиться от такого, который читает лекции без конспектов, а вместо этого говорит то, что думает.
КИЕВ
Как-то меня проведал приятель со времён аспирантуры Иван Бенедиктович Бровко, который ко мне очень дружелюбно относился. Он человек деловой, практичный, и говорит: «Что тебе тут делать? Тут тебе ничего не светит — ни квартира не светит, ни работа не светит, раз тебя уже уволили. И нечего тебе тут делать — переезжай в Киев, будешь у меня жить, а там как-нибудь устроишься. Молодой, с твоими возможностями — ты устроишься в Киеве на хорошую работу. А там и квартиру легче получить, чем тут, в этой Полтаве».
Он меня убедил. Я переехал сперва сам, а жена и ребёнок там оставались. 1959 год... Кажется, в 1959 году был убит Бандера, так?
В. Овсиенко: Да, в пятьдесят девятом. 15 октября.
Е. Сверстюк: Вот как раз тогда, когда в газете «Известия» было почти сочувственное сообщение об этом убийстве каким-то там «немецким разведчиком Оберлендером» — в то время я был у Ивана Бенедиктовича. И именно тогда нас подслушивали через стену. Тогда они заинтересовались — им, конечно, а не мной. Я был для них никто, а он был всё-таки майор Генерального Штаба, коммунист, почти завкафедрой. Это для них была сенсация, когда они услышали то, что он говорит о них, о Бандере и так далее. Он любил громко говорить. Он вдохновенно говорил.
В. Овсиенко: Он об этом убийстве сказал: «Вот, и туда они добрались!»
Е. Сверстюк: «Это они его убили, сволочи!» Словом, после этого меня увольняют из института, куда меня только что принял Григорий Силович старшим научным сотрудником. Собственно говоря, они цитировали Ивана Бенедиктовича, а у меня, видимо, не было эффектных выражений. Я вообще чувствую, когда подслушивают. Наверное, и тогда чувствовал, что что-то не то, — и я ему говорил. А он уверял: «Да что тут может быть!» А может, просто их не интересовала моя фигура по сравнению с ним. Итак, закончилось это тем, что я им не дал подтверждения того, что он говорил. Я им сказал: «Я могу сказать, что я говорил. Хоть я не помню того разговора, но я вам откровенно скажу, что я о чём думаю». — «Нет, это нас не интересует». — «Ну, так чего вы меня зовёте?» — «Нас интересует, чтобы вы подтвердили то, что он говорил». — «Если вы знаете, то хватит с вас того, что вы знаете — вы знаете больше меня». — «Нет, вы слушали, вы это понимаете». Потом через бессонные ночи до меня дошло, как надо с ними разговаривать: «Вы знаете что: он большой шутник! Он любит насмехаться, иронизировать. Вот он цитирует Самойленко о патриотах на печи и так далее. Всё то, что он говорит — это он насмехается. Нельзя принимать за чистую монету, когда Иван Бровко насмехается над чем-то». Тут кагэбист позеленел: «Так что — вы нас за дураков принимаете!?» Выгнали они меня тогда и больше не звали — они не хотели, чтобы та версия попала куда-нибудь в протокол. Они рассердились и позвонили, чтобы меня уволили из Института психологии.
Таким образом, я потерял работу. Устроился с трудом, после долгих мытарств — с кем я только не встречался и с какими пнями я не говорил...
А после этого я устраиваюсь в журнал «Вітчизна», где завотделом критики был Иван Дзюба. Щуку пустили в реку. Мы сразу нашли общий язык, с первого дня. Я был завотделом очерков и публицистики — какая публицистика, какой очерк при советах? Это всё яловое. Фактически я читаю горы литературы, завалы графомании, на которые надо что-то отвечать. Им нужен был такой рабочий вол, и я был использован именно в роли того вола. Но я этим не удовлетворился и сразу дал несколько публикаций. Из этих публикаций стало ясно, что имеем «ещё одного». Тогда Дзюба начал критиковать, «как у нас пишут».
А тогда: что это такое в «Вітчизні»? Кого ты понабирал? Редактор Давид Демидович Копыця — заслуженный человек. Он и в ЦК работал, и фронтовик, и так далее... Но на него как наехали все эти собки, дмитерки и прочие. Выгнали его с треском, и нас с Дзюбой тоже. Всех троих выгнали.
В. Овсиенко: Так вы сколько продержались в журнале?
Е. Сверстюк: Я думаю, где-то не год ли — до 1961 года. Я подаю заявление на конкурс в Институт психологии. Тем временем обо мне уже разоблачительные статьи пишутся с намёками... Очень уж натянутые доносы редакция сократила, но в общем это была рука опытная. Бывший стукач Пётр Колесник, который доносил ещё на Николая Зерова. После десяти лет заключения, конечно, остался заядлым стукачом. Ему, очевидно, намекнули, кто есть кто, и он написал «Сопротивление среде или выдумка критика?» Я писал, что Шевченко создал себя благодаря сопротивлению среде. Такая концепция... И в связи с этим — очень критический обзор всей советской литературы о Шевченко — и бездарной, и заидеологизированной, и холуйской, и так далее. В Институте психологии прочитали ту статью обо мне и мою статью прочитали, и решили: тот Сверстюк, что у нас работал, — он там, видно, что-то весит, раз против него пишут. И в общем, если сравнить то, что они пишут, и то, что он пишет — то интересно. И меня приняли. Но я там продержался недолго. Меня снова с громом уволили за выступление на Волыни перед педагогическим активом на конференции.
В. Овсиенко: Вам потом это выступление было инкриминировано. Что вы там такого наговорили?
Е. Сверстюк: Собственно, доклад у меня был невинный — об эстетическом воспитании. Но я начал с того, что эстетическое воспитание — это уже роскошь, это есть свобода. Но эта свобода должна прийти, когда для неё расчистить место. Сперва надо стать человеком и научиться говорить правду, а тогда уже к эстетике. Раньше правда — а потом красота. Надо нам научиться смотреть друг другу в глаза, а не врать детям в глаза — будь то мы учителя, или мы директора школ. А это было выступление перед директорами школ. Фактически, все партийные, человек пятьсот. Частично была «критика культа личности», но поскольку это был 1965 год, то это уже была критика тогдашнего состояния. Был очень большой переполох, даже был вопрос, был ли это доклад по поручению ЦК, или от собственного лица. Они думали, что там, в Киеве, уже переворот, что уже велено так смотреть на вещи. Ну, были мне овации с правого крыла... Но когда я вышел в коридор — ни один человек ко мне не подошёл.
Кстати, я рассказываю об этом эпизоде, а на самом деле он один из многих, и далеко не самый яркий. Как-то мне на следствии один из майоров намекнул: «А теперь возьмём одно из ваших выступлений перед аудиторией. Какое бы вы посоветовали взять?» Я ответил: «Возьмите все. Они были правдивы, во всяком случае, честны».
Я думаю, что КГБ знало далеко не обо всех моих выступлениях. Даже за день до Нововолынска мать Оксаны Забужко, Надежда Никифоровна, организовала мне в Луцке хорошую учительскую аудиторию. Выступление было успешным, потому что оно давало пример, как может говорить учитель, и нечего бояться. Главное, я почувствовал перед собой единомышленников.
У ЗЕРОВА
После «увольнения по собственному желанию» я устроился в Институт ботаники — просто благодаря счастливому случаю: Григорий Порфирьевич Кочур был знаком с ботаником Дмитрием Константиновичем Зеровым. С ним я проработал фактически вплоть до его смерти и до моего ареста, что почти совпадает. Он умер на заседании учёного совета — инсульт. Он, собственно, был затравлен «коллегой», который в то время был намного активнее, изобретательнее и брутальнее, чем органы КГБ. Но я уже писал об этом.
В общем, это очень типичная ситуация. Зеров, подобно Вавилову, давал лысенкам дорогу и никогда не становился у них на пути — он знал, что этого делать нельзя. Но Лысенко не мог свободно дышать, когда знал, что есть Вавилов. И Константин Меркуриевич Сытник тоже не мог хорошо себя чувствовать, когда знал, что в институте есть Зеров. Это совсем другое измерение, другой вес... Уже и Сытник академик, и уже директор института — всё уже есть. Но очень важно, чтобы рядом не было настоящего академика. Фактически я был свидетелем, словно призрак старого Гамлета. Никто не хотел понимать этого, хотя все были свидетелями. Все знали, как новый директор приходил к нему в кабинет: «Дмитрий Константинович, у нас здесь реконструкция. Вам придётся переселиться из этого кабинета». Дмитрий Константинович побледнел, у него почти отнялась речь. Он говорит: «Как?! Я создавал эту лабораторию до войны, после войны, а вы мне говорите отсюда перебраться?» Какой-то слух потом пошёл, будто бы Зеров Дмитрий Константинович прячет там мои рукописи, и на всякий случай они решили «задёргать» Зерова.
Где-то у Г. Померанца есть о четырёх категориях советских интеллигентов. Первая, немногочисленная: те, что не думают, не говорят и не делают зла. Вторая — те, что избегают. Третья — те, что доносят понемногу, но без удовольствия. Четвёртая — те, что доносят, и с удовольствием.
В. Овсиенко: С особым цинизмом.
Е. Сверстюк: Да. Но, наконец, директор в отсутствие редактора Дмитрия Зерова выбрасывает нашу редакцию в какое-то помещение Института математики, которое он «выбил». Тот институт не согласился, проломили потолок, он провис с дырами. И он нас там разместил...
Тяжело всё вспоминать. Я вам скажу, что у них была специальная программа терроризировать меня на 36-й зоне в 1974 году, потому что им нужно было какое-то моё «заявление». Тогда, казалось, была бы победа. Начальник лагеря Котов, который потом пошёл на повышение, был изобретательным. Но академик был даже изощрённее.
В. Овсиенко: Так это же академик!
Е. Сверстюк: Сытник приносит свою статью о 50-летии исследований по физиологии растений: «Каково ваше мнение, Евгений Александрович, об этой статье?» Говорю: «Собственно говоря, я всего лишь секретарь, который регистрирует. Но я бы не советовал писать о великих достижениях в связи с работами Лысенко». — «Вы так думаете?» — «Я так думаю». — «Ну, вычеркните». — «Вы сами вычеркните — ваша же статья». — «Нет-нет, вычёркивайте, если так думаете». Вот такие ещё у нас были разговоры.
И ещё один эпизод, который сводит все фигуры из Института ботаники воедино. Вы помните, в протоколах при оформлении уголовного дела фигурировало такое понятие, как «предупреждение». Оказывается, каждому нужно было раньше выносить предупреждение. Арест — уже крайность. Если предупреждение не помогает, то какой выход? Итак, на следствии я копнул историю и говорю: «Кстати, у вас тут говорится о каком-то предупреждении — а я что-то не помню никаких предупреждений». — «Как? А в Институте ботаники мы вас вызывали на собрание актива». — «Я не помню». — «Вот, у нас есть решение этого собрания».
А что это было? Это на партбюро был такой разговор: «Евгений Александрович, вы знаете о том, что ваше имя фигурирует на радиостанции „Свобода“? Не просто имя — там передаются материалы. Это ваши материалы „Собор в лесах“, „Иван Котляревский смеётся“?» — «Мои, — говорю, — материалы». — «Как — ваши? А как же они туда попали?» — «Что мы будем говорить о том, как они туда попали? Давайте будем говорить об этих материалах. Если вас интересуют мои материалы, то я вам дам их прочитать. Вы люди образованные, здесь собрались — прочитаете, а потом будем говорить о том, как они туда попадают». — «Нет! Мы не будем читать!» — сказала парторг И. Дудка.
Тогда Сытник выступил очень коротко, но очень характерно: «Что вы рассказываете Евгению Александровичу о том, что его материалы есть на радиостанции „Свобода“ и какой они носят характер? Он это прекрасно знает. Он это лучше нас знает, какой они имеют характер. Я должен сказать, что эта власть дала мне всё. Я бы в навозе копался, если бы эта власть меня не вывела в люди».
Я Дмитрию Константиновичу не рассказывал обо всех этих приключениях — он был в то время где-то в отпуске. Он далеко никогда не ездил, в Конче-Заспе работал. Иногда, когда нужно было подписывать какие-то бумаги, я к нему туда ездил. Но я никогда не рассказывал о вызовах. Я знал, что у него очень много своих хлопот, что в Институте травят его жену Марию Яковлевну — с него вполне достаточно. Фактически он ничего этого не знал. Только когда ему другие рассказывали — потому что другие же ему тоже рассказывали: «Дмитрий Константинович, вы знаете, что у вас в редакции делается, что секретаря вызывают к директору?». Это же всё шу-шу-шу. Так вот, я ему рассказал только одно: «Знаете, Дмитрий Константинович, меня на собрание вызывали — комичное собрание, о нём не стоит рассказывать. Но был один эпизод. Сытник сказал о себе такое: „Без этой власти я бы в навозе копался — эта власть дала мне всё“». Дмитрий Константинович откровенностей не любил, всегда он воздерживался от оценок, не любил говорить о других. А тут сказал прямо: «Какой негодяй!»
Собственно говоря, он тут ещё не самый большой негодяй — это была его исповедь. И правда, правда же!
В. Овсиенко: Расскажите, пожалуйста, какие ваши статьи тогда уже ходили в самиздате?
Е. Сверстюк: Почти каждый год что-то из моих текстов вращалось в машинописном обороте. Но подписанные моей фамилией — это «На праздник женщины» (1967), «Собор в лесах» (1968), «Иван Котляревский смеётся» (1969), «Последняя слеза». Но то, что под псевдонимами проходило в печать, мало чем отличалось.
Если говорить о самиздатовских произведениях шестидесятых годов, то это были вещи вершинные для самого автора, вещи весомые. Конечно, в атмосфере была состязательность — за новизну, за смелость, за позицию, за влияние на людей. Но там очень важно было всё же подняться до определённого уровня. Тот уровень, на котором каждый из нас находился, не был достаточным для того, чтобы сказать глубокую правду. Мы должны были подниматься над общим уровнем выше, но очень постепенно. Знаний, которые мы имели бы, читая разную зарубежную литературу, — таких знаний было маловато. Надо было самому создавать ту энергию и вырабатывать тот уровень мысли. Я думаю, что я немного обязан своей психологической подготовке. Никто из тех, кто работал в области литературной критики, не имел психологической подготовки. Думаю, что это больше всего сблизило нас в «Вітчизні». Из филологической школы, особенно из украинской филологии, почти невозможно было подняться выше, чем просто до острой публицистики. Как только Василь Стус вышел за пределы разрешённой литературы — появился в самиздате «Феномен эпохи».
В. Овсиенко: На этом разговор 26 декабря 1999 года закончился.
АРЕСТ 14 ЯНВАРЯ 1972 ГОДА
В. Овсиенко: На третий день Рождества Христова, 9 января 2000 года, продолжаем разговор с паном Евгением Сверстюком в его доме.
Е. Сверстюк: Итак, аресты начала семьдесят второго.
Собственно, арест для меня не был неожиданностью. В атмосфере это уже висело. Я помню, что самые опасные вещи, которые мне казались важными, я поразносил, пораздавал. Они так и не вернулись. А литературные самиздатовские вещи я вообще считал легальными. А вот книга, изданная в Париже в 1970 году, — была тоже кому-то отдана.
В. Овсиенко: Это «Собор в лесах». Париж — Балтимор: Смолоскип, 1970.
Е. Сверстюк: «Собор в лесах». Будущее уже физически висело в воздухе. Фактическое убийство Дмитрия Константиновича Зерова было симптомом. Я научился читать следы, я чувствовал, что они приближаются.
Тогда я заболел и лежал дома — правда, без больничного листа. Итак, читаю я себе дома, кажется, «Семь дней творения» Максимова. Это была очень злая вещь, антисоветская, апология белогвардейского сопротивления. Мне эта вещь нравилась, я с интересом читал об истории офицерской стихии, попавшей под большевистскую косу. После обеда слышу звонок. Ну, думаю, может и они.
В. Овсиенко: Это 12 января?
Е. Сверстюк: 12-го. Действительно: «Можно к вам?» — «Можно». Входит один, два, три, четыре — я уже не помню, сколько. Словом, полно их входит. Что очень интересно — я мог бы документально подтвердить своё настроение в то время: я всё-таки эту книгу Максимова бросил под кровать.
В. Овсиенко: Это вы тогда где жили?
Е. Сверстюк: На Плеханова, 6, квартира 40. Итак, я бросил её под кровать, то есть я как будто явно ждал их. Начался обыск. Я думаю, неинтересно повторять то, что было у всех: выдать неразрешённые, запрещённые вещи и так далее. Обыск затянулся. Я не знаю, было ли это у меня нервное состояние... Но нет, чего же нервное — я же всё-таки был болен, раз я не пошёл на работу. Меня лихорадило.
Где-то уже вечером они добрались до моего секретера. Собственно говоря, это вещь совсем открытая. Самые открытые вещи в секретере, вон в том. Они находят заклеенную в конверте какую-то вещь и спрашивают, что это такое. — «Я не знаю». — «Ну, давайте откроем». Открывают: «Программа у-коммунистов».
Мне трудно объяснить... То, конечно, не было нормальное состояние, потому что если бы я был в хорошем, деятельном состоянии, то когда Иван Светличный дал мне эту вещь прочитать, я должен был тут же, вечером её просмотреть и либо где-то спрятать, либо выбросить. А я её положил. А Иван меня предупреждал. Я его просил, чтобы он её забрал, потому что мне сейчас не до того, душа не лежит у меня к этому — я не вижу в этом смысла. «Ну, всё равно без тебя не обойдётся. Так или иначе тебе придётся прочитать. Попробуй это спрятать».
Они вскрыли конверт, увидели и позвонили — сразу вышли к соседям, очевидно, к своим, к соседям-стукачам. Уже поздно вечером, где-то часов в одиннадцать, приезжает такой злой дух этого времени — Пархоменко.
В. Овсиенко: Знаю Пархоменко — такой пепельный, начальник следственного отдела. Считался у них очень способным и перспективным.
Е. Сверстюк: Да. Этот пепельный, в серой шинели лейтенант командовал всем этим парадом. Когда он увидел конверт: «Ну что ж, собирайтесь, Евгений Александрович». — «Куда собираться?» — «Ну, видите, сколько понаходили — разбираться надо с этим всем». — «Ну, понаходили — так разбирайтесь, а я болен». — «Мы врача вызовем». Вызвали врача. У меня было такое впечатление, что врач действительно был очень нейтрален и сказал: «Да, человек действительно очень болен». Я не был очень болен, но температура, очевидно, была. Значит, у него были основания так сказать. «Ну хорошо», — и они ушли, на ночь.
Конечно, дома я не чувствовал себя хорошо. Я думаю, что лучше, если бы всё было сразу. Я уже не был дома и не был там.
В. Овсиенко: Между «здесь» и «там».
Е. Сверстюк: У жены Лили тоже было травматически тяжёлое состояние. Она, мне кажется, на второй день, конечно же, пошла на работу, потому что как же... Я был дома. Зашёл Лёня Плющ — сосед. Он жил здесь, за каналом, на улице Энтузиастов. Я ему показал протокол обыска. Он говорит: «А что это такое у тебя — „Программа у-коммунистов“? Это меня немного удивило», — говорит. — «И меня тоже удивило, — говорю. — Я не знаю, что это такое». Я действительно не знал, потому что я не читал, так как не придал значения предупреждению Ивана. (Автор этого машинописного проекта «Программы украинских коммунистов» — Василий Рубан. — В. О.).
Я так много об этом говорю, потому что фактически первые, может, месяцев десять следствие крутилось вокруг этого проклятого документа. Он вымотал много сил — и моих, и Ивана Дзюбы, и Ивана Светличного. Потому что его приписывали Дзюбе. Сначала мне, потом они увидели, что к коммунистам я вроде бы не должен иметь никакого отношения. Наоборот, они с самого начала подозревали, что я антикоммунист. И я ничем не опровергал этого. Никогда я не делал вид, что расположен к их идеологии или воспринимаю её — я просто молчал на эту тему. У них были свои данные, и поэтому они не очень настаивали. А вот Иван Дзюба им больше подходил — как автор «Интернационализма», где так часто фигурировал Ленин. Но вместе с тем тоже не подходил, потому что — не тот культурный уровень.
Забегая вперёд, я как-то тогда спокойно, словно во сне, из дома вышел. Думаю: нужна ясность. И мне легче, и дома будет легче.
В. Овсиенко: Это уже 14 января?
Е. Сверстюк: Да. Пришёл какой-то кагэбэшник в штатском, пришёл так называемый врач. Кагэбэшник осмотрел уголки, сделал, так сказать, «беглый обыск» — не роясь уже, а так, не попадётся ли что-нибудь. «Ну что ж, пошли, Евгений Александрович». Я молча оделся, молча поцеловал жену, ребёнка. Веруньке было больше года... Единственное, что разрешили передать из дома с запиской, — это фотографию ребёнка...
В. Овсиенко: Так вас забрали в котором часу, что жена была дома?
Е. Сверстюк: Это могло быть даже в субботу или воскресенье. Это надо проверить по календарю. Тогда даты и дни уже затерялись, потеряли смысл. Это было в послеобеденное время.
Итак, ввели меня боковыми дверями, не с улицы Короленко, ввели в какой-то длиннющий огромный зал, где надо было ждать. Я просматривал журнал «Крокодил». А он тогда ещё выходил зубастый, там было много намёков, которые меня немало развеселили, если так можно сказать. Я что-то процитировал часовому. Очевидно, процитировал такое, что касалось прямо его. Он отмолчался, потому что ему же «не положено» разговаривать. Потом вызвали меня — тот же Пархоменко. Я в его поведении увидел дьявола, который крутит хвостиком от радости: «Ну, вот вы, Евгений Александрович, у нас». — Спрашиваю: «А какое сегодня число?» — «Четырнадцатое, Евгений Александрович, 14 января». — Я говорю: «Это старый Новый год?» — «Да, старый Новый год, Евгений Александрович».
Тем временем он связался с кем-то по телефону: у них не было ордера на арест! Он при мне уже оформлял этот ордер. Он получил согласие и тут же при мне покрутил хвостом от радости, что всё в порядке.
СЛЕДСТВИЕ
Я думаю, что при оформлении ордера очень важную роль сыграла эта «Программа». У меня было такое представление, что у них насчёт меня была определённая неясность, так же как и насчёт Дзюбы. Хотя я могу ошибаться. То есть я предполагаю, что меня должны были бы взять где-то на несколько месяцев позже, судя по тому, что на первых порах у них не было ко мне конкретных вопросов. Они стали меня расспрашивать о каком-то Нуделе, который написал на меня донос — он фигурирует в деле. Что такое донос по поводу каких-то разговоров с Нуделем — это вообще очень тёмная и глупая вещь, этот пьяный Нудель и этот его донос. А в то время у них ещё не было указания насчёт моих самиздатовских материалов. Считалось, что это не антисоветские материалы. Позже, через несколько месяцев, они эволюционировали до того, что признали эти материалы антисоветскими, и уже тогда они перешли к обвинению. А до тех пор, когда меня прокурор вызывал из камеры и спрашивал об этом Нуделе, я ответил даже пренебрежительно: «Я не знаю, какой у вас Нудель и что там ваш Нудель говорил — это вы с ним разбирайтесь, а не со мной. Это меня не интересует». Таким образом, разговор свёлся ни к чему. Но ведь эту «Программу» они имели.
В. Овсиенко: Вам удалось узнать, кто же её автор?
Е. Сверстюк: По сути, полгода следствие крутилось вокруг этой «Программы» — откуда это у вас? Я с таким индифферентным видом говорил: «Я не знаю. Я не стану настаивать, что это ваше, но это тоже не исключено. Но возможно, что в моё отсутствие кто-то принёс мне». Я с самого начала, как ножом, абсолютно выкорчевал то, что это Светличный мне дал — об этом не может быть и речи. Итак, я стал строить сюжет вокруг того, что я этого не знаю — а всё остальное уже пусть будет то, что есть. Я настаивал: «Вы же открыли конверт — раньше оно неизвестно мне было. При вас же открывался конверт. Вы это помните?» — А они и так, и этак — уклоняются от этого. Я говорю: «Я как раз настаиваю на том, чтобы вы это зафиксировали». Они до конца крутили, чтобы не записать этого факта, чтобы оставить себе пространство.
В тексте «Программы» были какие-то правки. Они страшно долго испытывали почерк — и печатными буквами, и переписыванием какой-то статьи. Это занудно повторялось каждый день. Они вызывали всех, кого можно было вызвать в связи с этим, даже бедную тёщу, что было самым скандальным во всей этой истории, потому что ей было совсем плохо. И она не умела себя сдержать. Но ей нечего было сказать — она ничего не знала. Ну, но протокол остался.
Наконец, где-то они вышли на Василия Рубана. То ли они обыск провели и сверили тексты — у него машинка с мелким шрифтом. Я увидел, что у них нет всего того, что мы предполагали. Те отпечатки пальцев, то постоянное подглядывание, прослушивание — всё это было халтурное. На самом деле у них не было предварительных исследований, у них не было следов. Все эти доносы, которые у них были — это всё грубое и глупое. Они не знали о распространении моих самиздатовских вещей — каким образом они распространялись. Они обо всём этом хотели узнать от меня. Ни о каких отпечатках пальцев не могло быть и речи. Я даже думаю, что если бы не специфический мелкий шрифт машинки Рубана, то они бы и на него не наткнулись. Но тут узнать было очень легко. Потому что ещё и, кажется, цвет кальки наводил на это.
Когда они вышли на Рубана, то стали выяснять наши отношения, а оказалось, что никаких отношений нет. Знаю ли я его? Знаю — был такой поэт, иногда приходил ко мне на работу, показывал свои стихи. Очень возможно, что те стихи у меня изъяли. Но больше ничего. Передавал ли он мне что-то? Нет, кроме стихов, ничего не передавал. Соответственно, он тоже не знал, что эта вещь у меня — он не ко мне её принёс. Так что они были очень удивлены и очень искали выход. А потом, когда дело взял в свои руки подполковник Чёрный, то он хотел, чтобы я что-то говорил против этого Рубана. Я рассмеялся и говорю: «Что вы мне предлагаете? Сценарий смешной для меня и глупый. Потому что я не имею ничего к этому человеку — ни доброго, ни злого. Я его мало знаю». — «А вот если я вам скажу, что он и есть автор этой вещи — „Программы коммунистов“?» — Говорю: «Это очень интересно, но не для меня — для вас. А мне это совсем неинтересно. Во-первых, вы знакомы с этой „Программой“, а я с ней не знаком, вы её читали — но я же её не читал». — «Потому что вы не хотели её читать». — «Я и вправду не хотел её читать». Я себе думаю, что был прав, что не читал её. Конечно, это вызвало бы негативные эмоции.
В. Овсиенко: Вам во время следствия предлагали её прочитать, а вы отказались?
Е. Сверстюк: Я отказался. Я сказал, что я к этой вещи не имею никакого отношения, и скажу вам, что коммунистических программ у меня по горло, начиная со средней школы — и до каждого экзамена в университете и в аспирантуре. Так что меня не интересует дальнейшее развитие этого жанра. «Ну так что — вы вообще не интересуетесь коммунизмом?» — «Нет, не интересуюсь». — «И политикой?» — «Политика меня всегда меньше всего интересовала. Словом, я вам могу сказать с уверенностью, что ни одной программы я не читал. Я даже не помню, читал ли ленинскую программу, хотя должен был читать, потому что надо было экзамены сдавать». И это была правда! В какой-то мере это мне облегчало моё внутреннее состояние, потому что надо было максимально освобождать себя от того, что тебе там не нужно.
Я вообще отверг такую линию защиты, которая предусматривала флирт и демонстрацию лояльности: «Раз я уже здесь, под конвоем, то о какой лояльности мы можем говорить, люди? Если вы люди. Что мы можем говорить о каких-то идеях? Это насилие, это штык, конвой — так каких вы слов от меня ждёте? Что я могу иметь с вами общего, кроме конвоя?» Я себе внёс ту ясность и им попытался внести ясность. Им, конечно, это не понравилось.
Думаю, что постижение той ясности и возвращение к молитве мне очень помогло во время пребывания в тюрьме, потому что это пребывание было очень тяжёлым. Это продление срока следствия каждые три месяца. Я вижу, что нечего расследовать, никакого же «следствия» нет. С самого начала я сказал, что это мои самиздатовские вещи, что я их, конечно, распространял, потому что это мои мысли. Для того я их и написал, чтобы давать людям читать, и давал людям читать. А кому именно давал — «Кому угодно, даже вам мог бы дать прочитать». — «Нет-нет, нам надо записать: кому именно, когда и при каких обстоятельствах». Говорю: «Это меня не интересует, это для меня мелочи. Что для вас важно — для меня не важно. Я вам сказал главное — для чего я это писал». — «Ну вот, они же вас напечатали за границей». — «Ну, напечатали за границей». — «Так вы что, не против того, чтобы они напечатали?» — «А они меня не спрашивали, хочу печатать или нет». — «Ну вот, они напечатали — а вы же должны протестовать против этого?» — «А чего это я должен протестовать против этого? Им оно попало, оно ходило в самиздате, попало за границу — это естественный процесс, нельзя закрыться от мира».
Очень допытывались: «А вот у вас такой эпиграф в „Соборе в лесах“ — так это же вами подобранный эпиграф, это же ваши слова или не ваши: „Творцы украинской литературы отдали лучшие силы искусству, не получив за это ни гроша. Если не все они были знакомы с тюрьмами, то все по крайней мере с жандармами. Разве может такую литературу понять человек, который никогда не чувствовал, что такое гражданское мужество и долг совести?“ Это вы написали или нет?» — «Я написал. Кстати, я вам с самого начала сказал, что все вещи, которые я писал, подписаны моей фамилией. Я в подполье не играл, и это мой принцип был — говорить в глаза правду, а не за глаза тихонько, и не в кабаке, а с трибуны». — «Мы это знаем, мы это знаем. Но ведь эпиграф — как будто нарочно написано?» — «Чего же нарочно? Вот вы прочитайте — это было напечатано в журнале». — «Не может быть! Как напечатано?» — «Вы же читали эту книгу или не читали? „Из мыслей Е. Сверстюка о современной украинской литературе“ — здесь есть такой раздел. И здесь есть отрывки из разных статей. Эта статья, из которой взято это высказывание, здесь есть — или по крайней мере фрагмент её из журнала „Жовтень“». Они примирились с этим, тут не подкопаешься. А главное — что я не хочу выступать против публикации и против тех, кто издал эту книгу, что вообще отказываюсь разговаривать на эту тему.
В. Овсиенко: А мне попадалась в руки ваша книжечка. Там было эссе «Собор в лесах» и несколько статей. Такая маленькая, по-моему, зелёного цвета.
Е. Сверстюк: Да, это та самая книга, только издавали её также и в миниатюрном формате, чтобы легко можно было спрятать при перевозке. Она имеет и нормальный формат. Я вам сейчас покажу, в какой форме тогда печатали, и, в частности, некоторые мои вещи. Это примерно размер спичечной коробки — «Обращение Провода ОУН к 25-й годовщине героической смерти Шухевича-Чупрынки».
В. Овсиенко: О Боже, так тут надо под лупой читать!
Е. Сверстюк: Да. Некоторые мои вещи тоже выходили в таком формате, только я их не сохранил. Но я их видел. Тот, что вы видели, был средний.
Те также настаивали, чтобы я дал свою резкую оценку передаче моих вещей по радиостанции «Свобода». Я отказался давать оценку. Я сказал, что слово имеет свободу. Если я не скрываю этого произведения и подписываю его своей фамилией, то как я могу кого-то обвинять за то, что он это использует под моей фамилией? Я не вижу юридического основания для протеста.
В. Овсиенко: Тем более что он не искажает ваш текст?
Е. Сверстюк: Да, он его корректно передаёт. Я не вижу, говорю, юридического основания для таких упрёков, и морального основания тоже я не вижу. Другое дело, выгодно ли это мне в моём нынешнем положении или невыгодно, но это вопрос. Но мы же сейчас говорим о юридической стороне — они это используют как материал, который попал им в руки, и они тут же пишут, кажется, что они это делают без ведома автора, и это правда. Это следователей больше всего беспокоило. Во время следствия мне поменяли следователя: вместо того Баранова (который раньше вёл дело Валентина Мороза) — его прогнали, потому что он какой-то провинциал, а ведёт дело Сверстюка. А это для них дело, на котором кому-то надо схватить звезду. Они признали его бездарным и прогнали. Тогда стал подполковник Чёрный.
В. Овсиенко: А тот Баранов какое звание имел?
Е. Сверстюк: Майор. Чёрный был вышколен и очень, очевидно, надёжный человек, который умел пользоваться разными приёмами. Он не говорил, как Баранов: «Сверстюк, у меня к вам такой-то и такой-то вопрос». Нет, этот не играл в официоз: «Евгений Александрович, добрый день!» — ласково и мирно. Ему разрешено было, конечно. Потом он фактически повторил то же самое, что тот делал, предыдущий, но считалось, что вёл следствие «с начала».
В. Овсиенко: Всё заново?
Е. Сверстюк: Да. Вместе с тем, он сразу мне изложил свою программу действий: «Я вам буду вот об этих материалах задавать вопросы. Я бы хотел, чтобы вы дали объяснения, которые бы служили в вашу пользу. Вот с какой целью вы написали эту вещь — „Собор в лесах“?» — «Если бы вы были литературным критиком, то с какой целью вы пишете статью?» — «Вы знали, что она не будет у нас напечатана, когда писали?» — «Кто его знает, — тут я лукавлю: я, конечно, знал не на все сто процентов. — Один день может быть не напечатана, а на другой день что-то там изменится — и напечатают. Мы уже не раз такое видели. Итак, я не должен был это знать». — «Но ведь здесь есть такие вещи, которые не могут быть напечатаны». — «Какие вещи вы имеете в виду?» — «Вы сами знаете». — «Нет, мы так не будем говорить: я сам знаю, я сам виноват, я сам себя обвиняю. То, что я знаю, то я знаю как правду, я должен был это сказать. Это именно та правда, которую вы считаете неправдой. Итак, конкретно мне покажите, где здесь есть клевета, как вы говорите, и сознательная неправда».
Они копались там очень долго. Их воротит от каждой страницы. Но наткнулись только на такие моменты, как «уже ничего большего депутаты трудящихся УССР создать не смогут». Речь шла о том, что в Чернигове разрушили колокольню Пятницкой церкви, и было постановление, чтобы на её месте построить общественную уборную. Они стали раскапывать: «Откуда вы это взяли?» Я говорю: «Всё то, что я написал, я никогда не писал с уличных слухов. Я пишу на основе документов». — «А какие у вас были документы?» Я себя в то время так настроил на амнезию, на непомнимание и на невспоминание, что не мог вспомнить то, что уже мне нужно было. Откуда я это взял? Что я это взял из очень достоверных источников, это я знал, а откуда? Где-то, может, только через месяц, ещё в разговоре с Барановым, говорю: «Подождите, я это читал в статье в журнале „История СССР“». — «Чья статья?» — «Михаила Брайчевского. В этом журнале есть такая публикация». Он проверил и говорит: «Действительно есть такая публикация». Только меня тут немножко мучило, что я назвал имя автора — но как же ты не назовёшь имени автора, когда ты ссылаешься на журнал? Если уж ссылаешься на публикацию, то не можешь того утаить. Но я думаю: ну что ему может быть, если его в Москве напечатали?
Они, наверное, Брайчевского вызывали, насколько я тогда чувствовал. Очевидно, он должен был тоже дать аргументы, на основании чего это написал. А потом я вспомнил, что я даже занудно допрашивал — мы ходили где-то зимним вечером с Михаилом Брайчевским, и я ему говорил, что использую этот факт, но я хотел бы всё же иметь какую-то документальную основу. «Зачем вам документальная основа, когда у вас есть моя публикация в официальном журнале?» Говорю: «Правильно, тогда с меня достаточно». То есть с ним у меня была договорённость, и тут всё было чисто, хотя вместе с тем немного неприятно, что я же должен сослаться на него.
Они дали оттиск этой статьи к делу и справку от черниговской администрации о том, что общественной уборной не построили.
В. Овсиенко: Даже справку?
Е. Сверстюк: Да. И о том, что такого решения они не нашли среди документов городского Совета. Не нашли. «Ну, и что вы можете сказать?» Говорю: «Что я могу сказать? Конечно, они не нашли. Что же вы думаете — что когда вы их спрашиваете о таком решении, то они вам сразу его найдут и подадут? Они же прекрасно знают, кто их спрашивает и зачем их спрашивает. Ясно, что этого решения нет и уже не будет. А что касается того, построили ли уборную — у вас же никогда не бывает так, что построите, а разрушить — это сразу. Итак, насчёт разрушения, я на все сто гарантирую, что Пятницкая церковь разрушена. А что до постройки уборной даже не дошло — это тоже нормально». На этом этот эпизод исчерпался.
В других случаях они тоже стали придираться. Больше всего их беспокоили такие выражения, как «при этом режиме шёл искусственный отбор по худшему признаку». Они поняли, конечно, выражение «выработался тип человека, который вместо того, чтобы сдерживать истерию, разжигаемую сверху, поддерживал истерию». «Так что, Евгений Александрович, вы скажете, что не говорите конкретно о партии? А о ком же вы говорите, когда речь идёт об „истерии, разжигаемой сверху“?» Я говорю: «Ну, скажем, о мудром вожде и учителе товарище Сталине — разве это не правильно?» — «Ну, не только о нём вы говорите». — «Но и о нём». Вот такой был разговор. После этого они перестали цепляться к отдельным высказываниям, а вынесли общее постановление, что это «документ антисоветский».
В. Овсиенко: Но кто-то же её написал...
Е. Сверстюк: Рецензию Пётр Моргаенко написал. Она есть, в деле приводится полностью. Эта рецензия была взята за основу обвинения. Конечно, у меня были разговоры вокруг этого. Например, с майором: «Вы образованный человек — вам не стыдно это держать в руках, эту кляузу?» — «Нет, — говорит, — для меня достаточно, что это кандидат филологических наук написал. Он имеет официальное звание». — «Но вы же видите, что это пишет человек фальшивый, который подобострастно хочет угодить? Он прекрасно знает, для кого он пишет, прекрасно чувствует тоже, где он фальшивит». — «Нет, я не буду оценивать, я не буду своего мнения об этом высказывать — это для нас официальный документ». То есть он уклонялся от разговора о рецензии, а я как раз больше всего хотел говорить о той рецензии. Но они лишали меня радости говорить на тему литературную и дискутировать. Они всячески от этого открещивались и даже... «Вот, Евгений Александрович», — был такой Нечепоренко — страшно мелкий и туповатый, злой тип, молодой майор. — Сегодня будет очень приятный для вас разговор — о ваших публикациях. Кажется, вы об этом очень любите говорить?» Говорю: «Вы очень ошибаетесь — я с вами вообще об этом не люблю говорить, потому что мои публикации были совсем не для вас. Они имели гораздо лучшего читателя и лучшего ценителя. Говорить в тюремной камере о моих публикациях — это вообще, я считаю, неприлично. О чём тут говорить?» — «Ну, всё же давайте мы перечислим, какие у вас были публикации».
Стали перечислять, а потом я увидел, что они это оформили очень сокращённо: назвали только несколько — «и другие». То есть им было важно показать, что несколько эпизодических публикаций имеет человек, «который именует себя литератором». Они даже где-то формулу взяли: «именующий себя литератором». Когда они эту формулу употребили в отношении меня, то я пожал плечами, а потом это меня очень заело. Где-то в бессонную ночь я стал копаться над ответом, который я им должен всё-таки дать. Литературный ответ, на следующий раз, когда позовут, ведь этот разговор ещё не закончился.
Я им подготовил ответ. Когда они снова к этому вопросу вернулись, я говорю: «Вы знаете, я думал, что эта бурая свинья тогда выскочила через окно да и исчезла — а она, оказалось, пристроилась в КГБ». — «Какая бурая свинья?» — «Гоголевская». — «Да что вы говорите? Какая гоголевская бурая свинья?» — «Ну, эта же бурая свинья, которая кляузу украла, которую писал Иван Иванович на Ивана Никифоровича». — «Что-то вы городите такое — что это такое?» — «А что? Вы просто не знаете, что Николай Васильевич Гоголь написал повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. И там Иван Иванович на Ивана Никифоровича (или наоборот — это уже не существенно) написал: „Иван Никифорович, именующий себя дворянином...“ Эту кляузу он оставил на столе, а бурая свинья заскочила через окно и украла эту кляузу. Я думал, что она пропала, эта кляуза... А наши храбрые майоры Пронины отняли её у бурой свиньи и вот сейчас используют формулы из неё: „именующий себя литератором“ и „именующий себя дворянином“ — немного фантазии надо. Я думал, что она хотя бы эти слова выгрызла зубами». Тогда он покраснел, быстро свернул допрос и больше «именующий себя литератором» и всяких таких шпилек они мне не приносили — решили, что это неблагодарная почва, и на ней они не выиграют.
Какие-то другие моменты были, когда я их отправлял к литературе. Я когда-нибудь об этом напишу рассказ — о том, как они во время второго обыска в апреле 1972 года в моём пальто нашли ампулу с цианистым натрием. И не сообщили мне, что был второй обыск. Это ударило меня страшно — говорю: «Так вы что — ходите-лазите туда каждый день и делаете обыски? Что вы ищете — просто чтобы терроризировать женщин?» — «Ну, это наше дело, это дело, которое имеет соответствующие юридические санкции. Это не так просто делается. Вот ознакомьтесь с протоколом». Но дали ознакомиться с этим протоколом так, чтобы я ничего не успел прочитать.
Однажды приходит тот злой и тупой Нечепоренко. На этот раз он так осторожно сел издалека, на краю стола, чтобы между нами было расстояние больше, чем три метра: «Евгений Александрович, что это такое — вы не можете сказать?» И вынимает из-под стола, держит на столе, но не поднимает, чтобы я не выхватил из рук — хотя я не могу на таком расстоянии, но всё равно он снова держит под столом: «Что это такое?» А я тогда без очков ещё был, видел хорошо. Я говорю: «Какая-то ампула». — «Это мы у вас во время обыска нашли. Не помните, что это за ампула?» — «Насколько я помню, это яд». — «А какой яд?» — «Это неважно, какой — какой-то яд». — «А откуда он у вас?» — «Ну, был такой у меня — я же не ожидал, что вы такие вездесущие и всепроникающие, что и там найдёте». — «А где вы её держали?» — «Я уже не помню, где-то держал — положил и где-то лежала». — «А зачем она вам понадобилась?» — «Это не так просто объяснить вам, зачем она. Это опять же литературная деталь, которая проходит через многие романы и драмы, в частности, через „Фауста“. Помните, когда на Пасху Фауст подносит чашу с ядом?» — «Да что вы мне про Фауста?! Зачем мне Фауст?» — «Ну, как зачем вам Фауст? Вам, может, Фауст и не нужен, но мне нужен. Как же я без Фауста — раз я его цитирую, то это часть моей жизни. Значит, я тоже там присутствую. Раз Фауст имеет чашу с ядом, то почему Сверстюку не иметь ампулу с ядом?» — «Не понимаю. А зачем тот Фауст имел?» — «Фауст услышал Пасхальные колокола, и это его отклонило от того, чтобы выпить чашу с ядом. Голос жизни победил. А выпить он хотел не потому, что он встретился с такими, как вы. Он был не перед лицом полиции, а перед лицом мировой скорби, разлитой во Вселенной». — «Да нам та литература не нужна — вы же не Фауст! Вы нам расскажите, зачем вам это понадобилось?» Говорю: «Я всё уже рассказал. Если вам это ничего не говорит, то я уже объяснить не могу».
Они это растянули на несколько допросов. Я им ещё вспомнил Кнута Гамсуна и доктора Нагеля из «Мистерий», который тоже имел яд. И что каждый студент когда-то имел яд, или черепа по крайней мере имел — того самого черепа, говорю, что в «Гамлете». «Да что вы то Фауста, то Гамлета нам? Зачем нам это сдалось?» — «Ну, если вам это не сдалось, то закройте это дело — я вам не смогу доходчиво объяснить». — «Откуда вы это взяли? Вот это нас интересует: кто вам дал?» Я тут выдумал версию, что я был у одного моего приятеля, тяжело больного, и увидел у него эту ампулу, спросил его, что это. Он сказал мне, что это яд. Я её забрал с собой — вот и всё. Они не поверили этому: «А как его фамилия?» — «Он мне не давал полномочий рассказывать об этом». — «Итак, вы не скажете?» — «Не только не скажу — я не могу этого сказать, не имею права». Они вокруг этого много крутили. Была экспертиза, они определили, что одной этой ампулы хватит на 17 или 18 человек. У одного из них проскочила мысль, что можно было бы коровью ферму в колхозе отравить, и он говорит: «Но при чём тут это — вы же к ферме не имеете отношения?» — «Нет, если бы я имел отношение к коровьей ферме, я подумал бы не о яде, а о пастбище — там не хватает, как правило, пастбища и соломы». На этом допросы об этом яде закончились. Им очень был нужен «уголовный материал», но не смогли сделать, оно расплылось.
Уголовный материал они хотели сделать из одного моего высказывания. Когда о Нуделе или о ком-то другом говорили, я сказал: «Вы все одинаковые шулеры. Что этот негодяй, которого вы приводили, что вы — у вас один общий язык. О чём вы можете со мной разговаривать?» — «Вы оскорбляете следствие! Вы прокуратуру оскорбляете! Мы против вас возбудим отдельное дело». — «Вот как раз будет замечательно, если вы против меня возбудите отдельное дело — вот тут-то я скажу, кто вы такие и до чего вы опускаетесь. Вы всё же должны держаться прилично, когда разговариваете с приличными людьми». — «Вы слишком много о себе думаете!» И так далее. Вот такие были самые острые моменты.
Помню, иногда так, как прибитый пёс, который задумчиво волочит хвостом, заглянет Пархоменко: «Нет ли закурить?» Следователь, конечно: «Прошу, очень прошу!» Даёт ему закурить, а он оглянется кругом и идёт себе. Такое впечатление, что он нигде не мог закурить, только здесь надыбал. Но никогда не разговаривал. Он всегда избегал разговора по существу. А он был как раз из тех, которые не вникали в такие мелочи, какая машинистка печатала. Потому что те меня спрашивали, какая мне машинистка печатала. Я говорил: «Так что вы хотите — чтобы я вам девушек называл, которые мне печатали? Как вам не стыдно задавать такие вопросы?»
Но однажды Пархоменко вызвал меня и таки поговорил по существу: «Мне странно, что вы не делаете ничего для того, чтобы всё же иметь какую-то защиту. Вас с такой позицией защищать очень трудно. Такое впечатление, что будто мы здесь виноваты — мы виноваты, а не вы виноваты». А я говорю: «А что же вы думаете — что вы не виноваты?» — «То есть как — вы хотите нас здесь обвинять?» — «Это было бы немного странно, если бы я вас здесь обвинял. Здесь есть стул для того, чтобы вы меня обвиняли. Но дело в том, что на том стуле уже сидели также ваши предшественники. Они уже обвинены и уже получили от той же партии, от которой вы получаете инструкции. Они уже тоже по инструкции той же партии обвинены и осуждены». — «Итак, вы думаете, что и нас будут судить — так?» — «Я думаю, что так». — «А когда же это будет?» И смотрит с большим интересом. Я говорю: «Я не пророк, чтобы угадывать и гадать. Это будет наверняка — может, лет через десять, может через пятнадцать». — «Ха-ха-ха! — так он на радостях. — Через десять, через пятнадцать лет!» На этом мы с ним закончили разговор.
В. Овсиенко: Мой следователь Николай Павлович Цимох в подобном разговоре сказал так: «Ничего, наше дело нас переживёт!» То есть, мы ещё поумираем — только тогда будут судить.
Е. Сверстюк: «Наше дело нас переживёт?»
В. Овсиенко: Да, очень просто. Что за это будут отвечать его потомки до седьмого колена — он не заботился.
Е. Сверстюк: Это совершенно ясно, что там о моральной почве не могло быть и речи. Прокурор Погорелый — это такая ничтожность по сравнению даже со следователями, с кагэбэшниками: «У вас антисоветские взгляды во всём! Вы считаете, что в основе морали лежит религия?» — «А как вы считаете, что лежит в основе морали?» — «Ну, это же как раз и есть ваши взгляды, и в ваших вопросах ваши взгляды. Так это же антисоветские взгляды!» Я подумал себе: он прав — это действительно антисоветские взгляды. Хотя это вроде бы и не подследственные дела, но я фактически имею дело с философией марксизма — как всегда имел. Все вещи, которые я написал, конечно, являются антикоммунистическими не в смысле плакатности, а в смысле философии. Они в основе своей антикоммунистические. Этот ханурик говорит о каком-то моём антикоммунистическом тезисе или о том, что социализм есть наёмное рабство... Была такая брошюра Каутского в 1919 году — «Социализм и наёмное рабство». Я настаивал на том, что я читал у Ленина об этой брошюре, а он говорил, что я читал самого Каутского. Он был прав: я читал самого Каутского в украинском переводе. Но Ленин писал о ней в своей манере — в своей такой хитрой, коварной и дьявольской манере — прикрыть хвостом весь фактаж и оставить одну только брань в адрес Каутского. У меня был какой-то фактаж из самого произведения.
В. Овсиенко: Так что он вас тут разоблачил?
Е. Сверстюк: Да, он угадал, что осведомлённость моя гораздо больше того, что я изображаю. Потом некоторые вещи Донцова, в частности, «Поэтесса украинского Рисорджименто» о Дон Кихоте. Я говорил, что вообще собирал все материалы о Дон Кихоте, потому что исследовал этот вопрос. «А где, для чего вы это исследовали?» — «Знаете, это очень трудно вам понять, для чего я это исследовал — это моя проблематика, не ваша».
В. Овсиенко: Может, «с целью подрыва и ослабления советской власти»?
Е. Сверстюк: Конечно. Сначала они хотели, чтобы я дал им целый список материалов о Дон Кихоте. Я им за пять минут дал букет этой литературы. Они увидели: что же это они будут сходить со мной на литературную тему, когда им нужны обвинения? И они это отбросили, оставили: «Хранил и прятал у себя статьи националиста Донцова».
Ещё я мог бы сказать о таком дерзком моменте — моих переговорах с Василием Стусом. Это было в первую половину года нашего ареста. Когда я разговаривал с ним в той камере, что выходит на юг, на дворики. Или не на юг, но во всяком случае на Святую Софию.
В. Овсиенко: Дворики для прогулки там под восточной стеной тюрьмы.
Е. Сверстюк: Да. А Василь там кашлял — он всегда этим своим демонстративным «ахы-гм-гм!» — и все знали, что это Василь...
В. Овсиенко: А звук оттуда, снизу, — как из колодца.
Е. Сверстюк: Отсюда слышно очень хорошо. Я сказал: «Василий» или он сказал: «Евгений...» Я уже не помню, кто первый сказал. И был у нас разговор... Конечно, мы чувствовали, что это разговор при свидетелях. Во-первых, мой стукач, который со мной в камере, всё это донесёт — это было ясно. Во-вторых, тот конвоир, который стоит над Василием. Но конвоир молчал, почему-то он дал нам разговаривать. Мы поговорили, может, минут пятнадцать.
В. Овсиенко: Так им надо было зафиксировать этот разговор.
Е. Сверстюк: Я думал, что им надо было зафиксировать. А потом я узнал, что того конвоира уволили. А это был какой-то шаромыга с Орловщины, такой белобрысый. Я даже знал его фамилию. Он относился к этому делу как человек пришлый — для наших холуёв он, конечно, «старший брат». А сам он подумал: «Да начхать мне на вас и на ваши дела — я где-то устроюсь». Они его уволили. А мне он дал понять: «Я вам дал поговорить — что же вы кричите так, что на Крещатике слышно?» Я говорю: «Попробуй отрегулируй голос — разве я знаю, как там, слышно ему или не слышно?»
Что меня тогда спрашивал Василь? Он меня спрашивал, как у меня дело с приговором. Я ему сказал, что я до сих пор не знаю, в чём меня обвиняют. Он мне сказал, что мои вещи проходят как антисоветские в его деле. Итак, за них и обвиняют. Мне ещё не говорили, что за них обвиняют, а ему уже сказали. Он спросил, есть ли у меня уже «бумага». Я не понял, что это такое. Он мне объяснил, что это обвинительное заключение. У него уже была эта «бумага». С ним очень быстро рассчитались, где-то за полгода...
В. Овсиенко: 7 сентября его осудили.
Е. Сверстюк: Быстро они его дело закончили, а потом, уже осенью, я пробовал с ним снова связаться. Когда меня перебрасывали в разные камеры, я кричал: «Базилеос!» Никакого голоса и никакого кашля. И это было не раз. А мой стукач, который был со мной, не мог понять, что я говорю и к кому. Он подумал, что я просто так уже завыл. Но однажды я крикнул «Базилеос!» и думаю: что же всё время кричать — если бы он был, то отозвался бы. Из другой камеры снова отзываюсь — и ни разу он не пошёл на связь. Я думаю, что он слышал: «Этот твой голос, как ржание» — это в его стихах и в его письмах. Это касалось как раз этих моих позывных. Но он был в каком-то таком состоянии, под таким прессом, что не мог откликаться. Ну, а остановил это прокурор. Вызвал меня и сказал: «Тут есть акт о нарушении режима. Вы лишаетесь очередной передачи». Где-то тогда Лиля принесла мне передачу, а её отправили назад.
В. Овсиенко: Там во время следствия можно было передачу ежемесячно получать?
Е. Сверстюк: Да, ежемесячно передавали. Я писал какие-то там жалобы, что это не доказано, — но что тут доказывать?
Идеологические диагносты и следователи всегда хотели установить, что привело к антисоветским настроениям.
В. Овсиенко: У меня они докопались до биографии дяди — не влиял ли он на меня. Даже копию его приговора — на два листочка — положили в моё дело 1973 года. Оттуда я и узнал, за что его репрессировали. Однажды — при немецкой оккупации — он с винтовкой сопровождал подводу из Ставков в Радомышль, а второй раз его видели возле управы с оружием. Хотя после этого он пошёл в Красную Армию, воевал до конца войны, но в 1948 году получил 25 лет. Помню, как он вернулся где-то в 1954 году — невероятно тощий. Об этом в семье не разговаривали. А что они могли у вас установить?
Е. Сверстюк: Наверное, они без раздумий всё отнесли на счёт моего происхождения (родом с Волыни, родители зажиточные, сыновья в УПА). Но сколько же я знаю волынян с такой же биографией — лояльных, как овцы! Конечно же, семья и среда влияют. Но у меня было неприятие большевизма активное, на уровне эстетическом, этическом, религиозном и философском. Культурный примитивизм вождей в кепках и сапогах, серый язык и беспросветная ложь и фальшь во всём, хамский стиль нетерпимости ко всем, кто не разделяет их вкусов, непристойное самохвальство и глупая гордыня. Но особенно угнетал меня примитивный материалистический подход к глубоким тайнам жизни и человеческой души. Об этой плоскости и бесчестии коммунистов крестьяне говорили: «Испортили они нам жизнь, и весь мир хотят испортить».
СУД
Потом суд. Адвокат мой был совсем какой-то деморализованный. Несколько встреч со мной — ему было интересно познакомиться с этими материалами. Он их не понимал. А потом похвастался, что уже понимает. Словом, ему было интересно это прочитать. У него не было голоса против следователя. Фактически, следователь с ним вёл себя так, как волк с ягнёнком. Тут я вижу просто несоизмеримость лиц и полномочий. Следователь — Чёрный, подполковник, который зубы съел на перемалывании слабых. Но у меня было время между вызовами на допросы — иногда неделями. Я написал последнее слово. Потом я его переписал — на всякий случай. Думаю себе: если у меня есть адвокат, то больше он ни на что не годится, как на то, чтобы передать моё последнее слово. Если поймают — то поймают, что тут такого? Я же не пишу прокламаций — я пишу то, что собираюсь прочитать на суде.
Я это сделал очень осторожно. У него была со мной встреча там же, в тюрьме, в отдельной камере. Поскольку меня вызывали не на следствие, а в соседнюю камеру, то не очень обыскивали — так формально общупали. Тогда адвокат сказал: «Ну как вы представляете — как вас можно защищать?» Говорю: «Я не знаю. Я себе даже не представляю роли адвоката в этом процессе. Кстати, вы мою жену можете видеть или нет?» — «Ну почему же — могу видеть, конечно». — «Вы можете передать ей привет?» И тихонько вынимаю и передаю ему эту бумагу, так чтобы подслушка зафиксировала только разговор и больше ничего. Он говорит: «Я, конечно, передам привет». — «Ну так скажете ей, что дело находится в таком-то состоянии, что я ей передаю привет». И всё.
В. Овсиенко: И он это сделал?
Е. Сверстюк: Он это сделал. Я думал себе, обыскивают ли его. Я почему-то думал, что тут каждую мышь обыскивают и что даже адвоката обыскивают — такое там впечатление у меня сложилось. Но на трезвый ум, конечно, адвоката не могут обыскивать — разве что имеют на 100% уверенность.
В. Овсиенко: А его фамилию вы можете назвать?
Е. Сверстюк: Михайлюк, кажется. Нет, Михайлик.
В. Овсиенко: Так ведь известно, что в КГБ был определённый список адвокатов, которые допускались к политическим делам.
Е. Сверстюк: Да, это известно. После какого-то моего выступления, уже в перестроечные годы, ко мне подошёл человек, который сказал, что он тоже был таким юристом. Я его спросил, знал ли он Михайлика. Говорит: «Знал. Это был очень хороший и мягкой души человек». — «Вот я через него передал жене последнее слово». — «Ну, его уже нет в живых». Я не буду больше на нём останавливаться — как личность он мало интересен. Он и не мог быть интересен в условиях, где нас подслушивают — это совершенно понятно. Но он добросовестно выполнил единственное дело, потому что во всём остальном не мог. Например, пробовал отстаивать тот факт, что «Программы» я не читал, потому что конверт был заклеен, но следователь это смял: «Да что вы там говорите? Сами не знаете, что говорите».
В. Овсиенко: Это судья?
Е. Сверстюк: Следователь, следователь. Это ещё на стадии следствия. А судья уже очень пренебрежительно отнёсся к адвокату, когда увидел, что в таком элементарном деле, как отстоять целостность конверта, он тоже был неспособен.
В. Овсиенко: А суд тот когда был и кто вас судил?
Е. Сверстюк: Суд у меня должен был быть на неделю раньше. Но этот бедный Михайлик сбежал. Когда уже все собрались и меня привезли, ждут адвоката — адвоката нет. Выяснили, что его нет в Киеве. А он, наверное, решил, что разве это годится — защищать? Так он на всякий случай сбежал. Они его за неделю разыскали, привели. И надо же было, чтобы это случилось как раз на Страстную неделю 1973 года! Неделю перед Пасхой длился суд. В двадцатых числах апреля.
В. Овсиенко: Это тогда, в 1973 году вы слышали голос Стуса? Нет, наверное, вы слышали его на Пасху 1972 года: «Какое небо!»
Е. Сверстюк: «Господи, какое небо!» Это было немного перед тем, как мы с ним переговаривались, но в 1972 году.
На оглашении приговора я посмотрел — Лиля в углу зала. Там полно каких-то лиц...
В. Овсиенко: Весь процесс жена присутствовала или нет?
Е. Сверстюк: Нет, по-моему, только на оглашении приговора. Они очень долго читали обвинение, потом оно повторялось. Я отвернулся плечами от суда и смотрел на Лилю — и соответственно, на эти лица. Они мне сделали замечание, но убедились, что из этого ничего не выйдет. И сделали вид, что не замечают этого. Они говорили, что я презираю суд, говорили, куда смотреть, но увидели, что усложнят себе дело, так что лучше перетерпеть это.
Судил меня судья Дышель. Прокурор был Погорелый. А следователь, который, правда, на суде не фигурировал, но ведь фигурировала его работа — это подполковник Чёрный. Итак, Чёрный, Погорелый и Дышель — такая тройка.
В. Овсиенко: Такие страшненькие фамилии...
Е. Сверстюк: Дышель однажды сказал мне: «Тут недавно сидел Стус, на той же скамье — но разве он так себя вёл? Он просил, плакал!» Тут я рассмеялся. Это у них такая стандартная примочка, у этих крыс судейских, чтобы привести «положительный пример». Я себе представил, как перед этим петушком Стус плакал...
И ещё он сказал, что вот тут стихи — так разве это стихи? Разве это настоящие стихи? Такова была его оценка книги стихов Стуса. Я думаю, что эта его оценка была искренней, потому что он там ничего не понял.
В. Овсиенко: Интересно, кого они вызывали к вам в качестве свидетелей в суд? Арестованных вызывали?
Е. Сверстюк: Вызывали Наденьку.
В. Овсиенко: Светличная была под арестом с 18 мая 1972 года.
Е. Сверстюк: Конечно, Ивана Светличного не вызывали. Вызывали Леонида Селезненко. Мне кажется, вызывали на следствие. На суд вызывали учителей и директоров с Волыни, которые должны были засвидетельствовать моё выступление в 1965 году перед руководящим составом работников образования Волынской области. Вызывали Григория Порфирьевича Кочура. Он имел неосторожность признаться, что читал «Собор в лесах». Я действительно через него передавал рукопись в редакцию «Вітчизни», и ему казалось, что такой факт, как передача в редакцию, не является уголовным преступлением.
Итак, бедный Григорий Порфирьевич, конечно, свидетельствовал интеллигентно о том, что при других условиях мы должны были бы не здесь встречаться со Сверстюком, не в этом зале, не при вас. Тут ему вынесли «особое определение». Я думаю, что это было запланировано, на каком-то из судилищ они должны были ему вынести это определение, потому что они его особенно ненавидели. Насколько я знаю, его и Светличного почему-то. Их генерал Федорчук хотел бы «вешать на одной ветке». Итак, Григорий Порфирьевич очень корректно и так деликатно рассказал, без тонкостей, которые были нужны для следственного дознания. Скажем, ему было бы очень выгодно сказать, и я даже наводил его своими вопросами на это, что это было в то время, когда эти вещи печатались, что он просто отнёс работу своего коллеги в редакцию журнала, где я в то время публиковался и куда часто заходил. И ознакомился с произведением. Словом, как-то так будто легче, если это сказать.
Но эти старшие люди, поколение Антоненко-Давидовича, не умеют так гибко выкручиваться и не умеют так диалектически выдумывать правдоподобности — вместо правды. А если человек говорит на таком суде или на следствии правду, то ясное дело, что он впутывает других и даёт возможность себя запутать. Факт за фактом, факт вытекает из факта. А тут должно быть что-то обтекаемое, что давало бы в результате ноль. Собственно, только на таких операциях удавалось выигрывать там, где они надеялись, что имеют уже что-то в своих руках. Как в том случае с ядом: они же очень просто могли бы выйти на кандидата химических наук... Если бы с моей стороны была дубовая игра, то просто вышли бы на Селезненко, который был тут же у них в руках, хотя вроде бы работал с ними, но... А это же подсудное дело — яд. Если ты не даёшь квалификации, если ты не называешь, что «какой-то яд», неизвестно откуда, неизвестно зачем — то этого никуда не пришьёшь.
А вообще мне кажется, я во многих моментах допускал ошибки. Мне кажется, что я зря подписывал протоколы. Василь Стус был более прав, что вообще не подписывал многих протоколов. Это для внутреннего удовлетворения, потому что уже сейчас, глядя с расстояния времени, всё имеет другие измерения и другие оценки. Скажем, оказалось, что получить 12 лет — это намного лучше, чем получить 8 лет. Но кто тогда мог об этом думать?
УРАЛ
А вообще меня выпустили не просто с самым большим сроком — меня выпустили с самыми большими предостережениями и злыми инструкциями. И об этом меня предупреждал следователь Чёрный. Мол, это ещё не всё: можно сидеть, и сидеть — по-разному. Не всё зависит от лет — по-разному будет складываться «режим».
И действительно, я это почувствовал с самого начала. Мне не дали даже мешка на дорогу. Какой-то белый мешок из-под сахара мне дал мой стукач, который был со мной в камере. Я с ним и поехал. В то время как Лиля принесла перед этапом приготовленный рюкзак, мне его просто не дали. Ей сказали, что я уже уехал. Этот мешок обыскали в КГБ и вернули назад. А потом вся моя дорога была обеспечена провокациями — очень грубыми, брутальными, сведениями с уголовниками, которые играли «своих» или нарывались на конфликт.
Ну, а там дальше — я уже это понял осенью 1973 года, это было после появления «покаянного» заявления Ивана Дзюбы, — была настолько злая травля, что производила впечатление не только на меня, а на весь лагерь, даже на таких стреляных зэков, как Макаренко, который говорил: «Ну убивают человека на глазах!» Всё это делалось перед появлением кагэбэшников, которые должны были приехать, чтобы соответственно тебя подготовить... Конечно, это вызвало противоположную реакцию.
Но постепенно в лагере стало складываться всё не так, как они планировали. Началось движение за статус политзаключённого, начались у них лагерные проблемы, которые надо было решать. Моя позиция в лагере была постоянно активной в смысле участия в голодовках, во всяких массовых акциях, в постоянном противостоянии администрации. И, вместе с тем, я никогда не был инициатором каких-то внутрилагерных конфликтов с администрацией. Словом, я не ставил себе целью воевать с солдатами и с майорами. Я с ними не общался. У меня могло быть такое: я не поздоровался и прошёл мимо, не обратил внимания на начальника лагеря Котова. Он меня догоняет: «Сверстюк, а почему вы не здороваетесь? Вы думаете, что от этого будет польза самостийной Украине?» — «Я просто не думаю, что это очень нужно великой России, чтобы я с вами здоровался». Такими любезностями мы обменялись с, так сказать, полным взаимопониманием. Больше он со мной лично не общался, но ясное дело, что всё время подписывал карцер и лишение чего-то — не потому, что лично от него что-то зависело. Всё зависело от кагэбэшников, от их планов. Можно было совершить какие-то удивительные нарушения, но если не велено тебя трогать, то не тронут. И наоборот, можно было просто ходить, как птичка, а где-то на каком-то шагу тебя подстерегут, напишут и лишат свидания с женой, которая уже приехала.
Итак, меня в лагере предупредил кагэбэшник-латыш Кронберг — он был довольно откровенен по сравнению с другими. Он почти с сочувствием смотрел на меня, этот человек. Он сказал: «Вам записано пройти все круги ада». То есть он выдал мне карты. Но я не был во Владимире. Хоть и записано было пройти, но в лагере всё развивается своим чередом — они во Владимирскую тюрьму начали возить «смутьянов», тех, кто встал на статус политического заключённого. Даже было такое время — не в семьдесят седьмом ли году, — когда я шёл ва-банк, когда почувствовал, что не я им сейчас нужен, когда объявил: «А тут останетесь с одними „суками“». Кагэбэшник залепетал: «Нет-нет-нет, нам этого не надо, вы зря, мы вернём ваше свидание, мы вам вернём». И вернули свидание. Мне очень жаль, что я никогда не смогу воспроизвести того, что я ему говорил — у меня бывали такие импровизации, за которые я бы очень много отдал: они и меня, и его ошеломляли. В частности, когда Крыжановский приезжал, была такая импровизация.
В. Овсиенко: Крыжановский — кто это?
Е. Сверстюк: Степан Крыжановский — литературный критик, который приезжал на встречу со мной.
В. Овсиенко: Вот как?
Е. Сверстюк: Да. Собственно, я говорю, что на встречу со мной, а он приезжал в 35-ю зону, когда меня туда перебросили, когда Светличного дёрнули на 36-ю — Светличного, Марченко, Калинца и Глузмана.
В. Овсиенко: А вы помните хронологию, когда в какой зоне были?
Е. Сверстюк: Я был всё время в этой самой паршивой, самой гнилой 36-й зоне от начала до конца. Она всегда была «особой».
В. Овсиенко: Это в Кучино?
Е. Сверстюк: Да, в Кучино. А весной, наверное, в феврале 1978-го, меня перебросили в 35-ю. Вплоть до осени 1978 года — фактически на полгода. Но я почувствовал, будто я на курорте. Хотя я там два месяца просидел в ПКТ — но всё равно я считаю, что побывал на курорте: настолько и природа, и режим, и вода, и питание — настолько всё отличалось, что я даже сравнить не могу.
В. Овсиенко: Там климат другой, 35-я зона, на станции Всехсвятская, стоит выше, а в Кучино, возле реки Чусовой, — болото, и вода ржавая, вонючая.
Е. Сверстюк: Также и психологический климат. Они уже знали моё высказывание, потому что когда меня привезли назад, то сказали: «Ну что, побывали на курорте?» Кто-то уже донёс о моей оценке 35-й зоны. Меня тут сразу встретили в штыки, сразу: «Почему вы украли этот мешок?» А дело в том, что я приехал с зелёным мешком — из такого же материала на тридцать пятой шили сумки для бензопил и, кажется, рукавицы. Где-то он у меня и до сих пор есть, этот мешок. Я говорю: «Капитан, мне кажется, что вы перепутали меня с кем-то. Вы себе позволяете говорить со мной, как со своим коллегой: „Вы украли“. Почему вы думаете, что я мог украсть?» — «Потому что там из такого материала вы шили». — «А вот вы спросите у майора Фёдорова, как через него был передан мне этот мешок уже после того, как ваши прохвосты отправили меня на этап с белым мешочком. А потом мне привезли на свидание этот мешок». Майор Фёдоров посмотрел на этот мешок — конечно, узнал. Что-что, а мешок он узнает. На этот раз он не врал, потому что он же мог бы сыграть под «прохвоста». Но у них не было задачи «шить» мне что-то такое постороннее — у них вполне достаточно было против меня более важного.
Дело в том, что у меня была поэма «Колокола», которая была перехвачена ими из-за нашей наивности в лагере: мы через ментов передавали материалы — дошли до такой наивности. Там один был действительно такой, через которого что-то было передано и ушло. И каждый из нас проявлял такую же наивность — и Глузман, и Ковалёв...
В. Овсиенко: Паруйр Айрикян получил пять лет уголовного за подобные дела — что через мента пытался что-то передать на волю.
Е. Сверстюк: Конечно, за это можно было дать, если передавал что-то очень важное. Но в то время у них была другая игра: меня надо было выпускать, у меня заканчивался срок. Перед самым окончанием срока меня взяли назад на 36-ю зону и создали мне режим как можно более жёсткий. Но планировалось выпустить в ссылку.
ЭТАП
Наконец зимой — это уже было в декабре 1978 года — меня взяли из зоны на этап. В январе 1979-го закончился мой семилетний срок. Меня ждал майор Фёдоров, начальник лагеря и компания. Ведут меня в парикмахерскую: «Постричь!» Каждого зэка перед освобождением, так сказать, подготавливали, чтобы он более-менее был похож на человека...
В. Овсиенко: Да, три месяца перед освобождением не стригли.
Е. Сверстюк: А меня перед этапом вдруг — «постричь». И все смотрят, будет ли шок, будет ли инфаркт. Я, конечно, побледнел и на минутку задумался, а потом спокойно сел, закусил губы, меня постригли и отвели в карцер — «15 суток». Без объяснения причин. Это за ту передачу, за поэму «Колокола». А позже — кажется, уже в Перми на этапе, — меня вызвали. Там был и чин из прокуратуры, и следователь, и ещё какие-то типы заглядывали мне в глаза и спрашивали, что это такое, знаю ли я, что это. Я спросил: «Что вам надо?» — «Нам надо, чтобы вы подписались, что ознакомлены с этим делом. Это ваша поэма, а это её русский перевод „Колокола“. Это вам последний звоночек». Я говорю: «Ну, что ж, я не против вернуться назад в лагерь». — «Нет-нет-нет, вы поедете в ссылку. Вы ещё получите своё». Таким образом, я подписался. Представляете себе, как я их ошеломил тем, что подписался? Я фактически признал, что это моя вещь, вместо того чтобы открещиваться. Я сам не могу понять: текст не моим почерком был написан, но это моя вещь, и я подписался.
В. Овсиенко: Это был литературный перевод или подстрочник?
Е. Сверстюк: Я думаю, что подстрочник, конечно. Но мне и оригинал показали в папке «Дело». Я не могу сейчас вспомнить, какой был номер. Но я понял, что это был серьёзный разговор.
На этапе меня везли в Иркутск с Олесем Сергиенко. С Сергиенко мы не контактировали и на воле — он допустил шаги и в отношении матери, и в отношении меня настолько брутальные, что я не считаю возможным это даже рассказывать. Но в лагере, когда я увидел его, то сказал: «Между нами ничего не было — в лагере все украинцы должны держаться вместе. У нас нет роскоши на выяснение отношений». Таким образом, мы были нейтральны друг к другу.
Помню на этапе такой момент. Нас ведут вместе, я несу два чемоданчика со своими книгами, а какие-то там конвоиры спрашивают: «Что это у вас такое?» — «Книги». — «Ого! А куда вы?» — «В ссылку». — «В ссылку? Как Ленин?» Я говорю: «Ленин? А кто такой Ленин?» Они ошарашенно смотрят друг на друга. И Сергиенко говорит: «Ну зачем их так дразнить?» А я не дразнил — просто был непринуждённый разговор.
В. Овсиенко: А Оксана Яковлевна вспоминала, что когда её везли этапом после вас, то она вела себя уж очень плохо, и ей ставили в пример: «Тут один такой проезжал, как-то на „С“, как-то на „С...“» — «Сверстюк?» — «Да-да, Сверстюк!» Этот эпизод есть в её автобиографическом рассказе Василию Скрипке — что вы, оказывается, очень хорошо вели себя на этапе, раз вас там помнили.
Е. Сверстюк: Ну, а разве это плохо? Это совсем неплохо, просто удивлённо спросил, что это ещё за Ленин шнырял тут по этапам передо мной.
Потом мне устроили очень интересные экзамены, уже в Улан-Удэ. Во-первых, Улан-Удэ — это место, хорошо пристрелянное. Там был этот известный чудак-физик Александр Болонкин, его из Багдарина взяли. Его там поймали на подработках...
В. Овсиенко: На «частном предпринимательстве» — утюги ремонтировал людям.
Е. Сверстюк: Нет-нет-нет, он ремонтировал телевизоры. Он очень хороший специалист.
В. Овсиенко: Конечно же — доктор технических наук!
Е. Сверстюк: Кроме того, он смекалистый. Но он думал, что ему можно то, что и другим. Люди что-то там платят за ремонт, а он должен был только квитанции выписывать и больше ничего. Он был такой наивный, что брал то, что ему давали. Потому что все же берут, и он думал, что и он такой, как все. Тут ему сразу подсунули нескольких стукачей, которые засвидетельствовали, что давали ему деньги — и ему дали три года, а потом — «раскрутку».
Именно в это место послали меня, потому что там есть всё готовое — нагретое место.
В этапных тюрьмах я напоминал, что они не имеют права меня держать дольше, чем 15 суток, я писал прокурору письмо — и это действовало: они хотели избавиться от такого.
В. Овсиенко: Срок вашего заключения закончился на этапе?
Е. Сверстюк: Да. Там я написал маме стихотворение, которое никогда не высылал — «Круг последний в той яме повторений». А в Улан-Удэ мне запланировали что-то вроде 15 суток карцера. Меня надолго задержали. Они думали, что для них нет никаких границ, но поняли, что я осведомлён о правилах. Меня поселили с двумя уголовниками. Оба хищные, особенно молодой. Я понял, что им было нужно, потому что уже позже начальник милиции спросил у меня: «Как вам удалось избежать конфликта с ними?» Итак, он знал. А они ждали-ждали, что там будет конфликт. Я там был в условиях худших, чем когда-либо: мне не дали белья, у меня был лишь грязный, засаленный и вонючий матрас, мне давали сожжённую простыню, которую я отказался брать. На любом этапе я добивался, чтобы выдали простыню, а тут ничего не действовало. Итак, я отсидел с теми парнями, и они на прощание мне даже подарили иконку.
В. Овсиенко: Это вы побыли как в клетке со львами.
Е. Сверстюк: Да. Во-первых, этого молодого я стал воспитывать. Ему, мальчику, 19 лет, а он уже хищный, он раздевает кого попало из зэков, и этого не скрывает. Я подчёркнуто, как педагог, на «Вы». Говорю ему: «Вы только начинаете жизнь, и вам не надо втягиваться. Вам кажется, что так легче, но это без конца — это на всю жизнь. Вы попробуйте сейчас ещё выйти отсюда». Я ему рассказывал как учитель. Я говорил даже: «Имейте в виду, что я с вами говорю примерно так, как следователь, только у меня цели не следователя. Я вам могу сказать, чего он хочет от вас, на что он рассчитывает и что бы вам могло помочь». Им было интересно со мной, и мы очень хорошо расстались, так что они не только ничего не отобрали, а когда я ещё достал какую-то открытку, «клипуху» подарил им, говоря: «Может, это вам пригодится, ребята?» — «Да что вы!» И аж запели — это был для них такой клад! Хорошо, что я им отдал. Как-то зашла речь о том, что у меня же ничего нет. — «Ну, что там, грабить всегда можно».
Словом, были у меня такие приключения. Было у меня на этапе ещё одно странное приключение. В Иркутске я увидел, когда нас сгоняли с воронка, что где-то там, далеко на холме, кого-то тащат. С него сползли штаны, голым его тащат по снегу. Когда нас на проверке спросили: «Вопросы есть?», то я сказал перед всем этапом: «Есть вопрос». И в таком стиле, к которому мы привыкли в лагере, я им выпалил свои претензии к тому, что они издеваются над людьми. Что они настолько брутальны, что они даже свидетелей не боятся. Что они очень ошибаются, если думают, что это им сойдёт безнаказанно. «А ты кто такой?» Я говорю: «Во-первых, я не „ты“». — «Политический? Ну, давай-давай, в ООН напиши!» Говорю: «В ООН или не в ООН, а ваш прокурор вас возьмёт „к ногтю“». И вот когда меня бросили в толпу, то они уже совсем по-другому смотрели на меня — как на белую ворону. Я с ними был всего сутки. «Так что тебе — жалко? Так отдай свои штаны!» А у меня были запасные, я достал их из чемодана и дал, чтобы передали тому несчастному.
И последний спектакль. Когда я написал о том, что они не имеют права держать меня на этапе дольше, тут же приходит конвой и ведёт меня на тюремную вахту. Там какой-то начальник. Я требую от того начальника, чтобы мне вернули иконку, которую они взяли у меня во время обыска. Он со мной говорит на грязном тюремном языке: «Что вернуть? А вы кто такой? Вы — навоз, мы вас гноили и будем гноить. У вас ещё есть какие-то претензии?» — «Вы, — говорю, — вообще ничтожество. Я видел много ничтожных людей, но до такой степени падших, как вы, я вообще не видел». Вот на таком уровне мы обменялись комплиментами с этим офицером.
А тем временем приходят два капитана в красных фуражках и говорят: «Где здесь Евгений Александрович?» Тюремный начальник говорит: «У нас нет Евгения Александровича». Они смотрят на меня с моими чемоданами, а я там сбоку после горячего разговора. Говорю: «Может быть, вы имеете в виду меня? Я — Сверстюк». — «Да-да-да, Евгений Александрович, мы приехали за вами. Но, вы знаете, у нас нет такого комфорта, и вам придётся ехать в обычной машине „скорой помощи“ к самолёту. Вы уж извините — где ваши вещи?» Тот берёт один чемодан, тот второй, и идут, а я за ними. Ошарашенный тюремщик одуревшими глазами смотрит и не знает, что это такое. Я, конечно, сочувствую тем парням, что тащат мои чемоданы, надо же им как-то помочь. «Нет-нет, мы донесём!» Так дотащили до машины. Мы садимся помаленьку в самолёт.
Я сижу с бурятом — из них один бурят, а один русский. Конечно, тот что русский — командует, а тот что бурят, тот молчит, хотя они и одинакового ранга. С бурятом был приятный разговор. Я поговорил с ним о Бурят-Монголии и об истории Бурятии, он пожаловался на положение бурятов — с какой целью, я уже не знаю, но не исключено, что, мол, почему бы и не поговорить, если человек что-то там немножко знает о нас.
Итак, на этом самолёте мы долетаем в Багдарин, и меня снова бросают в клетку без окон и без дверей — почти такую же, как и там, в Улан-Удэ.
В. Овсиенко: А говорили про комфорт?
Е. Сверстюк: А, так это закончилось! Спектакль закончился: я побывал в раю: у меня была прислуга в виде капитанов, а потом, чтобы дать почувствовать контраст, мне — бац! — дали камеру без окон и без дверей. Это тюрьма в поселении Багдарин.
ССЫЛКА В БУРЯТИИ
Но это всё, в конце концов, детали — как там прошли те несколько дней, как меня пробовали в гостинице напоить — это всё детали. Мне очень помогло на ссылке одно. Они решили устроить строгий контроль за каждым моим шагом, и это меня спасло. То есть они дали мне квартиру, а не общежитие. То есть дали возможность, чтобы такие вещи, как «Колокола», появлялись — а они подберут ещё несколько таких вещей во время обысков и дадут мне новый срок.
В. Овсиенко: Это вас привезли в посёлок Багдарин. А какой это район?
Е. Сверстюк: Баунтовский район. Хотя тот Баунт — это ещё меньшее село, а Багдарин — это вроде бы там центр.
В. Овсиенко: Вы помните, когда туда приехали?
Е. Сверстюк: Я думаю, что где-то в двадцатых числах февраля 1979 года. Вот у меня есть пикантный паспорт, выданный тогда. Он выдан 26 февраля 1979 года. Выдали мне его немедленно, не медля. Дело в том, что пока я стриженый, пока не отросли волосы, они хотели навеки зафиксировать меня в этом паспорте, чтобы было видно сразу. Более того, они меня хотели зафиксировать в зэковской робе. Но случилось так, что за зоной уцелел мой костюмчик, в котором меня арестовали. Таким образом, у меня был костюм для фотографирования. А кто-то из зэков дал мне то, что у зэков использовалось вместо свитера. Такой сплетённый воротник из шерсти, вроде галстука. Таким образом, у меня вид не совсем такой, какой они надеялись иметь для паспорта. А волосы всё же немножко отросли, ведь нельзя зэка долго таскать по этапам и вместе с тем сохранить ему нулевую стрижку — отрастают против всех правил.
Я помню ещё, как меня фотографировали. Во-первых, пошёл я подстригаться. В парикмахерской все стали присматриваться, хотя там новый зэк — это не новость. Спросили, кто я такой. Я сказал, что украинец, потому что спрашивали, откуда. Я сказал, что украинец из Киева. Какой-то там, которого стригли, высказал такую мысль: «А, украинцы — это всё равно, что китайцы». (Тогда воевали с китайцами за остров Даманский). А я сказал парикмахеру: «Вы знаете — можете его под нулёвку постричь. Ему всё равно, он ничего не различает». А кто-то меня стал одёргивать: «Вы не знаете, кто это!» А это какой-то бандюга был, из таких, кого боялись. Но дело в том, что я был под такой хорошей охраной, что мне можно было вполне полагаться на мой конвой.
Так вот, дали мне отдельную комнату. А для того, чтобы хорошо устроить слежку, мне дали столярную работу. То есть в цеху, в помещении — а не плотницкую, например, где люди в ватной одежде с топором работают на тридцатиградусном морозе. То есть фактически всё то, что было направлено против меня, пошло за меня. Что особенно интересно — это зона вечной мерзлоты. Труднее придумать что-то хуже в этой полосе. А вместе с тем, это место, где больше всего солнечных дней. Трудно придумать для меня что-то лучше, чем солнечный день — я очень чувствителен к этому. Таким образом, я попал в очень жёстко вымеренные, а совсем не такие страшные условия. Тут мне вспоминается обобщение, которое делали мы на 36-й зоне: никогда не говори им, что тебе хорошо, а что тебе плохо. Чтобы они ничего не понимали, чтобы они к тебе применяли свою общую мерку. И в этом случае оно вышло на хорошо: они совсем не понимали, что создали для меня оптимальные условия — для моего одиночества, что меня вполне устраивает. Я все пять лет на ссылке фактически жил в камере-одиночке, а это мне было как раз очень хорошо. Ко мне приходили дети, бурятские преимущественно — им интересно, у них есть с кем поговорить, им интересно найти какого-то человека, который ими интересуется, что-то подарит им. У меня всегда были рои детей. Как писал Василь Стус с Колымы: «Боярмушка — это лучшее общение, которое может быть». Боярмушка — это бурятская девочка, где-то лет четырёх-пяти, которая приходила ко мне. Правда, в последнее время перестала приходить, потому что сгущались тучи, за мной усилилась слежка — в конце моей ссылки они решили найти какой-то повод, чтобы арестовать.
О том, что это было так, они сами почти откровенно признались, когда устроили финальный обыск. У меня конфисковали нож — я вам его сейчас мог бы показать. С деревянной ручкой, сапожного типа нож, длина сантиметра два-три, из такой ломкой стали — сапожный нож, который нужен столяру для зачистки острых углов.
В. Овсиенко: Знаю, он треугольной формы, лезвие косое.
Е. Сверстюк: Да, он сапожный и столярный. Они ничего не нашли во время этого обыска. Был «прокурор ІІ ранга», он вокруг этого ножа всё крутил. Они нож конфисковали, писали протокол об изготовлении, и очень прицельно — с какой целью изготовил. Но из него нельзя было ничего сделать, всё это очень смешно. Во-первых, он не из того металла, во-вторых, там нет упора в ручке, в-третьих, во всех отношениях это не нож. А они соблазнились на версию с ножом, потому что они поймали Петра Разумного, который ко мне приезжал, на охотничьем ноже, который он купил там же, в Багдарине за шесть рублей.
В. Овсиенко: Он у вас был дважды — на Пасху 1979 года, а потом осенью того же года.
Е. Сверстюк: После того второго раза его задержали.
В. Овсиенко: 8 октября его арестовали за нож, конфискованный ещё на Пасху.
Е. Сверстюк: Вижу, вы лучше знаете об этом деле.
Ну, с Хельсинкским Союзом там была история немного более сложная. Я хотел бы её рассказать. Дело в том, что Пётр имел миссию уговаривать меня, чтобы я записался (или чтобы я возглавил) в Хельсинкский Союз.
В. Овсиенко: Группу, потому что тогда ещё Группа была. Союз — с 1988 года.
Е. Сверстюк: Группу, да. Я уже не помню — безразлично, чтобы записался или чтобы возглавил. Я получал письма от Калинцов, которые были по соседству — в Чите. Было какое-то письмо, по-моему, Ирины, написанное в таком истерическом стиле, что вот они забрали, а мы ещё выставили, они забрали — а мы ещё выкинули! Это в стиле того, как под Аустерлицем у Толстого: «Erste Kolonne — marschiert! Zweite Kolonne — marschiert! Dritte Kolonne — marshiert!» — и все тонут. Это меня возмутило, я просто не находил слов! Я не мог всего этого писать им в письме, хотя что-то и написал, что мне не нравится эта игра. И когда Пётр мне заговорил о Хельсинкской Группе, я говорю: «Сейчас в тюрьме есть человек, который из Хельсинкской Группы. Если вам фамилия нужна — подпишите Руденко или Мариновича. Он из Хельсинкской Группы, ему абсолютно всё равно, кто его где подписывает, даже лучше, пока он сидит там. Но если это игра с именами таким способом — боже упаси, чтобы я играл в такие дурацкие игры без цели и без явного результата. Меня просто удивляет, как можно так легко бросать судьбы людей, которых у нас — на пальцах одной руки. Как можно? Кто это берёт на себя?» Он говорит: «Я ещё хочу поехать к Славке Черноволу». — «Боже упаси, Пётр, — говорю ему, — не надо ехать к Славке». Он ещё хотел поехать к Славке в Якутию. С его стороны — это очень рискованно.
Я не знаю, рассказывал ли он о моей решительной позиции против этого. Меня вообще всё время мучила мысль о моральном праве так легко распоряжаться жизнью, распоряжаться судьбой семьи, ставить под удар другого, организовывать и затягивать других.
На меня очень сильно повлиял разговор с Николаем Бондарем. А разговор был очень мягкий и нейтральный.
В. Овсиенко: А кто это — Николай Бондарь?
Е. Сверстюк: Николай Бондарь — это тот парень, который (где-то он сейчас, наверное, в эмиграции) на октябрьский парад здесь, в Киеве, вынес плакат «Позор КПСС!». Это после пражских событий, после Чехословакии. Его сразу сбили с ног — и дали ему семь лет. Он очень хорошо держался, интеллигентный человек — кажется, аспирант по философии, я уже не помню какого университета. Когда Николай Бондарь вышел после 15 суток карцера — то ли он встал на статус политзаключённого, то ли что, я уже сейчас не помню, — он всё время держался отстранённо. Я с ним мало был знаком, но мне хотелось просто немного согреть человека, потому что я знал, что такое 15 суток. И Николай рассудительно после разговора с кем-то — кажется, с Яшей Сусленским, — говорит: «Мне понятно, когда человеку предлагают хлеба, но я не могу понять тех людей, которые подговаривают голодного на голодовку». Я задумался над тем «законом» — я задумался над моральным правом. Над моральным правом передавать через жену «контейнеры» и посылать её в Москву, а потом посылать их в холод, в подозрительную враждебную атмосферу, созданную вокруг них там, где они работают. У них нет никакой защиты, никто ими не опекает, никто ими не интересуется, кроме КГБ. У них нет тепла. В этом есть что-то страшное. И нет ли в этом какой-то бесовщины? Пусть она прикрыта другими мотивами, и не просто прикрыта, а связана с другими мотивами, мол, это борьба. Но в борьбу должен вступать тот, кто выбрал. Но навязывать со стороны, распоряжаться, давить, использовать, даже не договорившись, и бросать «Zweite, Dritte Kolonne» и показывать, какие мы, мол, отважные и щедрые — в этом есть что-то такое действительно бесовское.
Словом, я был за непримиримость в отношении к палаческой системе и против сотрудничества с ней, но я был категорически против самоуничтожения и против войны с милиционерами. Я всегда осознавал, что на меня одного — а я всё-таки один, а второго нет, — всегда можно выпустить даже на смерть тридцать милиционеров. А тут даже и трёх не надо, тут достаточно одного. И один на один ты сгораешь, а он нет. Он закуривает.
Словом, эти моральные коллизии нашего сопротивления для меня были очень и очень важными. Я заметил, как болезненно и деликатно реагировал Маати Кийренд, эстонец, на то, чему подвергали жену. Он говорит: «Я по-русски не понимаю». Я же — только по-русски с ним. — «А я могу это не понять». Мне это понравилось. Всё-таки очень разный мир был у нас, тот интернациональный. Были очень изолированные, но верные ребята-сионисты.
Итак, в том интернационале вырабатывалась определённая культура, определённая этика, обязанности и, в конце концов, мера того, что ты можешь брать на себя, а что ты не должен брать на себя. Во-первых, что ты можешь донести, взяв на себя, и второе — берёшь ли ты на себя, или ты берёшь также на свою жену, на свою мать и на своих близких, которые, в конце концов, имеют основания от тебя ожидать, что ты и о них думаешь. Это очень важно. Я был категорически против того, чтобы писать в письмах жене о самом худшем, что у меня есть в моей жизни. Я хотел создавать в своих письмах какой-то эстетизированный мир. Я не знаю, насколько это мне удавалось — я никогда не перечитывал тех писем, которые где-то лежат. Но я старался где-то достать красивые марки, чтобы она видела, какие красивые здесь можно писать и посылать письма. Она присылала мне цветные фотографии, я показывал их другим — вот, мол, какие есть оазисы жизни даже в аду. То есть я хотел обмениваться с людьми позитивной информацией, и в лагере тоже.
Было абсолютно ясно, что украинцы в лагере на особом положении, что украинцы идут на уничтожение. Если с евреем нужно считаться, потому что хоть его и не жалко, но он на учёте, его будут выкупать; если с русским будут считаться, потому что как-никак, а свой; если к прибалтам относятся так, «спустя рукава», потому что в целом они их особо не интересовали, — то мы были предметом особого террора. В те годы это ощущалось. В конце концов, никакого эстонца, никакого литовца, никакого еврея майор Котов не догонял бы и не спрашивал бы о самостийной Литве или Израиле. А меня же спрашивал, и раскрывал карты. В лагере я от Олега Воробьёва знал, какое отношение к русским — он был «свой человек». Он мне всё рассказывал. Он делил свою судьбу со мной, как настоящий зэк.
И в этих условиях давать им повод — это просто лезть в ловушку и демонстрировать свою отвагу. В то время, когда мне не 15 лет, а 50, — а я ничего не успел, я ничего не смог, потому что за мной всю жизнь ходили шпики! То, что я написал, — это всё в период между стрессами, и это ещё совсем не то, что я мог сделать. И будет ли у меня жизнь или не будет, но я не имею права ни морального, ни, в конце концов, чисто человеческого, разумного права лезть в ловушку. Такова была моя позиция. Поэтому я не поддерживал таких пылких решений. Хотя были периоды, когда я, скажем, тоже был готов пойти на статус политзаключённого и во Владимирскую тюрьму. Ну, когда уже совсем припирает, есть в тебе что-то, что противоречит твоей разумной установке, но ты не можешь иначе.
Так же было в этом Багдарине — ни один человек, выезжавший от меня, не избежал обыска. Единственным человеком, который вывез от меня несколько писем для передачи на Запад, был мой сын Андрей, который тогда был студентом мединститута. Мы были в условиях прослушки. Конечно, его тайно обыскивали. Я ему приготовил бутерброд на дорогу. Громко так разговариваю, говорю: «Вот тебе будет бутерброд, чтобы ты не был голоден». И запихиваю туда, в бутерброд, две капсулы. Ему в Улан-Удэ, конечно, сразу дают гостиницу... Жена начальника КГБ две недели сидит в ожидании самолёта. Она ему даёт свой билет, он прилетел по её билету. Чтобы не задерживать его — это им не нужно. Это вообще удивительные вещи. Там было много таких пикантных случаев. Например, мы с сыном выходим на островок между двумя ручьями. Он не хочет идти по этим камням, закатав штаны. Мы выходим туда, сидим, разговариваем, а над нами летает вертолёт. Делает круги, круги, круги — следит, так сказать, «тайно».
Закончился мой срок в Бурятии тем, что они не нашли повода для ареста. И они решили, что «всегда успеем». Они были правы — а куда им спешить? Они сделали там всё, что можно было.
Были и там какие-то просветы, были хорошие люди, которые пытались мне помочь. Один такой тихий человек приходил: «Александрович, если надо что-нибудь, я вам помогу — спрятать что-нибудь». Я ему действительно давал тетради — уже после этого обыска. А поэму я всё-таки передал через кума Петра, в капсуле — он её привёз Зиновию Красивскому, её там переписали. Я ему сказал, чтобы мой оригинал был уничтожен.
В.Овсиенко: Это какая поэма?
Е.Сверстюк: «Дзвони» — та самая, которая была в том «уголовном деле». Её передали через Нину Строкату. Она ничего не помнит, ничего не знает. И я её тоже понимаю — в таком состоянии, в каком она была, — что она может помнить?
В.Овсиенко: Так поэма не сохранилась?
Е.Сверстюк: Какие-то фрагменты у меня в памяти сохранились, но их всё меньше и меньше. Одним словом, что-то сохранилось.
В.Овсиенко: Но вам же показывали русский перевод — так он же где-то у них в деле есть?
Е.Сверстюк: Перевод и оригинал, думаю, у них где-то есть.
В.Овсиенко: На территории России — так, может, у них есть и украинский текст?
Е.Сверстюк: Я в прошлом году пытался через Ковалёва выяснить, возможно ли это. Он говорит, что не имеет такой возможности. Никто ничего не знает, никто ничего не хранит, всем не до того и не с кем разговаривать. Мы имеем не просто «империю зла» — мы имеем «не нужник». Там никакие углы не изучены и никаких планов нет. Хотя не исключено, что где-то ещё на свалках в каких-то архивах может быть.
Словом, когда я заканчивал свою ссылку, то собрал своих коллег-столяров, — все они были моими надзирателями. В разной степени. И все они отреагировали: «Молодец, Лександрич!» То есть как марафонцу, взявшему дистанцию. Они многие моменты переживали как такие, что уже... Были места очень скользкие — очень скользкие и провокационные.
ОТПУСК
Одна из самых провокационных ловушек была в самом начале ссылки: я получаю ответ на своё заявление в Министерство Внутренних Дел, разрешение поехать на встречу с матерью. На основании этого разрешения мне выписывают маршрутный лист. Я уже подготовился, иду с чемоданчиком в аэропорт (а там другой связи не было, кроме самолёта, это тоже продумано). Приезжает растерянный лейтенант МВД: «Слушайте, у вас же нет отпуска». Я говорю: «Вы что, с Луны свалились? Вы же мне дали маршрутный лист, вы оформляли, и вы же оформляли документы о моём прибытии сюда. Вы не знали, что у меня нет отпуска?» Молчит. Тогда вызывают меня в администрацию. Начальник экспедиции, моргая глазами, рассказывает, что у меня нет права на отпуск, я ещё не проработал... Это кагэбэшники «отсюда» закрутили провокацию. Они готовились к какой-то дискуссии и ждали от меня скандала. Я им сказал: «О чём с вами дискутировать? Вы же просто тут сидите только для того, чтобы передать мне чужие слова — о чём с вами говорить?»
Мне оставалось идти на работу. Когда я сказал начальнику экспедиции, что мне ведь дали разрешение на поездку не ваши милиционеры из Багдарина, а я получил его от Министерства внутренних дел, вот документы, то он не знал, что дальше говорить: «Я ничего не знаю». Когда мне стало всё ясно, я на своём велосипеде выехал за село к зарослям, где желтели берёзки. Они меня очень и очень успокаивали — каждая как свечечка. Я поездил между ними с часок, успокоился и приехал в цех. Взялся за работу у станка. Тем временем кагэбэшник из Улан-Удэ заводит со мной разговор. «Слушайте, — говорю, — а почему вы здесь? Почему вы мешаете людям работать? О чём вы хотите со мной говорить? Вы мне не нужны, и вы вообще здесь не нужны. Здесь люди работают, идите себе». И он послушно ушёл.
В.Овсиенко: А всё-таки вы приезжали в Украину?
Е.Сверстюк: Но в том-то всё и дело, что каждый из этих эпизодов отвоёвывался с трудом. Я только не сохранил всей этой переписки... Я приезжал к маме два раза. Ко мне приезжала жена с Верочкой, а также сын Андрей.
В.Овсиенко: Вы ездили к маме на Волынь. А в Киев?
Е.Сверстюк: Через Киев. Хотя мне даже кажется... Я уже сейчас стал забывать. И каждый раз это было настолько тяжело! Скажем, однажды я объявил голодовку. И смешно там объявлять голодовку, но они увидели, что это серьёзно, и увидели, что это не игра. Приехал какой-то кагэбэшник из Улан-Удэ, сделал у меня обыск и «дал разрешение». Ну, я, конечно, писал предварительно в прокуратуру. Первая поездка — после того, как отработал год, то есть в восьмидесятом году, вторая — в восемьдесят первом.
Какие были тут и там провокации! Я был у мамы с сыном, и это было страшно, когда я смотрел, как он это выдерживает. Скажем, я взял билеты на поезд Луцк — Киев, а самолёт мой — через день. Они не хотели, чтобы я задерживался в Киеве на сутки, и поэтому не подписали мне маршрутный лист. Тут уже ждёт нанятое такси, а они стали притворяться, что где-то нет начальника милиции. Драматичным было прощание с мамой. Она говорила, что больше меня не увидит. Я вместе с сыном попрощался и поехал в Горохов. Не могу же я вернуться и сказать маме об издевательствах. Мы ночуем в Горохове у Крыштальских. «Моё сердце этого не выдерживает уже», — сказала она.
А на второй день — прошу. Это был именно тот второй день, когда мы встретились с Валерием Марченко и с Зиновием Антонюком. Но на встречу нам выпало всего пара часов. Вообще надо сказать, что их агенты сопровождали даже жену в поездке ко мне, в чём она убедилась, когда ей «устроили» билет на самолёт в Москве.
В.Овсиенко: Как-то вы рассказывали о деталях встречи с Марченко и Антонюком — причудливых и удивительных.
Е.Сверстюк: Это действительно так. Дело в том, что когда я проезжал через Киев, то зашёл к Марченко и оставил записочку в двери, потому что не застал никого. «Они» не догадались эту записочку «проверить». Валерий её достал, он знал, когда я должен улетать обратно. Когда я приехал с Волыни, то снова не застал Марченко дома. Никого не застал. Взял такси и поехал к Антонюку. Я знал его адрес, но его нельзя было найти на этой улице: таксист не мог найти. Ну, а за нами, конечно, едет второе такси. А потом я увидел, что таксист не хочет уже ездить — он видит, что за нами «хвост» тянется. Таксист не хочет этой истории, поэтому говорит: «Ну что ж, так и будем ездить?» Я говорю: «Ну так езжайте себе, а я сейчас соскочу и пойду пешком». А второе такси не уследило, что я соскочил, и — поехало за ним. Я был на свободе! Я был на свободе может каких-нибудь полтора часа! Но Антонюка так и не нашёл. Я посмотрел на часы и понял, что мне нужно немедленно домой. По дороге я ещё захожу в Демеевскую церковь на минутку...
Приезжаю домой — а у меня за столом сидят Марченко и Антонюк! Вот наши фотографии этой встречи с Марченко и с Антонюком...
У них всегда была проблема. Чтобы я ехал в село — они не против: из Багдарина в Сильце — их это устраивало, они не волновались. Но как меня перебросить? Либо Киев, либо Москва. Однажды они мне разрешили ехать через Москву — и на свою беду. Потому что в Москве я куда заехал? Конечно, к Ковалёву. То есть Ковалёва нет, но есть его сын Ваня, который той же самой «Хроникой» занимается. Конечно, сразу идёт в мир информация от меня: я ему передаю, что где у меня было. Я попал прямо «в микрофон». Они раскаялись после этого, и в другой раз я уже ехал через Киев. Итак, я ездил второй раз — после голодовки, и тогда встретился с Марченко...
Хочу ещё сказать, что меня в Москве поразило то, что там сравнительно свободный режим. Там милиционер может поинтересоваться тобой, когда ты отмечаешь маршрутный лист — с интересом и почти с сочувствием. Там люди не запуганы. Я думаю, что не только в те времена не запуганы — они и в сталинские времена не были так запуганы, как у нас. Хоть там тоже брали, но брали преимущественно в высших эшелонах. Там русский работяга не очень был под угрозой — его за национализм не хватали. Думаю, что уровень террора никогда там не шёл ни в какое сравнение с нашим. Мне всегда было приятно в Москве ощущать такую вольготную атмосферу. Я был в Москве проездом единственный раз, но когда возвращался назад, то снова заезжал. И позже ещё бывал не раз.
У нас был страшный гнёт даже там, где его, казалось, и не должно было быть. Скажем, на селе. Село понятия не имеет о выслеживании, о политическом ссыльном, а всё равно чего-то боится. Всё село могло ко мне прийти, и ничего ему не было бы за это. Но всё передаётся шёпотом: «Приехал! — тихонько передаётся. — За ним следят!» Это тот же эффект, как у Гоголя с тем жандармским картузом, помните?
Я был в таком положении у мамы. Это было для неё и радостью, и стрессом. Я всю жизнь перед ней играл роль «благополучного». Это была моя миссия. Когда братьев не стало, то ещё со школьных лет у родителей сложилось впечатление, что со мной всё хорошо — что я учусь, что я справляюсь, что я приеду к ним в гости. Они меня ждут, и этот праздничный обряд будет продолжаться каждую неделю, когда я приезжаю в субботу — это пока я был в школе. А когда в университете, то из Львова я приезжаю почти через каждые две недели. Я стучу в окошко, они не спят — они ждут, когда я постучу в окошко. И начинается праздник встречи. Потом маленькая забота, потому что всегда трудно достать лошадей, чтобы отвезти меня на станцию — всё-таки это километров, наверное, девять. Иногда мы едем на лошадях верхом по болоту... Транспортная проблема была тогда очень тяжёлой. Вот, собственно говоря, только и хлопот было... Вот у них складывалось впечатление, что всё у меня беззаботно: они никогда не знали о моих хлопотах. Я так наловчился врать, точнее, обходить правду, что когда приезжал домой, снова уволенный с работы «по собственному желанию», то по мне трудно было узнать. Только мама подозревала: «Почему ты молчишь?»
Какую-то такую роль я пытался играть и тогда, когда приезжал к маме из ссылки. Поэтому я не мог себе позволить вернуться к маме и сказать, что меня не пустили из Горохова — ведь она же догадывается. Она всё понимает и переживает.
Подходит ко мне мой приятель, отсидевший 10 лет (его взяли из десятого класса), Андрей Крыштальский, и говорит: «Ну и встреча!» А возле меня стоит какой-то милиционер, у которого я что-то там расспрашивал. Андрей, как ни в чём не бывало, при всех говорит: «Ну что ж ты столько дней был, а ко мне не зашёл? Так не годится. Ну, давай хоть сейчас зайдём». — «Андрей, я надеюсь ещё поехать на Луцк». — «Да плюнь ты на это всё — побудешь у меня вечером, а завтра поедешь». Вот какой-то такой островок, тот Андрей, который в присутствии милиции может приглашать тебя в гости, умеет радоваться по-настоящему — но это же зэк! Зэк, который десять своих лучших лет, от двадцати до тридцати, отбыл там.
А другие? Вот, скажем, я там же в тот летний день 1981 года встречаю знакомого учителя, который так радовался, так встречал когда-то меня, как самого Василия Симоненко. Посмертного, конечно... Но тут встретил и делает вид, что не замечает меня, прошёл боком. Хотя, кажется, там хвоста не было. Но каждый человек, который боится, — он хвост носит с собой — неотступный, и не только днём, но и ночью. И это его фатум. Иногда я думаю, почему нас так оскорбляет отступничество «страха ради иудейска». Почему я по пальцам одной руки считаю тех, кто пришёл ко мне после 12 лет. А ведь были люди и близкие, и дружелюбные. А я уже 5 лет «где-то в Киеве» столярничаю... Почему человек навеки запоминает ту руку, которую ему кто-то подал в минуту угрозы? «А ты знаешь Любу Хейну?» — спрашиваю как-то Михайлину Коцюбинскую. — «Как? — обиделась она, — разве ты не знаешь, что Люба была единственной, кто выступил в мою защиту?» А вспомним, как написано в Евангелии о тех, кто жаждущего не напоил и заключённого не проведал... Ситуация — «архетипическая»...
Итак, я вернулся из ссылки тихонько, не сообщив никому, и дома ничего не знали. Я где-то купил цветов — так, будто я только что выходил на рынок и вернулся с цветами. Конечно, знали, что я должен прийти, но я не сообщил, когда именно. Не знаю почему — я думаю, что это ненормально, что я был таким заторможенным и таким спрессованным в себе, что отвык от нормального функционирования жизни. Но это была моя затея — прийти «домой просто так», с дороги, с гостинцами.
В то время уже был Семён Глузман и уже судили Валерия Марченко. Я думаю, что, может, они и рассчитывали, чтобы мы не встретились. Но я думаю, если бы мы встретились, то я бы на него влиял по мере возможности сдерживающим образом. Я бы не хотел, чтобы он рисковал, тем более, что большой игры нет — нам осталась малая игра. И в той малой игре нам нет никаких выигрышей. Когда что-то попадёт за границу, то это ещё тоже не выигрыш. Смотря что попадёт и куда попадёт. Это не всегда выигрыш. Словом, я смотрел на эти вещи довольно скептически. Я думаю, что если бы мы с Валерием после моего возвращения встретились, то я бы его отговаривал от резких шагов. Хотя он, собственно, не делал никаких таких шагов — он только своей осанкой давал понять: «Я непокорённый и не раскаюсь». Но мне хотелось бы, чтобы он как-то переждал. Это, собственно, было ужасно тяжёлое время, время неопределённое, время Черненко. Вместе с тем, было ясно, что покойник за покойником из Кремля отъезжает на тот свет, и, очевидно, вскоре Кремль вообще поедет на тот свет. Тот процесс был уже чётко намечен.
В.Овсиенко: В Политбюро начался падёж, как на ферме в плохом колхозе весной.
Е.Сверстюк: Кстати, у меня был образец того, как можно драматическую историю превратить в комическую. Они решили, что я в ссылке буду играть ту же роль, что в лагере. Скажем, считалось «западло» идти укреплять зону, считалось «западло» делать что-либо, имеющее отношение к наглядной агитации. А в ссылке — другие правила игры. Есть портреты членов Политбюро, и кто-то из них умер. Мне заказывают стекло. Этот стукач, который является моим начальником цеха, очень аккуратно мне рассказывает, как нужно снять рамку: «Мария Ивановна поможет разместить, а вы вырежьте стекло к этой рамке». Они думали, что я буду убегать от этого стекла, как еврей от некошерного, чтобы не прикоснуться к членам Политбюро. А я давно для себя решил: в лагере мы прекрасно понимали, что мы отстаиваем и чего стоит компромисс. А в то время, когда ты один, когда тебе дают вырезать стекло — делать из этого проблему смешно. И перед кем тут играть комическую роль? Или трагическую?
Я прихожу. Там есть та очень симпатичная Мария Ивановна. Я советуюсь с ней, будем ли сейчас «размещать», или подождём немного. Она с полуслова понимает и смеётся: «Или подождём немного, пока второй вылетит из этой рамки?» Мне дают время — бесконтрольно, лишь бы это было сделано. Можно было бы превратить это в шутку, можно было просто полдня делать вид, что ты что-то там делаешь или что стекло разбилось и за вторым пошёл и так далее, и не делать из этого никакой проблемы...
Или он мне заказывает: «Вот нам нужно для первомайских флажков сорок штук таких вот... Потому что, понимаете, флажки...» — «Да зачем мне ваши флажки? Мне нужен размер палочек и толщина — я столяр, а флажками занимаетесь вы. Вы можете эти палочки даже домой отнести». Таким образом я ему возвращаю эту так называемую политическую проблему...
В.Овсиенко: В техническую.
Е.Сверстюк: Да, в чисто техническую.
Это далеко не всё. Я сейчас склонен вспоминать такое, но я не склонен вспоминать совсем плохого. В цеху в Багдарине была самодельная циркулярка. И от неё планка стрельнула в плечо и пробила кожу. Соответственно, если бы дать делу ход, то, ясное дело, этим должна заняться техника безопасности. Должен быть оштрафован начальник цеха, циркулярка должна быть сразу конфискована. Циркулярка, которая стреляет! А она стреляет каждый день, она двери пробивает. Однажды шапку сбила моему стукачу, и моё счастье, что она не попала ему в лоб — это было бы смертельно и для него, и для меня. Это большое счастье. Ну, а тогда, когда я был ранен, мне не дали освобождения, чтобы не зафиксировать этот момент. Устроили собрание цеха. На этом собрании зачитали осуждение, что я специально занимался самострелом — «чтобы отлынивать от работы». В этой ситуации я себе представлял, сколько мне придётся с ними тягаться и жаловаться, разоблачать их — прохвоста перед прохвостом. И мои плотники и слесари посоветовали мне: «Александрович, вы это оставьте, вы не выиграете. Мы все понимаем». Все эти собранные на собрание работяги — все они это понимали.
И я оставил. То есть я принял это поражение молча, как не раз принимал, без борьбы. И каждый раз это было очень тяжело. Я себе представляю другое развитие сюжета вокруг этого, но хотелось мне, чтобы когда жена ко мне приезжает, то чтобы у неё складывалось впечатление, что у меня всё в порядке — комната чистая, работа всё же сравнительно нетяжёлая.
Или, например, я вспоминаю — это навеки в моих глазах, — я получаю телеграмму о смерти мамы. А меня гонят на работу. Метель, холод. В милиции мне говорят: «Телеграмма не заверена, она не является документом, вы ничего не выиграете». Я понимаю, что не выиграю. Мне дают несколько старых ватников, чтобы их рвать, и на пронизывающем, остром ветру я обиваю двери кузницы. Ватник к ватнику и каким-то брезентом сверху, забиваю гвозди. Гвозди вылетают из рук. Я захожу в кузницу погреть руки, снова возвращаюсь, снова обиваю двери — а мама лежит одна на столе...
Не хочу рассказывать о том, как умирала мама — мне рассказали. Но я что-то очень чувствовал это — может, даже никогда не чувствовал через расстояние так, как тогда чувствовал уход мамы. Я заперся в доме один-одинёшенек и слушал тиканье часов. Об этом написано — когда-нибудь я сподоблюсь на издание, точнее, на составление сборника стихов.
В.Овсиенко: А когда это случилось?
Е.Сверстюк: Это случилось тогда, как Брежнев...
В.Овсиенко: Это осень восемьдесят второго?
Е.Сверстюк: Да. Ноябрь. 19 ноября 1982 года.
В.Овсиенко: В этом рассказе вы нигде не назвали имени мамы.
Е.Сверстюк: Мама — Евдокия Яковлевна, из рода Присяжных.
В.Овсиенко: А вот, знаете, ощущение, что с родными что-то случается, в неволе у меня было постоянно. Как раз в тот период, когда я был в заключении, умирали мои дяди, тёти, в конце концов отец — и всё это я знал ещё до прихода известия.
Е.Сверстюк: А, это известное явление, у которого нет названия.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
Ещё несколько слов о моём возвращении. Итак, я вернулся в Киев во время суда над Валерием Марченко. Атмосфера была гнетущая, как в самый тёмный час перед рассветом. Я хотел устроиться на работу с помощью друзей, вернее, их советов. Антонюк был уверен, что они что задумают, то и сделают. Глузман был иного мнения — он считал, что надо самому пробовать устроиться. Раз есть такое положение, то надо его использовать. И я с Божьей помощью... Хотя столярная работа не была очень хорошей работой, но могла же быть и намного хуже.
Я сразу был плотно окружён. Терроризировали семью — придурок из милиции капитан Рудницкий приходил систематически, хотя я ещё имел право не идти на работу, потому что мой «отгул» — один день этапа под конвоем за три дня — ещё не закончился. Но я не делал из этого никаких проблем — ради семьи. Не считал дней, не торговался за мелочи — подождите, я ещё устроюсь. Я имею представление, куда мог попасть, потому что посещал разные места работы. Меня могли устроить в адски тяжёлый цех. Но всегда злоба и нетерпимость влекут за собой глупость. Они меня подталкивали своей злостью, и их вариант сразу отпадал. Я делал вид, что жду, пока они меня устроят, а тем временем параллельно ходил сам устраиваться. Куда они меня пробовали устраивать — это действительно такой маленький ад: на фанерном заводе, например, разнорабочим. Они хотели меня устроить в какой-то институт — конечно, посыльным и, конечно, в объятия сексотов. А мне хотелось устроиться рабочим, потому что я знаю, что рабочий всегда имеет полное право послать их куда хочет и когда хочет — и с рабочего не сбросят. Разве что в тюрьму.
В.Овсиенко: Увольняли, увольняли...
Е.Сверстюк: Увольняли, конечно, но ведь не так легко, как в институте. Итак, мне повезло. Пока они меня загоняли в тупик, я совершенно неожиданно оформился. Они думали, что я забежал в какой-то двор по своей надобности, а я через полчаса вышел, уже оформленный на работу — все начальники как раз собрались, и они сразу подписали приказ. Мехцех фабрики индпошива № 2, возле дома Ивана Бенедиктовича Бровко.
В.Овсиенко: Это на Ленинградской площади?
Е.Сверстюк: Я сразу попал в «здоровый коллектив» — непросыхающий. Это была работа не регламентированная. Конечно, с девяти до шести, это само собой — но она была с разъездами по городу, потому что там было много цехов. И это давало очень много свободы — это не приковывало тебя к станку ровно в девять часов.
В.Овсиенко: А админнадзор у вас был?
Е.Сверстюк: Нет, не было. Надзор был серьёзный, но админнадзора не было.
На меня тяжёлое впечатление производила так называемая литературная среда. Я не ожидал, что никто из них не отзовётся. Случалось мне, когда я к Юрию Хорунжему носил книги продавать. Юрий очень хороший и смелый человек. Он мне единственный помогал — он покупал эти книги, которые я ему приносил, по десятке. И жена его очень симпатичная, дружелюбная. Он тоже был пуганый, конечно, но не опускался до того, чтобы выказывать свой испуг. Поэтому мы с ним говорили так, на равных. У меня были «Записки НТШ» за прошлый век. Однажды я их продавал. Он мне рассказал, что такой номер у него есть, а тот его знакомый, который покупает, не хотел купить, потому что там обложка повреждена. Я спросил, знает ли он, чей это журнал. Знает, говорит. Это меня ошеломило. Этот знакомый — я его не хочу называть, это очень известный человек и очень незлой человек — он не взял этот Сверстюков номер, потому что там обложка повреждена. Это уже не страх — это уже что-то хуже.
В.Овсиенко: У вас были такие малые заработки, что вы должны были...
Е.Сверстюк: Заработок у меня был семьдесят. В то время была шутка — «сторублёвый муж». Но я до ста рублей не дотягивал. Позже я уже дотягивал до ста тридцати. Но на первых порах были совсем малые заработки. Очень нищая жизнь — материально и духовно нищая. Но иногда в солнечные утра, когда мне нужно было ехать куда-то в другой конец города, я садился в трамвай. Трамвай полупустой, я вынимал тетрадь и что-то себе писал. Где-то в то время я писал «Перестройку Вавилонской башни». Я не могу сказать, что писал её сразу после возвращения из ссылки, но я начал её писать где-то после Чернобыля, после взрыва. Я дал её прочитать одному из таких фрондеров, которые так «отважно» держатся. Он прочитал и сказал: «Ну, я тебя не понимаю. Если тебе дали за то, что ты тогда писал, то сейчас за это больше дадут».
В.Овсиенко: Но уже Горбачёв был?
Е.Сверстюк: Сажать не сажали, но у нас же ничего не изменилось. У нас меняться начало уже где-то, может, в восемьдесят восьмом, и то слабо. Собственно говоря, что начало меняться? Перестали сажать, перестали хватать — это единственное, что стало меняться. Стали появляться в московской прессе вещи, которых раньше нельзя было даже ожидать.
В.Овсиенко: А в украинской ничего ещё не было.
Е.Сверстюк: В украинской совсем ничего не было.
УКРАИНСКИЙ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ КЛУБ
Тогда я связался с определённым кругом младших зэков, отсидевших по бытовой, но по политическим мотивам — таких как Сергей Набока, Мыкола Матусевич, Олесь Шевченко...
В.Овсиенко: У Сергея Набоки была 187-1, она тоже политическая, но по этой статье держали в бытовом лагере. У Мыколы Матусевича и Олеся Шевченко была 62-я.
Е.Сверстюк: Ольга Матусевич?
В.Овсиенко: У Ольги сначала была 187-1, а потом 62-я, — по три года.
Е.Сверстюк: Ещё Лёня Милявский, 187-1... Это был круг, в котором бродили мятежные идеи и было какое-то желание собираться и немножко помитинговать. Митингование было однообразное, но я подводил к общему и давал какое-то более-менее конструктивное резюме. Оно уже приобретало литературный характер оттого, что происходило с моим участием. Мы проводили вечера Стуса...
В.Овсиенко: Это началось с лета 1987 года — Украинский культурологический клуб.
Е.Сверстюк: Да. Вы знаете, мне очень жаль, что до сих пор некому заняться тем, чтобы собрать факты. И у меня есть что издать, для истории это важные вещи, но боюсь, что не все заинтересованы, потому что фактически это мои материалы. То есть то, что стало литературным произведением, — только то и можно печатать, а всё остальное может быть только фоном — даты, события. Парни играли довольно хорошую роль в этом. И это тоже надо было бы описать. Скажем, Олесь Шевченко очень интересно с ними воевал. Вот встреча с Салием на Олеговской, 10, на Подоле — там было несколько таких острых и интересных разведок боем. Это всё было брожение, которое предвещало конец цензуры. Конец страха — это конец цензуры. Я вспоминаю, как мы решили устроить — это уже была моя идея — тысячелетие крещения Руси-Украины.
В.Овсиенко: Это 1988 год — а в какое время?
Е.Сверстюк: Летом. В газете мы прочитали, что празднование начинается в Москве, потом в Ленинграде, а потом в Украине. Это вызвало смех, и не только смех. Тогда я решил: нет, мы это сделаем по-своему, мы сделаем любой ценой. Не из чего было делать, тогда я попросил Сергея Набоку, чтобы он записал какие-то колокольные звоны на магнитофон. Другим дал что-то прочитать из «Золотого гомона» Павла Тычины. Потом какие-то другие тексты ещё раздал. Никто не подготовился, кроме Набоки, который записал колокольные звоны. А эти парни не чувствовали События. Тогда я уже просто деспотично: читай то, что у тебя в записной книжке. Вхождение в религию было трудным...
В.Овсиенко: А где это вы устроили?
Е.Сверстюк: У памятника Святому Владимиру — в тот первый день, когда Москва отмечала этот праздник, мы отмечали свой праздник. Весь Культурологический клуб собрался, только вот не было никакого видения праздника. Я написал выступление, которое сейчас напечатано в книге «На празднике надежд». Собственно, я не ожидал, что это будет иметь мировой резонанс — я думал, что это будет просто такая себе наша демонстрация достоинства. Итак, я прочитал это выступление... Но ещё, подождите, когда мы там собрались, то и они собрались. Какой-то там в шляпке, тот, что заведует «делами культов», встал: «А где вы взяли свечи, где вы купили свечи — на базаре или в церкви? Те, что церковные, нельзя! Расходитесь!» И так далее. Но он увидел, что все распоряжения звучат в пустоте — некому слушать. Мы почувствовали, что он без жандарма, он играет смешную роль: нужны кагэбэшники с воронками, а если их нет, то зэка не напугаешь шляпкой. И он стал в стороне.
И тогда я вышел на постамент у памятника и стал читать громко, для народа. И была тишина гробовая. Мне казалось, что людей собралось чуть больше сотни, но я думаю, что не было так много. Разумеется, никакого священника там не могло быть. Даже если бы он знал, то никогда не пришёл бы туда — это было понятно. Были там и чтения, и это уже не так важно, как оно было подготовлено. Словом, это выросло в нечто единое целое — это было празднование События. И когда информация об этом пошла за границу, там подхватили текст этого доклада и стали перепечатывать — Украина отметила тысячелетие крещения Руси, в Киеве!
В.Овсиенко: Точной даты этого события вы не помните?
Е.Сверстюк: Это есть в книге. Кажется, 6 июня.
Потом самым прицельным выстрелом было моё выступление в конце 1987 года на «Обувщике» о Василе Стусе. Они за нами очень следили. Главной проблемой было помещение. После известного, такого скандального для них вечера в доме культуры на Фрунзе, в одном таком довольно пышном зале, когда дискуссия завершилась для них позором — по поводу голодомора, кажется — они решили не давать помещений. Но тогда Сергей Набока схитрил и сказал, что нам нужно было бы помещение, чтобы собраться для того, чтобы спланировать дальнейшую работу. И они решили, что это для них интересно. И предоставили нам актовый зал на «Обувщике». Что-то мы там помусолили вокруг работы минут пять, а потом дали мне слово, и я прочитал доклад о Василе Стусе. Была тишина гробовая, и потом неожиданно для меня — громовые аплодисменты. Большое количество людей собралось — парни всё-таки собрали народ! А потом кто-то предложил встать и почтить память — это было первое вставание в честь Василя Стуса. Во время того вставания «тот, что в штатском», сидел, не хотел встать.
В.Овсиенко: И разоблачил себя.
Е.Сверстюк: Я тогда демонстративно заявил, что этот текст является обращением в ЮНЕСКО о чествовании 50-летия Поэта. Текст за подписью трёх почётных членов Пен-клуба — моей, Светличного и Черновола. (Им я, конечно, после всего сказал. Вообще, это отдельная страница — встречи со Светличным: у него ещё была память, которая теплилась, но она уже не сцепляла представления концептуально). Я тогда заявил, что это пойдёт и в адрес Международного Пен-клуба, то есть оно будет передано за границу. Ну, это уже была зэковская дерзость — когда зэк видит, что всё сходит безнаказанно: нет ни ШИЗО, нет эффективного конвоя и нет грозных начальников.
Они начинают разоблачать нас в газетах. Тогда появляется статья Шевца, который сейчас «Факты» издаёт. Там он, я думаю, переоценивает то, «Кто стоит за кулисами УКК». Я не стоял за кулисами и не рвался вперёд — просто я участвовал, и твёрдо участвовал, в каждой акции. А там, где надо было делать доклад, то, конечно, я готовил доклад — или о Шевченко, или о Стусе, или о Драгоманове. Он хотел показать, что вот Сверстюк боится и прячется. Я дал ответ по этому поводу, он пошёл в самиздат. Славко Черновол во Львове уже снова начал издавать «Украинский вестник», и таким образом уже можно было говорить о «гласности явочным порядком».
Конечно, ни о какой печати тогда нельзя было и мечтать. Но достаточно было того, что у них уже были инструкции действовать методом критики — это было тоже хорошо. Выступил не один Швец. Второй — по поводу Шевченковского вечера — выступил Сергей Тома (Кичигин), который тоже меня критиковал. Он уже мягче критиковал, либеральнее. Швец критиковал, как пёсик на привязи, а этот уже меня критиковал как Барбос, который лежит на копне сена. Он говорит: «Не понимаю только, что заставляет Сверстюка делать из Шевченко христианина?» Там есть и такие рассуждения, а также другие подобные.
Итак, это уже гораздо либеральнее. Я не сказал бы, что всё было уже так ясно. Должен сказать, что это была борьба, и ещё острая борьба. И неизвестно, что за этим стоит, какие инструкции. Ответ Швецу — это разговор не начистоту, то есть я не бросал карт с вызовом партии и правительству, а я говорил с моральных позиций. Это, собственно, и был язык времени.
«ПОРА ПЕЧАТАТЬСЯ!»
А тем временем — в 1988 году — они предложили мне печататься. Ко мне забегал какой-то майор Олейник: «Пора печататься!» Я говорю: «Вам что — надоела моя сдержанность?»
В.Овсиенко: Уже КГБ побуждает печататься!
Е.Сверстюк: «Надоела. Ну, может у вас есть что-то такое?» Говорю: «Я дал для журнала «Вітчизна» свою статью «Собор в лесах»». — «Ну, «Собор в лесах» — что вы! А что они ответили вам?» Я не помню точно разговора, но я действительно дал «Собор в лесах» в 1988 году в «Вітчизну». Там есть такая кагэбэшница Черченко, так она мне ответила примерно в том стиле, в котором мне отвечали и в шестидесятые годы. Тогда я написал письмо на имя Владимира Яворивского. В этом письме я писал примерно так: «Я получил от редакции ответ за подписью Черченко, но это звукосочетание абсолютно не является для меня подписью. Я хочу знать, что думает редактор, или что думаете вы, как заместитель редактора, о материалах, которые я прислал». Никакого ответа, никакого! Только где-то уже в середине 90-х годов, когда мы вместе с Яворивским выступали, то он сказал: «Ну что ж, Евгению Сверстюку надо было за «Собор в лесах» дать Шевченковскую премию уже тогда». Значит, он таки прочитал этот «Собор в лесах» — и с дрожащими ушами он это читал! Но с радостью.
В.Овсиенко: В восемьдесят восьмом...
Е.Сверстюк: Да, но не будем забывать, что в украинском космосе ничего не изменилось. А общая ситуация менялась. Я пошёл в журнал «Вітчизна» забрать эту статью. Обратился к редактору. Передо мной стоял серый новенький костюм, и при этом вполне приличный. Сказал, что он не был здесь и не успел ознакомиться. Я говорю: «Вы были и вы успели — можно было успеть, потому что это больше, чем полгода. Я не думаю, что вам каждый день присылают «Собор в лесах». Но я не имею к вам больше никаких вопросов — я хочу забрать рукопись». — «Прошу — говорит, — берите». А Черченко говорит, что не знает, что где-то его нет. «Есть, есть — говорю, — вы знаете, где он есть. Я подожду». Она говорит: «Ну вот есть одна половина, а второй половины нет». — «Есть и вторая половина — поищите. У меня не будет времени к вам приходить ещё один раз». Нашла: «Вот есть, есть». — «Очень хорошо, спасибо. До свидания».
Это была моя встреча с этой редакцией. Но, к моему великому горю, Левко Лукьяненко устроил какой-то очередной сабантуй перед своим выездом в Канаду, и пригласил меня. Ну, я иду к Левку. Смотрю — а там в полном составе редакция журнала «Вітчизна»!
В.Овсиенко: Он в июле 1989 года ездил в Западную Европу. А послом в Канаду пошёл в мае 1992...
Е.Сверстюк: И как бросились они целоваться, до сих пор помню!
В.Овсиенко: Это, наверное, было в Контрактовом доме. Там есть такая забегаловка, и я там был. Меня поразило застолье — я, вчерашний зэк, никогда не видел такого застолья и не представлял себе, что живой человек может столько съесть за один вечер!
Е.Сверстюк: Я не знаю, что Левка всегда выводит на таких людей.
В.Овсиенко: Там в 1991 году была презентация его книги «Исповедь в камере смертников».
Е.Сверстюк: А чего они там были? Ну, пусть презентация...
В.Овсиенко: Книгу издали редакция журнала «Вітчизна» и газета «Ділова Україна». Наверное, они и устроили такую презентацию за свой счёт — потому что где же Левко такое застолье мог устроить?
Е.Сверстюк: Нет, тогда было очень легко это устраивать. Вы не забывайте, что тогда за 5 долларов можно было закупить очень много обедов в ресторане.
В.Овсиенко: Всё равно это были не Левковы деньги — нет-нет, это они оплачивали. Я что-то такое тогда слышал.
Е.Сверстюк: Печатал меня Пётр Перебийнис в журнале «Киев». Я дал «Белый парусник» — конечно, после разговора с кагэбэшником. Он спросил: «Где?» А я говорю: «Выберите — вы же ведаете журналами». — «Ну, что вы — вы можете сами выбрать. Вот журнал — или «Киев», или «Вітчизна». Я говорю: ««Вітчизны» с меня хватит — «Киев» разве что?» — «Ну, давайте в «Киев»». И вот тогда я им отнёс поэму о лейтенанте Шмидте. Они изучали эту вещь в КГБ, а потом, после раздумий с неделю, дали согласие, и редактор сразу напечатал.
Что меня особенно поразило — когда я был в 1989 году в Вашингтоне и выступал где-то перед более широкой аудиторией. Мыкола Руденко — он с Раей уже там жил в то время — подошёл ко мне и сказал: «Вы же хотите возвращаться, Евгений Александрович?» — «Ну конечно же, я буду возвращаться». — «Так они же это записывают и здесь. После этого можете ли вы возвращаться?» Словом, то, что я говорил, были неслыханные вещи — в то время он воспринимал это как человек, который понимает вес, так сказать, на чаше Уголовного кодекса.
Но после этого я вернулся, напечатав в Америке «Перестройку Вавилонской башни» под названием «Чернобыльская притча».
В.Овсиенко: В каком издании? Или отдельно?
Е.Сверстюк: Это вышло отдельной книжкой. Вмиг разошлось. Издали вторым тиражом. Я думаю, что второй тираж вышел уже в 1990 году. Мне привезли сюда то второе издание — на хорошей бумаге, мягкая обложка. Тогда там это была читаемая вещь, потому что и после второго тиража нельзя было достать. Я набрался духу и дал его для журнала «Киев». Тогда можно было уже давать не просто как рукопись, а как книгу, изданную в Америке. Ещё вчера это была бы «злостная выходка»! А сегодня перепечатали в журнале «Киев» в двух подачах без каких-либо изменений «Перестройку Вавилонской башни»! И уже под этим названием. Это название было иронией на перестройку, и, я бы сказал, злейшей иронией.
Кстати, меня же «выгнали» с работы.
Где-то летом или осенью 1988 года пришло приглашение из Американского посольства в Москве — на встречу диссидентов. Мне вручили это приглашение — по почте. Конечно, я не колебался, ехать или нет. Это выпало где-то на субботу. Итак, после работы я сразу на поезд... Ага, пришёл какой-то прокурор в своей полной форме, оставил в комнате только меня и начальника цеха, стал мне советовать не ехать туда. Я говорю: «Вы пришли запретить мне?» — «Нет-нет, я не запрещаю». — «Тогда я не понимаю — если советуете, то что, не нашёлся какой-то человек попроще, чем прокурор? Или вам не известно, что когда мне прокуроры советуют, то я делал всегда наоборот?» Он помялся, и на этом закончился визит.
Мы поехали... Там была встреча... Собственно, не мы: думаю, что из Киева я ехал один.
В.Овсиенко: А из Украины кто ещё был?
Е.Сверстюк: Может, Василий Сичко? Я уже не помню.
В.Овсиенко: Черновол не был?
Е.Сверстюк: Это всё было, как в тумане. Странно. Как жаль, что я тогда не записал того всего. Как жаль — но что ж: всю жизнь учили тебя уничтожать следы. И это надо было бы как-то выяснить, кто же тогда ещё был из Украины. Очевидно же, были — не может быть, чтобы я был один!
В.Овсиенко: Подождите, а кто там вас принимал?
Е.Сверстюк: Это был фуршет. Было сказано несколько слов привета со стороны работников посольства, а потом скромный фуршет с бокалами вина и какой-то очень скромной закуской — у них же фуршеты никогда не бывают украинскими, а только вино и, может, сыр и какие-то фисташки. Видел Нийоле Садунайте, Мераба Коставу, с которым познакомился, и, думаю, что Сергея Ковалёва я видел. Я его часто видел в связи с другими встречами и другими поводами. Итак, трудно мне и вспомнить.
После этого я вернулся в Киев. Меня вызывает начальник цеха и говорит, что было грубое нарушение дисциплины.
В.Овсиенко: Но как — вы же не в рабочее время ездили? В субботу, в воскресенье?
Е.Сверстюк: Да, но в понедельник я либо опоздал на полдня, либо пришёл аж во вторник. Наверное, я сел на такой поезд, который приходит позже, не утром. Это даже наверняка так. А если сядешь в двенадцать ночи, то когда приедешь в Киев? Словом, мне предложили подать заявление об увольнении по собственному желанию — иначе уволят за прогул — «за грубый прогул»! А тем временем приближается время моего выхода на пенсию...
В.Овсиенко: Да, это был октябрь, а уже в декабре должно было быть шестьдесят.
Е.Сверстюк: Но они не могут дождаться! Они хотят, чтобы я раньше ушёл. Я жил такой нищей жизнью, что боялся выходить на пенсию, потому что пенсия будет ещё беднее, чем зарплата. И я хотел ещё работать. Представляете себе, до какой степени человек был закрепощён? Я хотел ещё ходить в цех на работу! И всё же мне определили дату, такую примирительную, приемлемую, о выходе на пенсию — досрочно. А какая там досрочность? Плюс-минус месяц — это для пенсии значения не имеет. Меня заверили, что это не будет иметь значения. И они честно рассчитаются. Начальник цеха не хотел получить выговор за мой «прогул».
Таким образом, я был, можно сказать, уволен в последний раз. И рабочие мне устроили хорошее прощание — какие-то подарки, выступления... У меня до сих пор есть какая-то на медной бляхе выбитая эмблема к шестидесятилетию. Я как-то не придал этому значения, а потом мне объяснили: «Вы думаете, что здесь провожали хоть кого-то на пенсию так? Кто бы это стал делать такие вещи в складчину?» Одним словом, это было трогательное прощание с «гегемонами». Меня называли там «профессор». Это было общепринятым. Все мало знали обо мне — знали, что сидел по политической статье. Потом стали читать в газете «Вечерний Киев» — я ещё был на работе — разоблачения. А потом стали догадываться всё больше и больше. Но это уже было никому не страшно.
В.Овсиенко: А когда вы поехали в Мюнхен столяром, а вернулись доктором философии?
Е.Сверстюк: Тут же прежде всего надо сказать, что я поехал в Мюнхен ещё тогда, когда держалась стена. Я ещё проходил в Берлине этот пропускной пункт, где штамповали паспорта.
В.Овсиенко: Стена пала, кажется, в ноябре 1989 года.
Е.Сверстюк: Где-то так. А я поехал после первых наших консультаций по поводу поездки на могилу Василя Стуса. Пришли первые отказы, и я, помню, судя по тому второму отказу, говорю: «Мне дали визу, и я имею возможность поехать сейчас за границу». Это же для всех было чудо, это один из первых выскоков за границу. Только Бердник перед тем ездил.
В.Овсиенко: Лукьяненко где-то в июле-августе 1989 года был в Западной Европе.
Е.Сверстюк: Итак, и Лукьяненко уже ездил. Во всяком случае, я тогда разговаривал с Евгением Пронюком и, думаю, с Зиновием Антонюком — мы советовались по поводу перевозки праха Василя Стуса. Ещё не стоял вопрос о других, но уже обсуждали, что если ехать, если перевозить, то всех троих. Но ещё стоял вопрос так: а если привезти, то где может быть церковная служба — для отпевания?
В.Овсиенко: Какой священник отважится?
Е.Сверстюк: Да. Всё было ещё настолько неясным, но одно было ясно мне — что я ещё могу поехать три раза за границу, пока у них закончится «эпидемическая ситуация». Это так просто и быстро не решится — может, зимой. Я никогда не ожидал, что это внезапно сломается.
В.Овсиенко: Мы первый раз ездили в конце лета, помню, 31 августа были в зоне. А 1 сентября на кладбище снимали, где-то 3-4 сентября вернулись.
Е.Сверстюк: Но тогда ещё было далеко до ключей?
В.Овсиенко: Да ключи от камер как раз тогда я и нашёл, 31 августа. А уже 9 сентября я выступил на съезде Руха. Это был второй день работы съезда, председательствовал Михаил Горынь, я к нему подошёл с этими ключами и говорю: «Пан Михайло, надо чтобы я как-то выступил с этими ключами». И пан Михайло дал такую возможность. А вторая поездка была уже 15-17 ноября — вас тогда как раз не было в Киеве? Когда были похороны 19 ноября, вас не было.
Е.Сверстюк: Уже не было. Причём, я это знал — я знал, что проходят похороны, у меня даже есть стихотворение, написанное в самолёте, когда я перелетал Альпы. Я слышал, как проходят похороны.
В.Овсиенко: Я тогда дал очень пространную информацию — помню, что тогда в Москву по телефону диктовал Доценко. Тогда этот мой текст о поездке передало радио «Свобода» сразу, очень свежий текст.
Е.Сверстюк: Я вспоминаю, что был под таким сильным впечатлением от этого. Я же был на аудиенции с папой Иоанном-Павлом II. Тогда сразу устроили вылет на Торонто после возвращения из Рима. Мюнхен, Рим, а из Рима снова Мюнхен, потом Дюссельдорф и Торонто. А я «всё время был» на тех похоронах... Я должен был выступить в Торонто на каком-то очень важном собрании, которое было приурочено к этому моему приезду. Правда, там было ещё какое-то мероприятие, какое-то чествование судьи. Вспоминаю, кого же я там увидел — по-моему, Валентина Мороза увидел. Он говорит: «Вот видишь, как тебя чествуют!» А его уже перестали чествовать. Никакого там особого чествования не было. У меня после смены времени голова гудела, как колокол. Я прочитал там доклад о попытке сломать систему и об адаптировании Стуса в советские структуры — о записи его в Союз писателей... У меня где-то есть текст этого доклада.
В.Овсиенко: Где-то тогда написано и о Товкоцком?
Е.Сверстюк: А потом я был уже в Соединённых Штатах, и у Надежды Светличной увидел номер «Літературної України» (наверное, всё-таки «Літературної України», потому что вряд ли она другие газеты получала). Там была статья Мыколы Жулинского, написанная в рассудительном стиле — ну, вот так сложилась жизнь человека, который имел тяжёлый характер, сложилась тяжёлая судьба, сам он виноват, обстоятельства жизни были виноваты... Такая вот статья о Стусе. Тогда я ночь не спал и написал жестокую вещь о Товкоцком и Великой Птице. Прочитал Надежде — Надежда одобрила. Прочитал Шевелёву — Шевелёв промолчал. Очевидно, тон его немного шокировал. Прочитал Кошеливцу по телефону — Боже, как его мучила Эмма за то, что он позвонил мне аж в Америку и целый час разговаривал. Сколько же это стоило! Но Иван Кошеливец одобрял всё. У нас с Кошеливцем сложились самые близкие отношения. Мне, говорит, приятно было слушать это произведение.
В.Овсиенко: Я помню, что тогда он был опубликован в газете «Голос відродження» — это была газета УГС.
Е.Сверстюк: И «Голос відродження»? Но ещё была просветительская газета «Слово». Я тогда не знал Жулинского.
В.Овсиенко: Как? Совсем не знали?
Е.Сверстюк: Как человека не знал. Есть фамилия — и с меня этого достаточно. Ну, а потом оказалось, что это — страшное оскорбление. Я думаю, что, может, это действительно был горячий, с пылу с жару, блин, и очень горячий. Но, наверное, только так и надо было. И я не каюсь, хотя ясное дело, что он никогда не сможет этого простить.
В.Овсиенко: Ну, но терпит.
Е.Сверстюк: Но терпит, потому что он почувствовал, что в этом есть правда.
В.Овсиенко: А тем не менее, эта статья 1990 года опубликована была в его книге — такая белая книга, «Из забвения в бессмертие»...
Е.Сверстюк: Может, немного изменил? Мне говорили, что мой памфлет — очень жестокая вещь. Может и так, может и так, но я и похуже вещи писал. Это по-зэковски — публичное осуждение. По-зэковски. Потом я ещё написал против кагэбэшников одну статью — такую насмешливую. Позвонил Михайлине, не согласна ли она была бы подписаться со мной. Она согласилась, и тогда под фамилией Михайлины и моей вышла ещё одна полемическая статья в защиту Стуса. Но она более конкретная. Я думаю, что Михайлина под «Великой птицей» не согласилась бы подписаться.
В.Овсиенко: Это, наверное, тогда появилась реплика в газете коммунистов, что «Коцюбинская и Сверстюк рвутся к власти»?
Е.Сверстюк: Очевидно, это их немного укусило. А между прочим, самый острый их взгляд я почувствовал на себе, когда где-то не то на Центральном стадионе был какой-то митинг. Тогда мы атаковали и рвались один перед другим к микрофону. Тогда трудно было захватить микрофон, но они и не подходили. Они шли против меня «свиным клином» оттуда и что-то там сотрясали. И я им сформулировал, как они рвутся «свиным клином» — это форма их массовой активности. Тогда были прямые столкновения. Однажды я даже встретил в троллейбусе своего прокурора Погорелого. Он смотрел на меня взглядом волка, у которого нет зубов. Я посмотрел на него и повернулся спиной. Это один из самых подлых людей, которых я когда-либо видел. Я давал ему отвод на суде с какой-то унизительной формулировкой — как человеку, не проявляющему никаких признаков квалифицированности.
В.Овсиенко: Ваш отвод отклонили как необоснованный, да и всё?
Е.Сверстюк: Скорее всего, так... Да, ну что ж ещё тут рассказать?
В.Овсиенко: А почему вы ни в какие политические партии не идёте?
Е.Сверстюк: Вы знаете, с самого начала я заинтересовался массовым движением — тем, что называлось «Рух». Я почувствовал, что там нужно вносить какие-то другие интонации, что все эти заклинания повторяются. Уже на первом съезде было слишком много того, что буксует, холостых оборотов. Поэтому для меня важно было тогда выступить со своей точкой зрения о возвращении к каким-то глубинным истокам, к основам. Сейчас, кстати, Александр Сугоняко читает это моё выступление на первом съезде Руха и удивляется, что эти проблемы были с самого начала — собственно, те проблемы, к которым мы и сейчас подходим.
Вы знаете, меня в партии и не приглашали. Я вспоминаю, как Горынь как-то мне сказал: «Оно тебе и не нужно». И это было само собой разумеется. Это не значит, что я пошёл бы, если бы приглашали. Но с самого начала, я думаю, это мне противопоказано. Как Алексей Братко говорил: «Ты родился для вечной оппозиции». Он о себе говорил, о глубокой аполитичности, хотя ему ближе было к партии, потому что он был в этом ключе больше... «Феномен Украины» — книга политическая.
В.Овсиенко: Да, формально он был в УРП. Он публиковал очень мудрые свои вещи в газете «Самостійна Україна» — целый цикл его статей опубликован. Но это я так, для шутки, спросил о партиях — и так понятно, что вам они ни к чему.
Е.Сверстюк: В партиях люди бьются за власть, как правило. Там мало есть людей, которые не интересуются властью, у которых есть иллюзии. Скажем, кум Пётр Розумный — он же всё время в партиях, но он о власти и не думает.
В.Овсиенко: С большим смехом было воспринято, когда процитировали из газеты «Коммунист» эту цитату, что Коцюбинская и Сверстюк рвутся к власти — зал взорвался хохотом.
КАТАСТРОФА
Е.Сверстюк: Наверное, самое тяжёлое, что случилось для меня в конце 80-х годов — это увечье сына Андрея и смерть внучки Аннушки. Мне кажется, что где-то тогда стал чувствовать, что я седею.
В.Овсиенко: Я очень отдалённо слышал об этом — вы можете об этом рассказать?
Е.Сверстюк: Сын сорвался с кручи и переломал позвоночник. Из больницы он не выходил. Это та больница, где он работал врачом.
В.Овсиенко: Это когда случилось и сколько ему лет тогда было?
Е.Сверстюк: Он с 1958 года, и это случилось в 1988-м. А добило то, что оказалось, что его дочь Ганя — вот её фотография — заболела. Вдруг стали косить глаза, и пока там возили ко всяким врачам, подбирали очки, наткнулись на врача настоящего, который определил опухоль мозга.
В.Овсиенко: Так она родилась как раз под...
Е.Сверстюк: Она родилась 2 мая, после Чернобыля, как раз во время радиации.
В.Овсиенко: И сколько она прожила?
Е.Сверстюк: Она прожила почти 4 года. Мне удалось с помощью Сахарова, уже тогда, когда она была совсем безнадёжна... Я сам не обращался, это для меня сделано «заочно». Тогда за границу на лечение не пускали. Когда выехала Мария с ребёнком, ребёнок обвис, как пояс, на плече. Там Надежда Светличная развернула деятельность. Я даже не могу подробно рассказать, но в этом участвовали и сенаторы. Сделали операцию. У нас было представление такое, что операция — это спасение, у них — это трезвая оценка ситуации: может быть только приостановка. Потом стали это гасить химическими методами, у ребёнка было распухшее лицо. Она ещё продержалась года два, но это уже был не тот ребёнок.
Вы знаете, кажется, меня никто так не любил, как Ганя. Это удивительно светлый, зрелый ребёнок была. Я не знаю, когда мы в Америке встретились, узнала ли она меня. Наверное, не узнала. Наверное, у неё не было уже этих тонкостей узнавания — всё опухло, следовательно, и мозг, конечно. Её в больнице называли «Файтер» — «Боец». Когда её мучили уколами и прочим, она бросала чем попало. Они были в восторге от такого ребёнка — такая маленькая и такая сильная. Но уже эта встреча с ней там, за границей, — это уже было прощание. Она умерла в девяносто втором.
В.Овсиенко: А Андрей сейчас где живёт — в Америке?
Е.Сверстюк: Андрей... Итак, перед тем, как ей делать операцию, врачи предупредили, что это вещь очень ответственная, и нужно согласие родителей. Дали разрешение вызвать отца. Андрей лежит на кровати и категорически отказывается выехать на коляске в коридор. А тут он соглашается, причём это удивительная была вещь, это просто на уровне Провидения. Я прихожу к Андрею и говорю: «Знаешь, Андрей, я получил приглашение для тебя в Америку». Андрей говорит: «Ну, можешь спрятать его себе в альбом для коллекции. А на когда?» — «Через дня четыре должен вылететь». Никакого же паспорта нет. Но при наличии такого приглашения быстро выдали паспорт — я же не умею этих вещей делать, но в то время не было очередей и препятствий не чинили.
Я обращаюсь в аэропорт, потому что ещё надо в Москву ехать за визой, а в аэропорту очередь огромная. Я говорю: «Вы знаете, у меня есть билет в Америку — и надо в Москву». — «Ну, всем надо в Москву, вы же не один». А потом что-то там случилось, кто-то стал меня разыскивать: «Это вы имеете билет на Америку? Вот вас зовут к кассе». Неслыханно. Я сажусь в самолёт, прилетаю в Москву, позвонил Сергею Ковалёву. Он говорит: «Я тебя буду ждать в посольстве». Там какую-то фантастическую сумму с меня заломил таксист — а в то время какие у меня деньги? Я набираюсь ума, чтобы всё-таки ехать не автобусом, а на такси, и всё равно не успеваю. Сергей задерживает — потому что это пятница, — задерживает работников посольства, чтобы они мне выдали визу после окончания рабочего дня.
Я получаю визу, звоню Андрею: «Жду тебя поездом завтра утром». Андрей приезжает поездом, мы берём его на такси, переносим, он садится в самолёт, и один, без сопровождения, летит в Америку. Его провожаем только мы с матерью и с Сергеем из аэропорта. В Америке он попадает в эту ситуацию... Правда, тогда очень много людей бросились помогать... Всё сверх человеческих сил... Катастрофа с ребёнком, катастрофа с её отцом одновременно.
В.Овсиенко: Катастрофа с Украиной, Чернобыльская катастрофа.
Е.Сверстюк: Нет-нет, это же не было одновременно.
В.Овсиенко: Но это было следствие...
Е.Сверстюк: Андрей там остаётся, сдаёт экзамены, то есть пересдаёт за весь курс мединститута. Попадает в резидентуру (это повышение квалификации), а потом ещё сдаёт экзамены, которые показались ему невероятно трудными. Но он большой сдавака. У него тонкий умственный инструментарий. Он знает химию, биологию. Он имеет хорошее образование, хорошую подготовку.
В.Овсиенко: Так он на коляске, или как-то ходит?
Е.Сверстюк: Нет, не ходит. На коляске он выезжает к машине, открывает автоматически машину, едет на работу. Мария отдельно живёт — очевидно, всё-таки надо быть, так сказать, скрипачкой, исполняющей какую-то патетическую сонату, а не просто женщиной, которая живёт в среде молодых людей. Он об этом ни слова не скажет.
«НАША ВЕРА»
Е.Сверстюк: Знаете, надо было бы писать дневник. Я так фрагментарно что-то иногда записываю об этой виртуальной жизни, которая вокруг нас продолжается. Фактически, биография моя в том, что я публикую, в том, что я издаю. Фактически, у меня нет жизни, кроме труда. Это ещё можно было бы хронологически упорядочить по выступлениям в прессе или по выступлениям в аудиториях, а помимо этого я практически не вижу ничего.
В.Овсиенко: С какого времени вы издаёте газету «Наша вера»? Тогда, в начале, она называлась: «Православие — наша вера».
Е.Сверстюк: «Наша вера — православие». С 1989 года. Ей прошло уже 10 лет.
В.Овсиенко: Немногие газеты выжили.
Е.Сверстюк: Немногие газеты выжили, это правда. И знаете, слава Богу. Можно говорить о каких-то тяжёлых и неприятных вещах, но надо говорить и о вещах приятных. Мы никогда не побирались и мало пользовались помощью спонсоров. Есть подписка, есть довольно много ценителей — преимущественно, за границей, потому что те 40 копеек, за которые мы продаём здесь, — это часть цены, и никто бы здесь не удержался в редакции бесплатно.
Я сказал бы, что это тоже очень тяжёлый крест, всегда было очень тяжело с людьми. Несколько приятных людей, с которыми я работал, — и с какими неприятными людьми мне пришлось встретиться в редакции нашей газеты!
Эта газета и спасает, поскольку она является какой-то регулярной работой и поскольку она в какой-то мере оправдывает, так сказать, мой статус. Мне приятно быть редактором газеты — почётным, бесплатным, это делает меня более независимым. Очень трудно мне подставить ногу и «лишить привилегий» — это пробовали делать. Это действительно независимая газета. В какие-то очень острые политические дела мы не встреваем, потому что они не подходят для газеты «Наша вера». Вместе с тем, надо держаться на острие времени. Это как-то постоянно мобилизует. Мне кажется, что она вполне прилично держится и она не ухудшается.
Собственно, если бы мне пришлось работать с коллективом — я бы этого не хотел. Я предпочёл бы дать это в руки другим. Фактически без моих публикаций нет смысла и говорить об этой газете. Там же нет статей каких-то острополитических, у нас нет ни фотокорреспондента, ни обозревателя. Газету делают два человека — Рая Лыша и я. И каждый раз выходишь, как в плавание — нет же запаса материалов. Потом, вдруг надо будет сымпровизировать какой-то неожиданный ход... Юбилей какой-то поставить в новом ракурсе. Или Олены Пчилки, или Сахарова, или Лукаша. Много материалов о Шевченко.
Упрекали, что это Сверстюкова газета. Другие говорили, что именно поэтому её и покупают или подписываются, особенно за границей. Надо сказать правду, что я и до сих пор остаюсь всё-таки человеком, более близким украинцам за границей. В каком смысле? Трудно представить, чтобы где-то за границей не заметили моего имени, но очень легко представить, что в Киеве или в Украине вообще не замечают моего существования. Или не замечают, или не хотят замечать, и явно не будут замечать в определённых кругах. Это объясняется не только определёнными психологическими вещами, не только памятливостью на публикации, а объясняется в большой степени тем вытеснением, которое было в ту эпоху. Я не вошёл в контекст их жизни, а принадлежал к тем именам, которые страх вытеснил из их воображения, из их памяти. Это серое место, заполненное несколькими фамилиями. Если те фамилии — покойники, то их ещё можно терпеть, но если те фамилии ещё из активных современников? Ну, словом, здесь целый комплекс, здесь накладывается одно на другое.
Думаю, можно это проиллюстрировать на таком примере. За границей собирается аудитория, когда услышали, что я приехал и выступаю в Вашингтоне или в Нью-Йорке... Подходят покупать книги. Всё-таки надо признать, я принадлежу к авторам, которых покупают. Мои книги нигде там не лежат, даже сейчас, хоть там украинского читателя всё меньше и меньше.
Итак, стоят люди, я им подписываю книги. Подходит один человек, из Львова, а особенно если из Днепропетровска или из Киева — он понятия не имеет, кто ты такой... Он единственный, кто не имеет никакого понятия! А там имеет понятие каждый шофёр, который просто привёз кого-то — не потому что он так начитан, а потому что это имя вошло в сознание: «Слушайте, я же с этим портретом ходил! Я же перед советским посольством бунтовал и добивался!» И это для него важнее, чем твои книги. Были и такие, в Англии особенно. Но они и читают понемногу.
Должен сказать, что в жизнь, глубокую жизнь того поколения старших людей за границей я вошёл как современник, и это моя читательская публика. Это те граждане, для которых я что-то значу. А в нашем мире это иначе: для одних есть отталкивание, для многих есть незнание, для многих есть какие-то другие сложные и кручёные чувства. Я на каждом шагу встречаю этого украинского гостя, который и себе пришвартовался к очереди — только для того, чтобы сказать: «А я из Львовской области. Я слышал ваше имя когда-то». Вот и всё.
Но я не могу пожаловаться, мне каждый день звонят по поводу радиопередач. Я бы сказал, что это самая эффективная работа. Но по поводу книг — фактически, я живу за счёт этого. Хоть их никто и не финансировал, но что-то немножко давали, чтобы выкупить первую тысячу. Так что в каком-то отношении я бы сказал, что имею определённую обеспеченность и жизнь с литературы.
В.Овсиенко: Что в наше время является большой редкостью.
Е.Сверстюк: Да, действительно трудно себе представить в наше время, чтобы был какой-то доход с книг. Причём, признаюсь, я никогда ничего не получил на мои заявления — я всё время получал отказы по поводу издания книги. Мне несколько фондов отказали. Меня ни разу не поддержал фонд «Відродження». Я сам туда не ходил и не просил, но мне передавали, и я отворачивался. Или фонд Багряного, или Олены Телиги. Счастливая книга «Шевченко и время». Издало Парижское отделение НТШ — Научного Товарищества имени Шевченко. И это меня, бесспорно, очень поддержало, потому что книга недорого продаётся, но разошлась вмиг, как на наше время. Фактически, с лёгкой руки профессора Андрея Жуковского.
В.Овсиенко: А какие люди выдвинули вас на Шевченковскую премию? Это же не так легко было?
Е.Сверстюк: Я думаю, что в моём случае легко было. Предложил Союз писателей. Об этом знаю мало, и прямого разговора не было. Меня через Юрия Хорунжего спросили о согласии. Олесь Гончар очень потянулся, когда увидел, что я сделал первый шаг. Это ещё было при нём, хоть он уже мне не вручал премию 1995 года.
В.Овсиенко: Гончар умер в том же году, что и Патриарх Владимир. Патриарх умер 14 июля 1995 года, а Гончар на несколько дней раньше.
Е.Сверстюк: А премия была в марте 1995 года.
Вообще, у меня какое-то и подозрение, и предосторожность, и в то же время я понимаю, что не могу отказываться, потому что останусь зэком или эмигрантом. Если бы я отказался и не получил премии, то не было бы даже и речи о том, чтобы музей Шевченко предоставил мне помещение для редакции на несколько лет. Так что был вопрос, вписываться ли в контекст этой жизни, или оставаться диссидентом на расстоянии, и на далёком. Конечно, была поддержка со стороны тех, кто писал рецензии на «Блудных сыновей Украины». Я бы сказал, что были очень хорошие оценки — и со стороны Ивана Дзюбы, и со стороны других. Я имел очень много рецензий и на последнюю книгу, «На празднике надежд», и на «Блудных сыновей...» И Гончар тоже её читал, и тоже высказывался устно. Я не сказал бы, что у нас была такая уж откровенность, но при наших встречах было настоящее уважение, серьёзное отношение друг к другу.
Думаю, что Шевченковская премия должна была быть немного раньше — после выхода книги.
В.Овсиенко: Яворивский говорил, что надо было ещё в 1988 году (Смеётся).
Е.Сверстюк: В случае со Светличным — там я приложил руку, и Гончар меня сам благодарил. Они были в тяжёлом положении. Выдвинули Ивана Светличного и выдвинули Надежду Светличную — что им делать? Тогда я дал публикацию в «Літературну Україну» о том, что они делали одну работу, только по-разному. Ивана Светличного не было уже, а Надежда жива — так Ивану и Надежде Светличным надо присудить одну премию. Он так обрадовался, что нашёлся такой выход. А вместе с тем было очень много недовольных, я много шишек за это получил, и, в частности, от Лёли.
В.Овсиенко: Ну, Леонида Светличная редко кого жалует...
Е.Сверстюк: Но были у неё какие-то свои резоны по этому поводу, и я до сих пор рад, что со всеми шишками всё-таки так вышло тогда со Светличными. Это в 1993, кажется, — да?
В.Овсиенко: В 1994-м. Как так вышло с семидесятилетним юбилеем, что украинская общественность, фактически, его не заметила?
Е.Сверстюк: С чьим?
В.Овсиенко: С вашим 70-летним юбилеем? Некоторые деятели устраивают себе пышные юбилеи — в театре Франко, в Национальной опере и даже во дворце «Украина» — Дмитрий Павлычко.
Е.Сверстюк: Подождите. Я не могу сказать, что украинская общественность не заметила. Та общественность, что заметила — та не может организовывать, она просто приходит на мои вечера, и для неё это больше, чем тот юбилей, что в театре Франко или в «Украине». А та общественность, которая себе устраивает, так она, ясное дело, мне не устроит. И она права — зачем я ей сдался? Я ей мешаю.
В.Овсиенко: Это так. Но ваши вечера имеют постоянную и благодарную публику.
Е.Сверстюк: Я думаю, что да. При нынешней бедности аудитории всё-таки эта публика благодарна. Кроме того, для меня большая радость, когда устроили мой вечер в Музее-архиве, за оградой Софийского собора.
В.Овсиенко: Там? А я там не был.
Е.Сверстюк: Это где-то перед тем 70-летием — по их инициативе. Я смотрю — никого нет, собрались знакомые, Нина Матвиенко волнуется: что же это такое? Аж смотрю — идут, идут, идут. Полно. Лицеисты пришли. Пришли — и это большая радость иметь такую аудиторию. Это благодаря Алле Ткач, но не только ей, конечно. Это моя постоянная аудитория, все эти выпуски Национального гуманитарного лицея. Я сказал бы, что это лучшая аудитория, чем та, которая приходит в театр. Хотя в театр приходит очень разная аудитория, очень разная — может, частично и та же самая. Словом, я могу сказать, что имею благодарного читателя. И это начиная с 1960-го года. Тогда я сразу получил читателя — и того, что снизу, и того, что сверху.
В.Овсиенко: Я тоже из тех читателей, потому что читал и «Собор в лесах», и «Иван Котляревский смеётся», и «На мамин праздник», и «Последняя слеза». Это проходило через мои руки и сознание.
Е.Сверстюк: Это уже в конце шестидесятых годов.
В.Овсиенко: Я с весны 1968 года имел доступ к самиздату, начиная с Ивана Дзюбы. Правда, ещё под конец 1967 года имел дневник Симоненко — это было самое первое.
Е.Сверстюк: Это то, что вас пробудило?
В.Овсиенко: Я осенью 1967 года стал студентом Киевского университета, и тогда приобщился к литературе самиздата.
Е.Сверстюк: А вы знаете, я хотел бы здесь ещё затронуть такую тему. В 60-х годах больше всего интересовались не той литературой, которая «против», и не той, которая «острая». Больше всего интересовались теми вещами советских классиков, которые не печатаются. Можно было сотню страниц Маланюка прислать, а параллельно преобладал какой-нибудь средний стих Сосюры, которого не печатают. Или Тычина непечатаемый — это производит большее впечатление, потому что его уже знают и с большим удивлением открывают, что его тоже не печатают. Я помню, как пролог к поэме «Мазепа» Сосюры тогда звучал, как дневники Довженко звучали. То есть тот, что вошёл в наш мир, что нами пережит и в какой-то мере осмыслен — а оказывается, что он тоже был такой, как мы. Потому что это же не просто один из стихов, а то тот потаённый, главный стих, которого не печатают. Вот как мы всё это открывали. А некоторым думалось, что когда они передадут решение сбора ОУН, то эта литература здесь будет будить людей... Она будет будить только тех, кто был в рядах ОУН и кто привык к этой литературе, привык связывать с ней какие-то перспективы. А для литературного и широкого культурного круга самое главное всё-таки — это литература, запрещённая в УССР, такая родная и неожиданная, что соответствовала нашим слухам — о том, что Рыльского арестовывали, что Сосюру гнали и преследовали и так далее. «Расстрелянное возрождение» Юрия Лавриненко — это был колокол! Но не тиражируемый. Я думаю, что эта советская драконовская система разбудила эту живинку в литературной среде, интерес к литературе, к тексту и подтексту, к пропущенной строке, к политическим проблемам — в большей степени, чем анекдоты. Ну, анекдоты — это общий десерт. А здесь была такая трепетная и опасная струна! А потом в большой степени — классики, которых тоже не печатали. Если бы нам дали всего Самийленко так, как дали почти всего Шевченко, это не дало бы результата. Но когда нам показали стихи, которые проскочили цензуру, запрещённые вещи Франко, то мы стали читать именно те вещи, которые не входят в избранные произведения, которые не входят в программу.
Стали тянуться к именам, которых не разрешают. Я бы сказал, что эта цензура сыграла и стимулирующую роль. Я помню, как в 60-е годы я спорил с Иваном Дзюбой: «Пусть они лучше запретят украинскую литературу. Пусть её просто запретят — это будет лучше». — «Ну, это было бы смертельно. При нынешнем режиме, если бы её запретили, то это не то, что при царском режиме. Она бы так и осталась запрещённой».
Конечно, всё это — умственные эксперименты, потому что практически это было невозможно, чтобы её запретили. Должна была быть игра. Большевики никогда без игры не обходились. Должна была быть полуправда, полулюбовь-полуненависть и так далее.
В.Овсиенко: Будем завершать, потому что уже вот-вот полночь... Сегодня у нас ещё пока что 9 января...
Е.Сверстюк: Третий день Рождества.
В.Овсиенко: Двухтысячного года. Вот видите, никак не привыкнем произносить... На этом я искренне благодарю вас. Я отнял у вас так много времени. Но если записано — то уже не пропадёт.
Е.Сверстюк: Ну, что-то, может, из этого и выйдет.
В.Овсиенко: Дай Бог!
ВМЕСТО ЭПИЛОГА (Год 2005-й)
В.Овсиенко: Как вы видите свою жизнь? По сравнению с теми мартирологами, которые я записывал с уст участников национального сопротивления, у Вас, можно сказать, исключительная страница. Но трудно представить себе в том сюжете какие-то полянки для радостной жизни или хотя бы спокойного труда. Ведь ныне Вам уже под 80, а вам устроили погром в редакции газеты «Наша вера» едва ли не хуже, чем большевики, при том ещё и приодевшись в рясы. Это же выходка Мефистофеля... Нельзя представить, чтобы это случилось с кем-либо...
Е.Сверстюк: Знаете, на уставшую голову приходят иногда мысли: «Хватит... Уже не будет у меня искания квартиры... Искания работы... Тревожных снов перед 1 сентября, когда так хотелось к детям в школу... Увольнения с работы «по собственному желанию»... Заявлений и объяснений... Не будет судов и оправданий, страха опоздать на пять минут, обысков, этапов в неизвестное место ссылки, регулярных заявлений в прокуратуру, шпиков, доносов и постоянного ощущения злой силы, которая ходит за тобой и готовит ловушки. Всё: ваш мир ловил меня, но не поймал! Но человеку свойственна тяга к игре. Фактически я терпел преимущественно поражения, особенно тогда, когда при обыске изымали диплом, который тебе «уже не пригодится», а в лагере № 36 вручали диплом на право обслуживания паровых котлов, но не доверяли этой привилегированной работы, потому что ведь нельзя обеспечить постоянного надзора.
В.Овсиенко: Василь Стус называл это путём потерь.
Е.Сверстюк: А, с другой стороны, Провидение готовило мне постоянно восходящую дорогу. В начале 60-х я понял, что анонимным ударом меня спасли от судьбы провинциального преподавателя, вечно подозреваемого. В середине 60-х я понял, что запрет печататься поставил меня выше тех, чьи книги издают. В 70-х годах я понял, что мы, узники совести, переходим на поле международной игры, где место Украины до сих пор пустовало. А в письмах заведующего славистическим отделом Торонтского университета профессора Юрия Луцкого я почувствовал, что одно моё письмо из Сибири для него весит больше, чем визит официальной делегации из Киева. Он же издал в Гарварде свой перевод с украинского на английский моих эссе, что значило много не только для багдаринского столяра. Конечно, я об этом даже не знал. В конце 80-х я почувствовал, что передо мной открывается давно невспаханная нива духовной культуры, и на этой ниве, по сути, некому работать... Оказалось, что обычное образование, даже если оно отличное, не даёт знаний и ещё чего-то нужного для труда на этой главной ниве. Я издаю 16 лет газету «Наша вера» и счастлив от того, что много людей во всём мире читает её от слова до слова — просто потому, что она даёт пищу.
Вы мне скажете с улыбкой, что члены Союза писателей, в основном старшие, не читали эту «Нашу веру» или слышали и думают, что редактор на старости впал в «клерикализм и поповщину». Не надо обижаться: ведь они считают Маркса и Ленина великими философами, а религию — традиционным дополнением к быту.
В.Овсиенко: Однако уже все ритуально крестятся. Может, их потомки будут креститься искренне. И помалу-помалу наш народ нащупает натруженными ногами утраченную дорогу. Ту: «вспаханная чёрная дорога кипит. Нет ни знака от древнего пути».
Е.Сверстюк: Итак, я остановился на такой высокой дороге, что остро чувствую: здесь нужен кто-то моложе и выше. Но если хоть что-то взошло из посеянного, то это очень важно, потому что это главная нива, где засветится лицо украинского народа и с чего может начаться его возрождение.
В.Овсиенко: И ещё — об открытом письме Василя Стуса, написанном уже после суда, 22 сентября 1972 года. Есть объяснение самого Стуса. Есть тенденция его смаковать. И всё же — что это? Потому что кому же ещё задать такой вопрос?
Е.Сверстюк: Василь Стус не мог объяснить всего, что лежало за этим одиозным «письмом», которое было одним из моментов его неравной борьбы на следствии.
Ни в одном уголовном деле 70-х годов не найдёте таких эмоциональных надрывов и откровенных «признаний» (не записанных в протокол), как в Стусовом. Вполне закономерно и ожидать надрывных попыток самозащиты....
После осуждения была у Василя встреча с отцом. Мы не знаем, что говорил старый, прибитый горем труженик своему сыну. Но он принёс на своих согбенных плечах всю сыновью биографию. А та биография была лояльной, донецкой, советской. Её эпизоды можно было начинать словами, «Я, как и все...»
Эпизоды противостояния фиксируются аж в 1965 году. И тёртым кагэбэшникам ясно, что всё это — под влиянием киевского окружения... Очевидно, это обыгрывалось и на следствии. И были напоминания: вам только за 30, ваша биография хорошо началась, и родители, и семья вправе надеяться...
Всё это было чистейшей правдой, если брать правду личную...
В.Овсиенко: Многие из нас испытали эти терзания душевные, о которых «любимый всеми нами» Карл Маркс как-то сказал примерно так: «Никто не причиняет больше страданий своим родным, как тот, кто вознамерился осчастливить всё человечество».
Е.Сверстюк: А теперь подойдём к ситуации со стороны творческой личности, которая себя ещё не реализовала, а ей предлагают тёмные коридоры и казённый дом...
На допросах поэту предлагают чужую игру, на чужом поле. Они загоняют на скользкий пятачок, навешивают грубые обвинения и предлагают защищаться грубым способом, что в их правилах. Они унижают поэта, намекают, что он не является и никогда не будет членом СПУ. Но поэт в своей камере — снова поэт, и актёр, и режиссёр, который не принимает игры на чужом поле, не принимает навязанной ему роли, по которой они — на стороне правды и закона, а он — «скрывает свою деятельность, своё истинное лицо, свою суть...»
Они профессионально «срывают маску националиста», так же, как в тех же кабинетах ещё позавчера они срывали маску «врага народа» с каждого, кто попадал туда. И каждый, кто попал туда, понимает, что здесь игра в одни ворота, что он потерпит поражение — сокрушительное и окончательное. И что единственный шанс, который они предлагают, — это саморазоблачение и «разоружение». В этих чёрных кабинетах люди ломали себе голову: что им сдавать? Какое оружие? Тайн, заговоров, конспирации нет, а что-то надо дать в зубы... Лукавому. По ту сторону стола он сидел и подсказывал, в каких именно преступлениях надо признаться и «чистосердечно раскаяться».
Перед Василем Стусом в 1972 году сидел Лукавый, призванный уже не ломать хребты, а только сгибать и отпускать согнутым. Однако сам поэт в своей камере рассудил, что в игре с Лукавым можно себе позволить лукавство и будто бы принять правила игры и всунуть ему в зубы «открытое письмо» с отречением от «националистической платформы», которую ему приписывали. Одновременно, не особенно сгибаясь, он покаялся за острое выражение «кодло бандитов-кагэбэшников, воров и насильников в стольном граде засели как партия большевиков». Этого было недостаточно для покаяния, и «открытое письмо» не пустили в игру.
Ныне наивные комментаторы пишут и о нарушении «собственных этических норм», и о «страшных отступлениях», а на самом деле это была попытка принять их язык, чтобы быть услышанным и избежать «дороги в никуда».
Если говорить об официозе, то это был язык, привычный для него, и с «моралью» здесь было всё в норме. Если говорить о читателе, которому адресовано это унизительное письмо, то он мог бы воспринять его рассудительно как единственно возможную форму самозащиты поэта, которого ни за что преследуют и годами травят.
Итак, это письмо я воспринимаю как эмоциональное, но неуклюжее и неэстетичное движение с целью высвободиться из объятий змея. Подчёркиваю — естественное движение, над которым не надо останавливаться глубокомысленно, с глупыми комментариями и патетическими возгласами.
Почему письмо не было принято?
1) Здесь не было согнутых обязательств.
2) «Письмо» не соответствовало характеристике Стуса на следствии. Ведь такие «письма» резюмируют, а не просто резонируют. Было ясно, что на воле Василь пойдёт к семьям своих друзей, будет писать письма в лагеря к друзьям и дальше защищать их. Будет портить игру.
3) Не было следователя Кольчика, сверху настроенного «пробивать» освобождение Стуса.
4) Василь Стус не был для них проблемой. Они понятия не имели, кто он и какой величины.
Итак, скорее — и на этап...
В моём случае — была большая огласка в мире и смысл «выбить заявление». Но — я был чужой. Из «бандеровской семьи» («Сколько волка ни корми...»). «Идеологически чуждый нам», «молится своему богу». Следовательно, такого нет смысла поощрять ни к покаянию, ни к сотрудничеству.
Почему я понимаю письмо Василя? Все мы хотели вырваться. Есть неписаное право защищать Богом данный талант... Все не против были в чём-то признать за ними право: я же не отрицал, что шёл против течения го-да-ми... А они же — власть!
Я не притворялся в симпатиях к коммунизму, а добивался права жить, не нарушая законов. Но ведь у них неприятие коммунизма — преступление. После этого мне не было смысла играть в идеологическую лояльность. Правда, я ещё и на этапе писал «кассации», но они сводились к разоблачению подтасовок в приговоре. Это тоже был текст унизительный. Гордыми антикоммунистами мы стали уже в лагерях. Там уже «дела» были закрыты — начался новый акт драмы. Там Василь написал свой комментарий к этому «открытому письму», не коря себя: это был приём самозащиты.
Почему я против публикации этого письма? Оно уже публиковалось теми, кто в конце 80-х силился показать, что Стус почти такой же советский, как они — «сын Родины». И не их вина, «что так случилось». Но когда это перепечатывает сын Василя Стуса через 20 лет после гибели отца, то это уже использование вражеской публикации, похожее на смакование отцовской беды, организованной палачами для унижения гордого поэта. Всё имеет свои нюансы, и всё дело в нюансах. Особенно когда эта книга хорошая, написана с чувством слова. (Стус, Дмитрий. Василий Стус: жизнь как творчество. – К.: Факт, 2004. – 368 с.).
Почему я против перепечаток Стусова «покаяния»?
Я вообще – против перебирания чужого белья. А это именно грязное бельё, а не костюм.
Есть вещи, которые мы думали, но не делали.
Есть черновики намерений.
Есть вещи, которые имеют не тот смысл, который вычитал равнодушный читатель, которому и так «всё ясно».
Всё это может храниться в архиве для исследователей. Но выставлять это как цимес для профанной публики – нечестно и некорректно.
Наконец, человек имеет право выбирать, планировать, конструировать судьбу и допускать определённый уровень компромисса с обстоятельствами.
И герой, и святой – каждый имеет своё прошлое, как говорит Ницше, «человеческое, слишком человеческое».
Выставлять на суд – можешь себя, если ты Руссо. Но выставлять на суд толпы чужое, выставлять ближнего – это именно тот случай, по поводу которого сказано: «Не судите, да не судимы будете».
Одним словом, Василь Стус заслуживает большего уважения.
Течение жизни имеет тенденцию разливаться по мелководью. Большинство биографий, даже рыцарей, – это географические широты, по которым гонит человека ветер времени.
А собственно сама жизнь определяется вопросами, которые ты задал там, где привычно было молчать. Шагами, которые ты делал против течения. Светом, который ты зажёг среди тьмы и посреди сетований на тьму.
А в общем, нас не очень волнуют события позавчерашнего дня и люди, исчезнувшие в этих событиях, уплывшие по течению. История сохраняет на семена пример тех, кто нёс призвание и долг, бившийся в ритме сердца.
Какие вопросы ты задавал своему времени?
Чем ты останавливал толпу, летевшую по ветру?
Как ты будил сонных?
Как ты боролся с застойным морем равнодушных и тёплых?
Как тебе удалось обратить человека к Богу и к «вере, что двигает горы»?
Конечно, водами, которые спали, не запустишь водяную мельницу. Но опыт и пример – вечно живая сила.
В. Овсиенко: Роман Корогодский в своей работе «Феномен и проблемы великой веры» противопоставил натуры Сверстюка и Дзюбы и считает субъективным очерк «Иван Дзюба – талант и судьба».
Е. Сверстюк: Не мне судить о ценности моих работ. Порой бывает, одно произведение вызывает противоположные мнения. Эссе «Нецензурный Стус» понравилось Лине Костенко, но не понравилось Михайлине Коцюбинской и Роману Корогодскому. Возможно, из-за какого-то их отношения к автору изданной Корогодским книги «Канон и иконостас» Марка Павлышина, чьи рассуждения о Василе Стусе я прочёл очень критически. А уж такие вещи, как «Товкоцкий и Великая Птица», и вовсе разобщили читателей. Думаю, это связано с моими оценками недопустимого в литературе. Неправдивые суждения о Василе Стусе, будь то из-за непонимания его текста или из-за конъюнктуры времени, вызывают у меня и возражение, и возмущение. Другие люди относятся спокойно «к ошибкам человеческим».
Что касается статьи об Иване Дзюбе «Талант и судьба», то это даже не очерк об Авторе, а скорее исследование о судьбе выдающегося таланта под гнётом диктатуры. Поскольку я сам испытал такой же гнёт, то я, естественно, выступаю защитником. Защищать талант у нас есть от кого. Начнём с того, что очень многие судили Ивана Дзюбу уже после того, как его осудил режим. Это можно понять, ибо он был знаменем. Но этого нельзя принять потому, что немногие имеют право его судить. На мой взгляд, право на это имеют лишь люди узкого круга и родственной судьбы.
Все свои эмоции и претензии я попытался собрать в корзину прошлого, и осталась давняя большая приязнь, которую я всегда испытывал к этому человеку, с самой первой встречи. Приязнь и уважение. Поэтому меня всегда возмущало, когда некий X говорил мне: «Я ещё напишу о Дзюбе всё, что о нём думаю». Некоторым я советовал: «Не спешите, нам же от этого только польза». Некоторых осаживал: «У вас нет высоты, чтобы видеть Ивана Дзюбу». А они упрямо хотели и хотели его «вывести на чистую воду». И тогда я подумал: негоже мне молчать и смотреть, как потекут потоки такие, какие текут в устных разговорах.
Итак, я взялся за эту тему, заведомо неблагодарную тему, чтобы остановить желающих. Мне показалось, что должны же прочитать те, кто хочет писать, и это их остановит. У нас достаточно «против», нужна позитивная мысль, честное свидетельство. В конце своих размышлений я, легкомысленно может быть, обыграл возможные упрёки, что, мол, «хотел поговорить о себе», и увидел, что Роман, такой тонкий аналитик, тут же подхватил эту «утку».
Смешно. Ведь мне есть что сказать о себе под более привлекательным названием. И есть издатели. И есть много тех, кто напоминает: пора. Очень мудро говорил мне об этом Мыкола Руденко, с которым у нас всегда было понимание и искренний разговор.
Но мои воспоминания походили на исповедь, а нынче это не интересно. Да и времени у меня нет: то издание газеты и статьи для газет, то воспоминания о друзьях, то реставрация зарисованных портретов классиков, то литературные вечера, то постоянные приглашения из-за моей безотказности. Я катастрофически размениваюсь на латание дыр нашей неорганизованной культурной жизни, напоминающей произвольную охоту на бабочек в поле.
Тут едва успеваешь писать эссе для радио и некрологи.
В размышлениях о таланте Ивана Дзюбы мне было интересно затронуть заманчивую тему БОЛЬШОЙ ИГРЫ. Ведь у великой личности есть большая игра в расцвете лет, или пророческая вспышка, или попытка изменить мир, или дерзость переходить запретные зоны. Ведь жизнь – это игра, и слава Богу, когда тебя не бросили в чужую игру бумажным солдатиком, а ты сам можешь выбрать честную цель, дорога к которой проходит по краю бездны. В моей утерянной лагерной поэме «Колокола» есть даже такой образ:
На схилі гори, на краєчку безодні
Позбиралися діти
для чесної гри
під небом Господнім.
Так завжди під Сонцем:
хто входить в життя –
починає сьогодні!
Иван Дзюба вёл талантливую и смелую игру с драконом, именно поэтому был любимцем молодёжи.
Одним словом, меня возмущало, когда на него стали налетать воробьи, которые вообще вне игры. А роль защитника – это моя природная роль с малых лет. Взгляните под этим углом зрения на все мои публикации – и увидите в них этот «чеховский мотив».
Опасаясь нарушить меру, я, конечно, давал читать первый вариант и самому Ивану Дзюбе, и другим культурным читателям – на пробу.
Для меня важно прежде всего то, чтобы не было фальши и ложных свидетельств. А о субъективности суждений – об этом пусть уже судят те, чьи суждения объективны.
Кстати, после прочтения воспоминаний Ирины Жиленко я сгоряча хотел оспаривать некоторые её мысли о Василе Симоненко, Алле Горской. Но сказал ей об этом, и она была не против, но чтобы на уровне констатации. А теперь у меня уже нет охоты возражать: пиши своё видение иначе, давай свои факты. А то, что она пишет, – это её образ.
В. Овсиенко: Воспоминания Ирины Жиленко – это пласт восприятия известных личностей, которого редко кто решается коснуться: очень личностный, эмоциональный. И очень проницательный, хотя и с определённой долей отстранённости: она ведь не была «активной соучастницей».
Е. Сверстюк: Я об этих годах и личностях люблю вспоминать с оттенком идеализации. Сейчас может и не поверят, что среди литературной братии была такая безоблачная атмосфера доброжелательности. Мы радовались успехам другого, а если была зависть, то, как тогда говорили, «хорошая зависть». Очевидно, этому способствовала атмосфера преследований и «честной бедности». Но следует иметь в виду, что люди морально несовместимые не были вхожи в наш круг. А когда хотели войти, то должны были считаться с нашим стилем взаимоотношений.
Я думаю, этим объясняется надлежащее поведение на следствии: противник встретился с необычным явлением: с врагом, которого уважал.
Я думаю, интересно было бы сделать выписки оценок, которые мы давали друг другу на вопросы следователей. Ведь это жанр и характеристики, и самохарактеристики прежде всего. Следствие ожидало компромата или хотя бы «отмежевания».
В. Овсиенко: Интересно, что с тех пор произошло столько великих исторических событий, а мысль возвращается к тому времени, когда события планировались сверху.
Е. Сверстюк: У Байрона есть рассуждение на эту тему: «Не ищи славных в истории: дни нашей юности – это дни нашей славы». Нам с вами выпали серые времена, когда историю творила «коллективная мудрость партии», и она гнала массы на «трудовые подвиги», разоблачая тех, кто «затаился в щелях». Врагом считался уже тот, кто не шёл с массой и не прятался. Но «особенно опасным» считался тот, кто решался со стороны показывать на них пальцем, улыбаться, да ещё и создавать свою сцену, на которой играл свою роль, да ещё и отстаивал право быть собой. На таком фоне даже маленькие шаги против течения были политическими и казались большими. Когда тысячи людей, выгнанных на «октябрьскую демонстрацию», идут с транспарантами по Крещатику – это не событие. А когда один встал на тротуаре с транспарантом «Позор КПСС!» – это событие!
Вот мы и собираем крохи, где засветились дни нашей молодости – какими-то искрами. Некоторые поэты-коммунисты не могут найти в своих книжках строк, которые свидетельствовали бы о какой-то позиции или достоинстве, и тогда они вспоминают, как их «преследовали», как в том анекдоте про номенклатуру, похожую на вареники в макитре: все купаются в масле, всех трясут, но если какой-то вылетел – назад уже не положат... А между тем одно из самых невинных стихотворений Василя Симоненко «Ты знаешь, что ты – человек» было словом, которое становится событием, потому что напоминает и на миг останавливает: задумайся!
Мы возвращаемся ко дням юности... К месту первого знакомства... К поляне первой встречи... К школе, где после нашего поэтического вечера директор тихо прошептал: «Мне кажется, что советской власти уже нет»... К роялю, где играла сонату нынешняя жена... К окну в тени ивы, где была редакция, куда заходили лучшие люди того времени... К памятнику, у которого ловили студентов... К месту литературно-музыкального вечера, с которого выходили с факелами... К каштану у здания суда, где раздавали букетики на случай, если удастся попасть на оглашение приговора политзаключённому... К месту, с которого смотрели на библиотеку в пламени... К встрече, где откровенно и рискованно называли вещи своими именами... К последней встрече с поэтом, который потом исчез с горизонта...
«Всё то, что на сердце легло» – пелось в песне того времени – и создаёт образ 60-х годов, к которым возвращаешься сердцем. Выбранные дороги имеют особую значимость, когда на тех дорогах звучали твёрдые отчаянные шаги в настороженной тишине.
В. Овсиенко: Почему-то не слышно теперь таких шагов...
Е. Сверстюк: События же после падения империи пролетали над головами, потому что исчезла острота риска и суровость личной ответственности. Написанного кровью не сравнишь с написанным чернилами.
Для чего мы пишем
Кровью на песке –
Наши письма не нужны природе, –
пел бард Булат Окуджава. Природе, может, и не нужна та кровь. А человеческие сердца прикипали именно к написанному кровью... на песке.
Наконец, надо сказать, чем мы были богаты в молодости. Богатства земли, товары «ширпотреба» и жилая площадь принадлежали не нам. Но голубое киевское небо, весенние и осенние парки, Днепр и киевские кручи, электрички и ночные троллейбусы, почти чистый воздух и вода и, как тогда говорили, «дары осенних садов» – всё это принадлежало нам. На киевских склонах пустые храмы и музеи принадлежали нам. Киев был родным домом, хотя и перенаселённым серым пришлым людом...
Когда спокойно воспринимаешь социальное неравенство и мыслью возносишься над реалиями жизни, то становишься богаче и даже роскошествуешь. Более того, даже сочувствуешь вечно озабоченным владельцам дач, богатых квартир и неблагодарной челяди, которая хочет всё больше и больше – любой ценой!
Когда ты любишь и когда тебя любят – чего ещё надо? Ты выходишь своей тропой на великую реку любви, что питает мир. Оглядываешься. А тут своими тропами сюда же тянутся и твои друзья или те, кто становятся друзьями.
Один гигантский источник света был в затмении. Мы не могли читать и популяризировать Библию. Мы не могли ходить в Церковь, потому что не видели никого, кто выходит оттуда смелым, высоким и просветлённым. А может, я в плену времени и не смотрел в ту сторону? Не было у нас эрудита Аверинцева с его библиотекой, не было даже хорошего батюшки, вокруг которого собираются. Потому и не была Церковь под обстрелом, что не было... Тогда как для Польши Костёл был великим спасением и местом борьбы. Ностальгические мотивы Экзюпери щемили мне сердце, и почему-то хотелось, чтобы это была ущемлённая вера в Бога.
Когда появился «Собор» Олеся Гончара и вокруг него завыли голодные волки атеизма – я без раздумий бросился спасать его, себя и всё, что под угрозой, затоптано, заброшено. Это был мой прорыв к источнику света. Прорыв в «Самиздат»...
Всё-таки главное, чем мы были богаты: мы почувствовали себя наследниками. Не материальных богатств, которые были сколлективизированы «для народа» и отчуждены от народа. Туда мы не тянулись, да и доступ был строго воспрещён.
Мы почувствовали себя наследниками духовного наследия Украины, по сути ничейного и «никому не нужного». «Прекрасное будущее» строится без него, но с использованием для декора «отдельных элементов».
Мы увидели наше тысячелетнее наследие в немногих храмах, заросших бурьяном, сохранённых как исторические реквизиты. Мы поняли, что наши Апостолы правды и науки превращены в рекламные щиты, несущие агитационный материал для строителей коммунизма. Мы почувствовали, что наш язык пока ещё остаётся жить под пристальным надзором, хотя уже понятно, что он не понадобится даже при будущем «слиянии языков», потому что его заменит русский. Святыни наших предков и святыню культуры мы увидели в паутине строительных лесов, которые должны имитировать «заботу о культуре» и показывать намерение реставрации и сохранения – в роли музея для туристов.
Но главное, что открыл каждый с болью и стыдом, – это подмена слов и понятий, лукавый «новояз», над которым Оруэлл в Лондоне смеётся, а мы вынуждены им пользоваться и – о Боже! – реализовывать себя в нём! Мы уже в нём живём, ещё со школьных лет. И немногие из нас начали тихо, по кусочку отшелушивать его, как омертвевшую кожу.
Главное неприятие фальши у многих началось, конечно, с официального сообщения о том, что наш вчерашний «отец, вождь и учитель» на самом деле был великим преступником перед своей партией, а объявленные им «враги народа» были невинными жертвами в его колоссальном драматическом спектакле «классовой борьбы».
В. Овсиенко: Стало быть, если их «террористические планы» и «уголовные дела» сфальсифицированы, то кто же поверит, что всё остальное – правдиво и честно? Но кто прямо скажет, что вся ленинская идеология является системой лжи, сфальсифицированных фактов и паутиной правдоподобия, которые нужно принимать за правду под страхом наказания? Кто встанет под колесо прогресса так, чтобы его не схватили как психически больного?
Е. Сверстюк: Итак, творческая молодёжь 60-х почувствовала себя наследником духовного наследия, которое валялось разбросанным под ногами «масс» и не имело цены, как воздух, солнце и вода. «Ты знаешь, что ты – человек?» – это первый элемент самосознания. Художник задумался, что он художник по милости Божьей, а не исполнитель заказов. Поэт воскликнул: «Мы снова есть!» Литературный критик начал читать Шевченко вдумчиво, без перевода его на «новояз» и пробовал опереться на официальные призывы к «творческому подходу».
Когда тот небольшой круг отважных без героической позы начинает со своего уголка расчищать Авгиевы конюшни благонадёжности, «народности и партийности», то за ним же наблюдают и те, что снизу, и те, что приставлены наблюдать. Он становится под обстрел! А в то же время он должен делать свою работу так, чтобы это было красиво и умно. Вот почему шестидесятники восстали и понимали друг друга.
«Дни нашей юности», запоздалой и прибитой войной, были наполнены трудом бескорыстным и неблагодарным, были собиранием того, что считалось ненужным и устаревшим, но также и скрытым и запечатанным. В конце концов, заклеймённым. Но как оно сверкало, как находка!
В. Овсиенко: Конечно, тут появилось и самоуважение хозяина, и насмешливость по отношению к слугам «партии и народа». А бывало же, вам напоминали о скромности: «скромности больше».
Е. Сверстюк: Правильно напоминали. Об этом всегда не мешает напомнить. Только кто напоминает? Преимущественно напоминали обладатели скромного таланта. Были и более острые конфликты, когда Мыкола Винграновский сказал, что у нас сержанты в литературе играют роли генералов, и кое-кто обиделся, приняв на свой адрес, как намёк на своё воинское звание. Вся же сознательность была напрочь военизирована, да и жизнь считалась «борьбой за победу»...
В. Овсиенко: За саму попытку демилитаризации сознания били, как за попытку «разоружить»!
Е. Сверстюк: Даже за попытку оценки и разоблачения явления милитаризации, когда указывалось место, где она притаилась с маской «борьбы за мир»... Но особенно обижались майоры КГБ за то, что их не боятся. То есть все же боятся, а вот эти дошли до того, что не боятся...
В. Овсиенко: Ведь они главная контролирующая и сдерживающая сила, а страх – инструмент власти.
Е. Сверстюк: Да, фактически они контролировали все учреждения и всё покрывали сеткой агентуры, так что каждый должен был чувствовать себя под оруэлловским телеэкраном. Их возмущали позы тех, кто чувствовал себя внутренне свободным и вёл себя так, будто их нет. (Правда, был популярен анекдот о храбром зайце!).
В. Овсиенко: И правильно возмущали, потому что не все понимали их повсеместное присутствие, а игнорирование – это же вызов.
Е. Сверстюк: Были, правда, сферы, где они не знали, как там проконтролировать идейность художника или учёного. Но там у них были свои академики, которых надо было бояться.
Итак, всё действо шестидесятых происходило под Дамокловым мечом, который хоть завтра может упасть на голову. А действо же должно было быть и глубинным, и высоким, и откровенным, иначе это не действо, а дуля в кармане. И должно быть стоически спокойным, потому что народ не верит неврастеникам. Знаете, провести такую игру 10 лет под тотальным прессом служебных притеснений, репрессий, судов «общественных» и «народных», ущемлений материальных и моральных, и при этом сохранить душевное здоровье и достоинство (ведь «народ» же ждал и примера гражданского достоинства!) – этого достаточно, чтобы запомнить на всю оставшуюся жизнь.
Но всё это, ту свою правду и веру, надо было ещё и закрепить ценой оставшейся жизни, потому что именно такую цену означали тогдашние приговоры, которые продлевались новым сроком.
Это было оценено на Западе, который теперь обратил внимание на украинцев, хотя они за всю историю ГУЛАГа составляли там половину контингента. В Европе уже такую цену за свободу слова не платили. Это было неслыханно и даже захватывающе. Защита правды, защита слова и плата за слово жизнью – к таким феноменам потянулись молодые идеалисты Запада и часто называли себя нашими сёстрами и братьями. Они были влюблены в Валерия Марченко и Зиновия Красивского и других братьев по духу. Что такое оценят именно на Западе, к этому мы привыкли ещё со времён Мазепы. Явления духовного порядка говорят душе свободного человека. Невольники и рабы их зрительного поля не ценят.
В. Овсиенко: К тому же когда сюда направлены радары и телекамеры, которые следят.
Е. Сверстюк: Информационность – это само собой разумеется. Но нашему человеку мешал ещё и страх, и официальные стандарты оценок, и рабские комплексы. Глаза, опущенные долу, не смотрят на то, что выше поднимается. А свободный взгляд видит и выделяет то, что оригинально и чем-то ярко. Рабский взгляд всё подгоняет под свои стандарты. Думаете, случайно в изданный уже в 90-е годы академический курс украинской литературы не попали шестидесятники? Даже Довженко вошёл туда в старом формате...
В. Овсиенко: Вас, очевидно, характеристика в формате шестидесятника и не удовлетворит. Если посмотреть библиографию, то список ваших публикаций до ареста занимает семь страниц, а список после 1972 – в десять раз больше.
Е. Сверстюк: Конечно, и по количеству, и по весу – это совсем другой уровень самореализации. Свобода слова для тех, кто боролся за неё, значит очень много. Тогда как для тех, кто её не завоёвывал, – это лишняя забота и усложнение на всю жизнь, ведь мысль ищет не глубины, а границы, которую хочется переступить.
Если сравнить мир 60–70-х с миром 90-х и началом XXI века – то это разные миры, и этого перепада психика многих не выдерживает. Тогда казалось, что земля крутится в замедленном темпе, что кремлёвские злые карлики заколдовали планету, чтобы продлить себе жизнь у власти. Когда я вернулся в Киев после 12 лет, какой-то майор КГБ любезно информировал меня об изменениях: «Построен в Киеве памятник „Мать-Родина”, реставрированы Золотые ворота, а в общем изменилось мало, сами увидите».
– Я вижу, что и вы не изменились, остаётесь в форме, – заметил я. – Трудящиеся перевыполняют планы, и у меня есть шанс укреплять могущество родины ещё 5 лет в столярном цехе.
И действительно, о «перестройке» из Москвы доходили глухие слухи. Заводские цеха продолжали работать в основном «на оборонку». Рабочие тянули от получки до зарплаты. Старые помещения и изношенные станки не обновлялись. Люди преждевременно старели, спивались... Из лагерей приходили вести о смерти наших друзей. Стабильность застоя продолжалась вплоть до Чернобыльского взрыва 26 апреля 1986 года. Взрыв этот также не сразу осознался. Мир застоя был настолько слеп и глух, что сперва решил его умолчать. Во-первых, в Москве не было взрыва, а где-то там на провинции. Во-вторых, умолчали же голодомор 1933-го – и сошло. Холуй Щербицкий сделал решительный маскировочный манёвр: вывел детей на демонстрацию 1 мая 1986 года.
Но Москва уже стала агитпунктом «гласности», иностранные корреспонденты зачастили... А главное – в небе понеслись радиоактивные тучи на Запад, и там среагировали. Уже в Европе произошёл радиоактивный взрыв!
В сочетании с информационным взрывом, который делал недействительным «железный занавес», и с экономическим кризисом в «бескризисной системе», атомный взрыв в Чернобыле перешёл из разряда аварий в категорию катастроф. Эта катастрофа сломала железный стержень коммунистической системы. Я и мои коллеги со «сторублёвой» зарплатой ещё боялись опоздать в цех на 10 минут. Более дорогие рабочие «секретного цеха» берегли «государственную тайну». Секретари райкомов и парткомов равнялись на Щербицкого. Коммунизм – это навсегда! Этот тотальный плен, во всяком случае, до конца нашего века... Но радиоактивный ветер навеял всем – и тем, кто сверху, и тем, кто снизу, – большой знак вопроса.
Когда наступил тот великий излом истории? В 1986-м? В 1989-м, когда пали цензура и террор? На переломе тысячелетия? В наших душах тот режим ещё долго продолжался, а в некоторых продолжается до сих пор... Но в самой сути излом произошёл, когда упала «Звезда Полынь»...
Мне запомнился один майский день 1986-го. Я получил наряд в ателье индпошива на улице Петра Запорожца. Меня завели в подвальное помещение, посреди которого лежала куча ломаных стульев и столов: «Ремонтируйте, здесь вам никто мешать не будет».
На всём лежал слой пыли. Я подошёл к окошку, из которого сверху веял ветер и наметал пыль с улицы. И я это почувствовал без счётчика Гейгера...
Те запылённые стулья, как аллегория во сне: стулья, на которых никто больше не будет сидеть, и столы, за которыми уже не будут заседать... Но моё внимание привлекли зелёные плакаты на стенах: то, что «каждому надо знать» во время взрыва атомной бомбы!
Дело в том, что в каждом, даже самом невинном, учреждении тогда был «Уголок гражданской самозащиты». В некоторых – учили бегать с противогазами, а в других – лишь развешивали плакаты... Я внимательно осмотрел все эти 12 плакатов – начиная от взрыва атомного гриба над домами и заканчивая умыванием на ферме коров, дезинфекцией и умыванием рук с мылом...
Здесь уже была заложена модель того виртуального мира, который завтра будет продолжением «строительства коммунизма» – от Камчатки до Балкан. Короткий мультик строительства коммунизма в наглядных изображениях, изготовленных «художниками» из агитпропа!
Отношение тех изображений к жизни примерно соответствовало отношению вождей к народу. Ведь к войне они готовились вполне серьёзно и последовательно. Количество ракет и танков было предметом их величайшей гордости. А вот народу показывали, как ликвидировать последствия атомной войны... водой с мылом.
Где-то тогда я написал стихотворение, которое начиналось так:
Одшуміли бенкети. Пропито медалі. Обсіли турботи...
Гей, озвіться, живі!!! Вже, здається, всміхнутись пора...
Та не чує юрба. Тільки постать висока, самотня
Задивилась в глибоку, неміряну темінь Дніпра.
Итак, уже тогда, в 1986 году, я ощутил пропасть – между прошлым и будущим. Чернобыльский взрыв сыграл колоссальную роль в разоблачении экономических, научных, идеологических достижений коммунизма. Словом, это было начало конца ужасающей эпохи.
Напомню ещё одну метафору времени: в 1990 году журнал «Киев» взял в печать мою книжечку «Перестройка Вавилонской башни». В пик политики КПСС на перестройку печатать произведение с таким ироничным названием – разве это не мир перевернулся? Когда я писал эту вещь и дал просмотреть одну из глав знакомому поэту, он посмотрел на меня удивлённо: «За это 15 лет – как минимум». Действительно, недавно – в 1984 и 1985 годах – пришли вести о лагерной смерти моих друзей. Василю Стусу дали 15 без примерки. Валерия Марченко послали на смерть за такие тексты, как «За параваном идейности», «Верить – и только», «Там, в Киевских пещерах» и т. д. Их судьи и их следователи – все на своих местах. Так что мне по этим расценкам полагается пожизненное заключение – без всякого суда, ведь Вавилонская башня – это сама суть системы...
Осенью 1989-го мне дали гостевую визу. Берлин – Мюнхен – Рим (аудиенция у Папы) – Торонто – Монреаль – Эдмонтон – Филадельфия – Вашингтон – Нью-Йорк. Колёса, пропеллеры, колёса... Замедленный лагерный мультик вдруг раскрутился в ускоренный сериал. В Нью-Йорке при мне была напечатана отдельным изданием нелегально перевезённая за границу «Перестройка Вавилонской башни». В 1990-м редактор журнала «Киев» попросил что-нибудь для журнала: «Ничего, что нет рукописи, – давайте книгу, изданную за границей». Horrible dictu! Такие слова ещё стояли в моих ушах, как самое тяжкое обвинение...
Я почувствовал себя в ином измерении, где нет земного притяжения. В ином измерении и поплыла наша история – в виртуальный мир посткоммунистической комедии переодеваний.
Моя лодка причалила к острову Надежды. Но здесь такие же испорченные люди, и веют те же ветры.
Мне кажется, что всеми своими публикациями я напоминаю людям извечное значение слов. Ни новояз, ни пустословие не заменят слова, ставшего светом. Человечество проходит от затмения к затмению, а в солнечный день удивляется, как можно было не увидеть – это же так очевидно... И Евангельская притча о сеятеле вечна: всегда будем сеять и на камень, и в тернии, зная, что вся надежда на вспаханную почву... И метафора о гласе, вопиющем в пустыне, – вечна. И каждый с благодарностью должен нести свой крест, потому что никогда не будет достойной жизни на дороге ровной и широкой. Евангельское предостережение «избирайте путь узкий» – это наука на все времена.
Снимки.
27 октября 1997 года Евгений СВЕРСТЮК привёз в урочище Сандармох, что на юге Карелии, и установил крест работы Мыколы Малышко с надписью «Убиенным сынам Украины». Здесь 27 октября – 4 ноября 1937 года был расстрелян Соловецкий этап – 1111 узников Соловецкой тюрьмы особого назначения, в т. ч. 290 украинцев, среди которых Лесь Курбас, Мыкола Зеров, Валерьян Пидмогильный, Мыкола Кулиш, трое Крушельницких... Снимок Владимира ЩЕРБИНЫ.
Евгений СВЕРСТЮК на праздновании 25-летия Украинской Хельсинкской группы 9 ноября 2001 года в Киево-Могилянской Академии. Автор снимка харьковчанин Виктор ЗИЛЬБЕРБЕРГ.
Знаков 257 000.