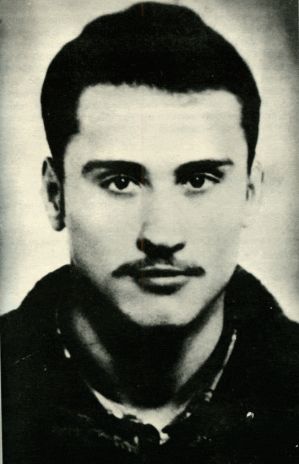Интервью Зоряна Владимировича Попадюка
Исправления З. Попадюка от 11.07.2006 г. внесены 21.11.2007 г.

В.В. Овсиенко: В славном городе Самборе на Львовщине 27 января 2000-го года от Рождества Христова, на улице Ривна, 12, беседуем с Зоряном Попадюком. Беседу ведёт Василий Овсиенко.
РОДОСЛОВНАЯ
З.В. Попадюк: Действительно, я — Зорян Попадюк, и действительно, мы находимся в довольно-таки славном городе Самборе, где — если не в самом Самборе, то в 4 км отсюда — родился гетман войска Запорожского Пётр Конашевич-Сагайдачный, но не только он, но и гетман Жмайло, и герой Вены Юрий Кульчицкий, и другие. Так что местность наша довольно-таки славная. Кроме того, если, скажем, россиянам говорить о Самборе, то они его вспоминают по роману в стихах Пушкина «Борис Годунов». Здесь есть костёл, он и сейчас действующий, где в 1630 году венчались, по легенде (а может, и точно), Марина Мнишек и Лжедмитрий перед походом на Москву. А кроме того, здесь была брусиловская военная ставка во время Первой мировой войны. А ещё известен город такими фигурами, как Андрей Чайковский — автор известной «Олюньки», Иван Филипчак и святитель Пётр Конюшкевич.
Я живу здесь примерно с двухлетнего возраста. Здесь в то время жили мои бабушка и две её сестры. А родился я во Львове в 1953 году, 21 апреля, — не могу сказать, что в семье, потому что я был рождён в семье... Как называется та семья, которая состоит только из матери и ребёнка?
В.В. Овсиенко: Неполная семья.
З.В. Попадюк: Да, в неполной семье, точно. Мать моя, Любомира Попадюк, в то время, когда я родился, была ещё студенткой факультета иностранных языков Львовского университета. А отец в то время также был ещё студентом. Я ношу фамилию не отцовскую, а материнскую — фамилию моего деда Попадюк. А отец мой носил фамилию Мысаковец, Владимир Иосифович. Он уже покойный, и мать покойная. Он тогда был студентом Львовского лесотехнического института, и его судьба — в этой области человеческой деятельности. Мама, окончив университет, так и осталась работать при университете преподавателем немецкого языка (после двух лет работы на Гуцульщине, в Шешорах).
А я рос и воспитывался здесь, в Самборе, у бабушки, мамы моей мамы. Фамилия у неё была Копыстинская София, отец её был Михаил Копыстинский, бывший налоговый служащий. У него было три дочери. Все эти дочери дожили до довольно глубокой старости. Бабушка София, имея 95 лет, живёт и здравствует с нами. (Умерла 14.01.2001 г. — З.П.). А её старшая сестра Стефания умерла в возрасте 93 лет, а ещё старшая, самая старшая сестра Ядвига, дожила до 77 лет. Их отец, Михаил Копыстинский, тоже прожил 93 года.
В.В. Овсиенко: Это какой-то знаменитый род — Копыстинские?
З.В. Попадюк: Если говорить о родовой памяти, то эта память, собственно, лучше всего прослеживается в роду Копыстинских. Они выходцы из села Городище, что в 12 км на юго-восток от Самбора, в сторону Дрогобыча. Можно проследить историю этого рода по шляхетской грамоте, выданной ещё отцу деда, Матвею Копыстинскому, в 1834 году*. (*Семейная память, кроме того, фиксирует местечко Копыстын нынешней Хмельницкой области как место, где в 18-м веке жили основатели рода Копыстянских. — З.П.). А сам прадед Михаил Копыстинский — 1859 года рождения. Он был банковским служащим, человеком деятельным, его жизнь проходила где-то в Центральной и Восточной Европе — то он был в тогдашней Австро-Венгрии, а на её территории был Краков, то Рудки здесь у нас, то в Чехии — перебрасывали его как служащего. Поэтому и география рождения его дочерей такова. Но две старшие родились в Рудках — это здесь недалеко, в 25 км от Самбора.
Он был среди тех людей, которые ещё в конце прошлого (19-го. — В.О.) века состояли в «Просвите». У нас есть его удостоверение члена «Просвиты», подписанное в том числе известным этнографом Владимиром Гнатюком. Можно сказать, что у меня было воспитано отношение к прадеду с пиететом, и воспитано оно было бабушкой — его младшей дочерью Софией. Она всегда подчёркивала: «Мои сёстры окончили немецкие школы». Они учились в Кракове в немецком заведении, которое тогда называлось кляштором. Это такая школа с религиозным уклоном. Только потому в немецкой, что не хотел прадед отдавать дочерей в польскую школу, потому что здесь было польское засилье, а он себя чувствовал украинцем. Жена его, или мамина мама, моя прабабушка Ванда, прожила 85 лет, я её хорошо помню. Она тоже была шляхетского рода Ступницких, её родовая память сягает, правда, не так далеко, как по прадеду.
Дед мой по матери, Иван Попадюк, был родом из-под Городенки — село Стрильче. Родился он в 1892 году. А на то время, когда он познакомился с моей бабушкой Софией, он был школьным инспектором на нынешней Тернопольщине — в Залещиках, Чорткове, Городенке. А бабушка моя как раз там учила детей математике*. (*Брат деда Иван также был учителем, директором школы в Крынице, что на Лемковщине, и оставил там добрые воспоминания как высокообразованный человек, знавший несколько языков, и патриот. — З.П.).
А что касается отца, то я так хорошо не знаю. Знаю только, что дед по отцу Иосиф и его жена, и сам отец — они переселенцы. Их переселили во время операции «Висла» из-за Перемышля. Здесь недалеко от польско-украинской границы, но уже на польской территории. Но я ещё раз хочу повторить, что отец с матерью в браке не состоял, они не были женаты. То, что мы общались, — это да, общались, у него позже была своя семья, у меня есть по отцу брат и сестра, младше меня. Он, правда, тоже уже покойный. Вот и всё, что можно было бы сказать о семейных корнях.
Но следовало бы упомянуть ещё одну вещь. Мы (не мы, а мои деды) здесь, в Самборе, оказались в 1931 году. Купили себе дом на этой улице Ривна, когда прадеда перевели на работу в Самбор. И с тех пор мы живём в этом доме, теперь я со своими детьми, со своей женой Оксаной. У нас двое детей — Иринка и Любчик, 11 и 10 лет. И наша бабушка София с нами.
Мать моя Любомира умерла уже 16 лет как — в 1984 году, сразу после смерти Василя Стуса, 19 сентября. Умерла после очередного инсульта, кажется, уже четвёртого. Я был тогда в заключении.
Про лагерь я могу много говорить, конечно, но должен сначала сказать, что семья наша всегда жила в состоянии какого-то такого необъявленного, незаявленного, или как ещё сказать, конфликта с властью. И почему-то всегда не мы имели претензии к власти, потому что в целом всегда жили скромно и не имели больших амбиций, а власть имела претензии к нам. Это началось ещё во времена Австро-Венгрии, когда были гонения на москвофилов. Мой прадед к москвофилам не принадлежал и далеко не был москвофилом, но кто-то из его друзей, или знакомых, или сослуживцев — а у него была довольно большая библиотека, он выписывал много периодических журналов и газет, или изданий, иначе говоря, имел всякую литературу, в том числе и нечто подобное — кто-то счёл, что это москвофильская литература. И поэтому в той, по сравнению с Россией, демократической Австро-Венгрии нашлись причины, чтобы проводить обыски в доме и такую литературу забирать. Позже, при польском правлении, в двадцатилетний период после распада Австро-Венгрии, также были гонения на деда со стороны поляков — правда, обысков, насколько я знаю, не было. Но ему не давали работать ни в каких школьных учреждениях, он должен был постоянно менять работу. В конце концов, он умер очень рано, в 38 лет, ещё в 1930 году. Маме тогда ещё не было двух лет.
В.В. Овсиенко: Мама какого года рождения?
З.В. Попадюк: Мама родилась в 1928 году, 8 апреля. Надо сказать, что дед, кроме того, что был учителем и инспектором, был и сечевым стрельцом — он служил в украинских сечевых стрельцах и участвовал в тех баталиях на горе Маковке возле Грабовца, на нынешней Сколевщине. Должен сказать, что он был в российско-большевистском плену. Попал в тогдашний Проскуров, нынешний Хмельницкий, бежал из этого плена через Збруч. Я этого хорошо не помню, не сохранилось в памяти, как рассказывали, то ли было в 1920 году, то ли уже в 1921, когда он бежал из плена. Он сбежал, и его уже на нашей стороне всё-таки кто-то подстрелил. Он был ранен нетяжело, в бедро, но был ранен. Но у него, видимо, сердечно-сосудистая система была слабой, так что он умер от инсульта. С тех пор моя бабушка так и осталась одна, с мамой и своими сёстрами — ну, и со своей мамой и отцом.
Что ещё можно вспомнить? Не уверен, что это будет интересно, — есть семейная легенда о моём прапрадеде, его звали Хризостом, что его родной брат, то есть двоюродный дед моего прадеда, по-нашему стрыйко, по имени Михаил Копыстинский, что он во времена французской кампании в России, в 1812 году, после поражения Наполеона под Москвой якобы помог Наполеону переправиться через реку Березину, когда тот бежал. Это в Белоруссии. И Наполеон якобы подарил ему часы с платиновыми деталями, или платиновые. Как гласит наша семейная традиция, это были довольно большие овальные или эллипсоидные, яйцевидные часы, которые открывались. С платиновым корпусом. И что эти часы якобы тот же двоюродный дед прапрадеда отправил во Францию в какой-то музей и получил какие-то там деньги. Вроде бы продал в тот музей. Вот такая себе легенда.
Но вернёмся к более близким временам. Итак, поляки якобы не проводили обысков. Но уже немцы — хотя во время немецкой оккупации они и жили в этом доме, пока фронт переходил, — когда украинцы провозгласили независимое государство 30 июня 1941 года, то, несмотря на то, что здесь жили немцы, гестапо проводило здесь обыск, искало какую-то литературу, которая могла бы быть связана с украинским движением. Но нам никто ничего не сделал.
СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ
А дотронулись до нас с этими обысками уже русские, или большевики...
Но надо упомянуть, что поляки сделали довольно много, чтобы полонизировать этот край. В Самборе была единственная украиноязычная школа, называлась «Ридна школа». Моя мать как раз и училась в этой школе. Когда большевики пришли сюда в 1939 году, то фактически все дети, которые относились к старшим классам — по тем документам, что мы знаем, числом 117, — фактически все были уничтожены. Осталось несколько девочек, потому что мальчиков практически почти не осталось — из старших. И среди тех девочек осталась моя мама, хотя её так же большевики забирали и держали несколько дней в подвале, а потом выпустили.
В.В. Овсиенко: Почему их уничтожили?
З.В. Попадюк: Только потому, что это была единственная украинская школа. Так же, как при большевиках все принадлежали к пионерам, так при немцах все принадлежали к так называемому Украинскому комитету — была такая при немцах организация.
В.В. Овсиенко: Сколько им тогда было лет?
З.В. Попадюк: Ну, если моя мама была 1928 года рождения, а это был 1939 год, и мама была среди младших, которых не очень трогали, то маме было на тот момент 11 лет, может, 12-й шёл. А тем старшим было по 15–17 лет. Тех 15–17-летних в живых фактически не осталось. На берегу Днестра здесь в 1963 году, когда было наводнение, вода размыла могилу, где были останки тех школьников — студентов, как их тогда называли. При немцах её раскопали и сделали большую братскую могилу. А потом вот вода в 1963 году размыла эту могилу. И прямо по Днестру, по берегу, где мы купались, будучи детьми — мне тогда лет 10 было, — были разбросаны те кости, которые вода размыла. Ночью подняли на ноги санстанцию — моя бабушка как раз тогда на санстанции работала — и обязали их все те кости под прожекторами собирать. Всё это собрали и отвезли на местное самборское кладбище, закопали там и залили известью.
Так получилось, что фактически никто не знал, где это. А может тот, кто знал, не мог никому сказать. Когда наши в процессе возрождения в Самборе снова начали отдавать дань всем погибшим, невинным, то так случилось, что только я и знал, где та могила может быть. Потому что бабушка тогда на второй день утром взяла меня за ручку, повела и сказала: «Вот здесь, чтобы ты когда-нибудь знал, такое-то и такое-то». Потому что могила была заровнена, но там стоял высокий тополь, который сохранился до того времени, и поэтому я знал, где та могила 117 студентов, и показал. Сейчас там ничего нет, туда очень трудно подобраться, но могила ухоженная. Их убивали, фактически, живьём, никто на них пуль не тратил. Их там по-всякому по ночам убивали. Большинство найдено с кляпом во рту и скрученными проволокой за спиной руками, говорят. Закапывали живьём и утрамбовывали трактором. Люди, которые жили недалеко от нас, слышали те крики по ночам. Довольно того, что моя мать и ещё некоторые остались в живых, потому что они были младше.
Мать всё-таки окончила школу, где-то в 1947 году. Правда, она окончила ещё и торговую школу. Она в 1948 году поступила в университет и училась, кажется, до 1953-го. Или 1954-го...
В.В. Овсиенко: А после этого работала в университете?
З.В. Попадюк: А после этого её на год направили на практику в горное село Шешоры — так оно называется. Там была, потом ещё в каком-то селе, где получила письмо из университета, что её приглашают в университет, тогда она вернулась.
В.В. Овсиенко: С какого года она преподавала в университете?
З.В. Попадюк: Насколько я помню, с 1955 года уже работала в университете. Может, с 1956-го, но не позже.
Помимо того, что вела лекции по немецкому языку в университете и в консерватории, она принимала участие в различных мероприятиях: она на скрипке очень красиво играла — долгое время была второй скрипкой во Львовском оперном театре, в симфоническом оркестре. Потом был симфонический оркестр при университете, дирижёром которого был Денис Андреевич Хабаль — и там она очень долго играла на скрипке. Я помню с детства, что показывают концерт симфонического оркестра, и мама звонит из Львова, чтобы я посмотрел, потому что будут показывать маму по телевидению. У нас тогда телевизора не было, так что я к кому-то шёл.
Вместе с тем, мама контактировала с теми людьми, которые в начале шестидесятых годов, особенно в середине шестидесятых, составили, так сказать, основной костяк если не общеукраинской, то львовской общины, которую потом стали называть шестидесятниками. Я уже помню 1961–62 годы, когда всё это начиналось... Кстати, в Самборе ведь Иван Гель жил. Он женился на самборчанке — такая Марийка из семьи Хортов. Не помню сейчас фамилию. Достаточно того, что в Самборе и на Самборщине Иван Гель преподавал историю, географию. Вот тот парень, что приходил к нам сегодня, — его Иван Гель учил истории в школе. В Стрилках Иван Гель некоторое время работал в интернате. Они были знакомы с мамой уже здесь, в Самборе, а во Львове само собой. Тогда же появился во Львове и вышел на первый план Вячеслав Черновол с его тогдашней женой Еленой Антонив. Была такая семья Гнатенко — Стефа и Валерий, уже покойный, оба художники. И Калынцы — Игорь и Ирина, и Стефания Шабатура, и Михаил Косив тогда проявлял себя как участник этого возрождения или движения творческой интеллигенции — так это тогда называли.
В.В. Овсиенко: Клуб творческой молодёжи?
З.В. Попадюк: Нет, это уже позже. В чём проявлялась эта работа? Это был непрерывный процесс, потому что здесь ещё шла подпольная работа. Ведь только-только перестали стрелять — в конце сороковых и даже в начале пятидесятых годов. А в конце пятидесятых уже была когорта людей, которые, зная опыт своих родителей — братья Горыни, — или те, кто приехали сюда — скажем, Вячеслав Черновол или Валентин Мороз — эти двое не из наших краёв, это люди, которые приехали сюда и здесь заражались идеями, о которых в Галичине, может, люди даже боялись говорить, потому что всё это было страшно. А те, кто приходил со стороны, не испытывали такого страха, но они этим интересовались. Возможно, они и были толчком к тому, что что-то начиналось. Люди начинали думать, что-то вспоминать. Нельзя было говорить о бандеровцах. В конце концов, люди были запуганы — не только запуганы, но и обмануты. А родители боялись дома что-то говорить. Ребёнок шёл в школу, его учили, что бандеровцы — бандиты, он приходил домой, и редко кто в семье отваживался сыну сказать что-то иное. Как правило, люди молчали, и только некоторые что-то говорили.
Так вот, у меня дома, после всех этих обысков, всё равно оставалась масса старой литературы, в том числе и украиноязычной — скажем, до сих пор лежит стопка книжечек «Просвиты», которые в то время, может, и не были запрещены, потому что там не было ничего такого, но они были народоведческими, они настраивали на патриотический лад. Это были шестидесятые годы. Мне было лет 11-12, и я знал, что что-то такое делается, что моя мама приезжает в Самбор или я приезжаю к ней, у неё какие-то люди, они о чём-то таком говорят — я уже чувствовал, что это что-то такое, что можно было бы отождествить с подпольным движением. Это мне в голову уже засело. Более того, это, с одной стороны, было для меня своеобразной забавой, а с другой стороны и ознакомлением с тем, что мама делала. У нас в доме была пишущая машинка, её мама привезла сюда, в Самбор. Она время от времени привозила какие-то бумаги, которые перепечатывала. Я потом уже понял, что это были самиздатовские материалы.
А тогда — это был 1963 год, мне всего десять лет было или, может, одиннадцатый — я хорошо помню, как раз шла освободительная война в Конго, с бельгийскими и французскими десантниками. Был там такой диктатор Чомбе, а с другой стороны Патрис Лумумба. Так я себе со своими одноклассниками, такими как Игорь Ковальчук и другие, нарисовал большую карту, на стену её повесил: большое Конго нарисованное, увеличенное со школьной карты, там мы флажками отмечали. Какой-то там Стэнливиль, Либревиль, Браззавиль, Леопольдвиль — эти названия я и теперь помню. Шли бои в Катанге или ещё где-то — мы уже за этим следили. То есть мы уже были политически ангажированными. Мы слушали радио в десять часов вечера, те московские известия. Когда наступало десять часов, я уже сидел у радио и слушал получасовые известия.
И в такое время мать привозит эти бумаги печатать. Конечно, мне ради забавы было интересно научиться печатать и интересно, что она там печатает. Так я, невольно, познакомился со многими произведениями, которые я и до сих пор помню. Достаточно того, что я уже на тот момент понимал — хоть мама мне не очень-то и говорила, что ты этого никому не говори, что я здесь печатаю, потому что, видно, не хотела сосредотачивать на этом моё внимание — но бабушка говорила: «Ты этого никому не показывай, что ты себе печатаешь». А со временем мама оставляла мне и говорила: «Это мне напечатай». И я печатал. Ну, чтобы я это уж так очень хорошо помнил, что там было, то нет. Но я знаю, что это был наполовину русский самиздат. Там были какие-то чисто беллетристические кусочки... Да и вообще было очень много поэзии. Там был Богдан Олийнык, львовский поэт. А те фамилии, которые всем известны, я не буду называть. Стихи Валентина Мороза — он ведь и поэзию писал. Потом появились его эссе «Среди снегов», «Хроника сопротивления» — это уже где-то 1967 год.
В.В. Овсиенко: Мороз сидел в Мордовии в 1965–1969, оттуда вышел «Репортаж из заповедника имени Берия». А эти вещи он, видимо, написал уже позже — когда вышел на свободу.
З.В. Попадюк: Когда «Тени забытых предков» снимали... Я не могу этого вспомнить — может, у меня что-то переставляется во времени. Но там речь шла об этом. Трактат Ивана Дзюбы «Интернационализм или русификация?» — это, я помню, шестьдесят седьмой или шестьдесят восьмой год.
В.В. Овсиенко: А в каком виде трактат Дзюбы ты видел — в машинописи?
З.В. Попадюк: В машинописи, это всё шло только в машинописи.
В.В. Овсиенко: В фотокопиях кое-что ходило.
З.В. Попадюк: Когда я был уже где-то в десятом классе, мы сами делали фотокопии. Но чаще всего я это видел в машинописи и сам распространял в машинописи.
И ещё одно. В 1965-66 годах были первые аресты. Я уже осознавал, что были аресты. Наверное, в 1966 году арестовали Черновола...
В.В. Овсиенко: В августе-сентябре 1965 года арестовали двадцать одного — братьев Горынь, Мороза, Осадчего, Геля, а Черновола — в связи с тем, что он составил о них сборник «Горе от ума». Его арестовали в 1967 году.
З.В. Попадюк: Это «Горе от ума» мы также здесь перепечатывали. Я там что-то помогал, но мать его, в основном, печатала во Львове. Через неё постоянно проходил самиздат. Были её коллеги, с которыми она всё это делала. Но я помню, как Вячеслава Черновола выпустили по амнистии.
В.В. Овсиенко: Полтора года он отсидел.
З.В. Попадюк: Помню, как его встречали. (В. Черновол был арестован 3 августа 1967 года, освобождён в феврале 1969. — В.О.). Иван Гель тогда уже был, он тоже мне помнится. (Гель Иван Андреевич, род. 17.07.1937, с. Клицко, Городокского р-на, Львовской обл. Арест. 24.08.65, 3 г. лагерей строгого режима в Мордовии. — В.О.). Очень часто бывала у нас Елена Антонив, жена Черновола. По-моему, она уже тогда с мамой довольно близко сошлась. (Антонив Елена Тимофеевна, 17.11.1937 – 2.02.1986. Врач. Участница движения шестидесятников. Распорядительница фонда А. Солженицына в Галичине. Жена В. Черновола, затем З. Красивского. — В.О.). Я бывал на тех вечерах. Не могу припомнить, в каком это году было, — но на улице Чернышевского жила графиня, которая устраивала вечера молодых поэтов. Эти поэты читали стихи, она устраивала приём, угощала их чем-то.
В.В. Овсиенко: А где ты жил — здесь или во Львове?
З.В. Попадюк: Я жил в Самборе, но мама приезжала сюда, а я приезжал во Львов. А в 10 класс я уже пошёл в львовскую школу.
В.В. Овсиенко: А у мамы во Львове было какое-то жильё?
З.В. Попадюк: Мама там имела временное жильё — она 17 лет проработала в университете, но так и не дождалась постоянной квартиры. Так она жила на Чернышевского, 9, то на нынешнем проспекте Свободы, 37, возле оперного театра. И на тогдашней улице Кирова, там возле Горыней соседний дом — у нас 27-й, а Горыни в 33-м. Перед этим — на Богуна, 8. Странно, что всё это я помню.
В.В. Овсиенко: Это хорошо, что помнишь.
З.В. Попадюк: И последнее мамино пристанище было на тогдашней улице Энгельса (теперь Ефремова), дом 105, — она туда перебралась в 1971 году.
Чтобы сказать ещё что-то о маме, то надо говорить обо всех её знакомых, потому что она всё время вращалась в очень замкнутом своём кругу. Это были разговоры и о политике, и о литературе. И всё это было как бы поделено на две части — я тогда это чувствовал. С одной стороны, была волна, представленная трактатом Дзюбы «Интернационализм или русификация?». Наверное, этот трактат искренне воспринимался такими людьми, как Черновол, возможно, Косив. Так мне кажется, хотя, может, я сказал неправильно. А с другой стороны были такие, как Валентин Мороз, Иван Гель и ещё кто-то, которые немного посмеивались над этим, они были ортодоксальны в восприятии движения сороковых годов, только нигде об этом не говорили, потому что, мол, не время об этом говорить. Они не воспринимали той неоленинской или как её назвать, неомарксистской литературы...
В.В. Овсиенко: Или национал-коммунизма.
З.В. Попадюк: Да-да, хотя я далёк от того, чтобы назвать это национал-коммунизмом — это просто было возвращение к истокам большевистской национальной политики.
В.В. Овсиенко: По крайней мере формально это и есть национал-коммунизм, так учёные и определяют. Хотя Дзюба, может, и не был национал-коммунистом, но свою работу он облёк в эту форму.
З.В. Попадюк: Мне кажется, что Дзюба тогда дальше не мог пойти. Дзюба — слишком большая личность, слишком большой человек, чтобы сдаться, имея твёрдые убеждения. Видимо, его убеждения не были настолько глубокими и не настолько радикальными. Это гора, которая не могла сдвинуться, имея ясность в своём сознании. Так мне кажется — возможно, что я неправ.
Матери я обязан очень многим. Когда мне пришлось столкнуться с насилием советской машины, я уже был к этому готов. Мама меня с раннего возраста посвящала в те дела, которые она делала, она не боялась мне этого говорить и в какой-то мере меня готовила. А то, что я видел тех людей — например, в день рождения Вячеслава Черновола у нас дома собиралась куча людей — это собирались зэки разных поколений, пили чай, который называется чифиром, сидели вот так буквой «о», кружком на полу, потому что у нас не было мебели, негде было сидеть, и так угощались. Больше говорили о делах, которые недавно прошли, — о лагере или о следствии.
Вот такая короткая иллюстрация. Мама водила меня по театрам. В каком-то из спектаклей участвовал нынешний министр культуры Богдан Ступка. В антракте встречаем в коридоре Богдана Ступку. Мать о чём-то с ним говорит, а я тогда (наверное, был где-то в десятом классе) проявил какую-то инициативу в разговоре, когда речь шла об инакомыслии. И он так, шутя, но, с другой стороны, наверное, и нет, говорит моей маме и мне: «Ты не учись ничему — ты лучше политикой занимайся, и всё будет хорошо». Я это помню уже 30 или 35 лет. Так что у меня есть такое напутствие от нынешнего министра.
Что стало толчком? Возможно, тот случай, который произошёл на Днестре, когда размыло могилы. А ещё в Самборе была тюрьма, сегодня это детская колония. Там тоже, по рассказам моей бабушки, в последний день перед тем, как большевики отсюда уходили перед немецким наступлением, было расстреляно более 900 человек, фактически невинных.
Ещё одно — что из сохранившейся литературы у меня было представление о бандеровском движении. С тех времён даже сохранились книжки с фотографиями, где дед был в костюме сечевых стрельцов. Я в школе был таким очагом, с которого начинались всякие вопросы на уроках, особенно истории. Когда то случилось на Днестре — я сразу к первой моей учительнице, которая была немкой. Она сказала: «Ну, я не буду ничего говорить, потому что я не местная, я не самборчанка». Я думаю, что этот ответ означал: если вы спросите об этом у себя дома, то вам скажут правду. Потому что тогда было принято говорить, что это всё немцы сделали.
В 1967 году, когда мне было 14 лет, мама подарила мне первый приёмник. До этого я всё время слушал то советское радио — а тут уже получил радио «Свобода», которое глушилось, но уже с тех пор я был в курсе событий с разных точек зрения.
В.В. Овсиенко: Ты там что-то сделал, чтобы ловить короткие волны?
З.В. Попадюк: Это не я сделал — это мама, купив приёмник во Львове, попросила переоборудовать его так, чтобы появилось ещё два диапазона — 16 и 19 метров. Я мог слышать то, что меньше глушили. Но со временем и там стали глушить — советы приспособились. На школьных политинформациях я говорил, что «Би-би-си» так говорит, а китайское радио так говорит, а «Голос Америки» то, а Москва то.
В.В. Овсиенко: Ты так и ссылался?
З.В. Попадюк: Да. Чехословацкие события 1968 года захватили наше внимание, пробудили национальный протестантизм. Он у меня никогда не был националистическим, потому что в нашей семье не было радикализма ни в чём. Если бы я себе позволил повторить услышанное на улице пренебрежительное слово в адрес русских или поляков, или евреев, или ещё кого-то, то был бы очень строго наказан словами своей бабушки. Она была такой. Или вот ещё. Я как-то похвастался, что на трамвае проехал зайцем. Бабушка сказала: «Слушай, ведь когда-нибудь будет и своё государство — а если ты научишься ездить в чужом государстве зайцем, то уже в своём государстве не будешь ездить как нормальный гражданин». Это мне, ребёнку, тоже запало в голову.
Но вернёмся к чешским событиям. Собственно, те чешские события произвели на меня самое большое впечатление. Я так за ними следил, я так всё это помнил, что — к моему удивлению — где-то в 1990 году мы с женой Оксаной поехали в Германию, а ехали мы через Прагу. Я впервые в жизни выехал из этого Союза, никогда не был в Праге — а там пересадка. В Праге я удивлялся сам себе — я выхожу и знаю каждую улицу в Праге, как она называется, куда и к чему идти, где что расположено. Так, словно я там жил, — а ведь я её никогда не видел по телевизору, не видел никак — я только слушал радио, что здесь где происходило и как. Я знал, где какие клубы, я знал, где тот Ян Палах совершил самосожжение на той Вацлавской намнести (площади), где то, где то — всё знал. Оксана удивлялась, говорила: «Это не может быть!» Я её водил и туда, и сюда, говорил, где там что. Но ведь кроме того, что я слушал радио о тех чехословацких событиях, я ничего не знал. Сколько мне тогда было — 14 лет в 1968 году? Или уже даже 15.
УКРАИНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНЫЙ ФРОНТ
Фактически тогда, в 1968 году и далее в 1969 году, мы сделали первую попытку создать юношескую организацию. Собрал я своих школьных товарищей, одноклассников — их было восемь. Ввосьмером мы создали организацию, которую назвали так претенциозно: «Украинский национально-освободительный фронт». А почему — потому что был «Украинский национальный фронт», к которому принадлежали Михаил Дяк, Дмытро Квецко, Зиновий Красивский и другие. Их арестовали — это мы знали, поэтому и взяли такое название, чтобы тот фронт продолжал существовать.
В.В. Овсиенко: Зорян, если бы кто-то когда-нибудь захотел изобразить это событие натурально — скажем, снять кинофильм, — при каких обстоятельствах произошло это ваше собрание?
З.В. Попадюк: Я помню, потому что всё это я, так сказать, выдумал. Это с одной стороны. А с другой стороны — круг друзей, с которыми мы постоянно общались на эту тематику. Когда нас везли на экскурсию во Львов, то я их мог оторвать от группы и повести на кладбище украинских сечевых стрельцов: вот здесь похоронены сечевые стрельцы, вот здесь большевики ломают это кладбище. То есть неофициальное мнение уже существовало в сознании какой-то части тех школьников. Я знал, кого звать, а кого не звать к такой работе, а кому только рассказать, но не звать.
Мы собрались во дворе возле моего дома. Там такая лавочка была и стул. Написали себе программу, составили текст клятвы или присяги, склеили себе флаг из двух кусков материала — синего и жёлтого, с тризубом. Приобрели пишущую машинку...
В.В. Овсиенко: Ага, это все признаки организации, статья 64.
З.В. Попадюк: Да, статья 64-я и была по первому приговору. Поскольку организация должна была действовать, то первую годовщину вступления советских войск в Чехословакию мы отметили листовками. Мы написали эти листовки от руки, немного где-то напечатали. Достаточно того, что мы их расклеили по Самбору.
В.В. Овсиенко: А сколько их было?
З.В. Попадюк: По Самбору было где-то двадцать, не больше. Расклеили на людных местах. Это одно. Второе, что у нас было, — я из Львова привозил литературу. Помню, уже была «Хроника текущих событий», разные эссе, памфлеты московские. Был какой-то интересный материал Паперного — весёлый, сатирический. Был такой роман Кочетова «Чего же ты хочешь?», а на него была пародия «Чего же ты кокочешь?». Помню каких-то персонажей из неё. Немного шпионский, там была «Порция Виски», «Клоп», «Фон Жлоб», такого же типа имена разных национальностей. Были уже тогда первые номера «Украинского вестника», ходило «Горе от ума» Черновола, эссе Мороза, Дзюбы. Мы что-то перепечатывали, перефотографировали — это я во Львове с одним своим коллегой. И распространяли.
В тот первый раз нас было восемь человек, в том числе Яромир Микитко, который потом был арестован вместе со мной и осуждён, был Игорь Ковальчук, который сейчас в Самборе работает директором радиотелемагазина «Электрон», был Галько Владимир, сейчас врач во Львове. Был Богуш Омелян. Мы потом учились в разных вузах, а когда нас арестовали через два года, то мы все разлетелись, потому что нас поувольняли из тех вузов. Кого не судили, тот пошёл в армию. Разбросали нас по-разному. Этот Омелян Богуш был, кажется, председателем облисполкома в Курган-Тюбе в Таджикистане. Судьба похожа на судьбу Рокецкого. (Брат политзаключённых Богдана Рокецкого и Владимира Рокецкого уехал в Сибирь, стал Иркутским губернатором. — В.О.). Ещё был Пётр Петрина, Геннадий Погорелов — первый муж моей Оксаны, Игорь Вовк. Это всё были одноклассники. Геник, или Евгений Сенькив, сейчас в Иркутской области живёт.
В.В. Овсиенко: То есть эту организацию вы создали фактически...
З.В. Попадюк: Будучи школьниками. Это был девятый класс.
В.В. Овсиенко: И это в начале учебного года? Потому что чешские события — это август 1968 года.
З.В. Попадюк: Да, а организацию мы создали в 1969 году. Хорошо, что ты напомнил, — этому предшествовало вот что. В 1968 году, кажется, 29 октября, отмечалось 50-летие создания комсомола. Тогда мы впервые провели протестную акцию: мы потребовали на уроке от директора школы, историка, объяснить события, которые происходили в Чехословакии. Мы чётко называли их оккупацией Чехословакии. А он отказался. Тогда мы целым классом забастовали — ушли с его уроков. А потом нас как-то там наказывали, нашли двух зачинщиков, среди них и меня. Мне уже тогда было сказано, что ты, парень, у меня школу с хорошей характеристикой не окончишь. Я был вынужден здесь окончить девятый класс — правда, тот историк, который обещал мне всякие беды, начал меня гонять на истории, потому что выпускной экзамен по истории был тогда в девятом классе, и всё-таки вынужден был пятёрку поставить по истории, но характеристику такую написал, что когда я пошёл в десятый класс уже в львовскую школу, то я её просто выбросил — порвал или сжёг, не помню.
В.В. Овсиенко: Потому что с такой характеристикой и в тюрьму бы не приняли?
З.В. Попадюк: Да. Так что я пошёл в другую школу в 10-й класс, без характеристики, в связи с теми событиями. Но это был наш первый протест на чешские события. Мы пытались и другие школы организовать. Было на нас давление. И я пошёл в десятый класс в львовскую школу № 55. Жил у мамы на Кирова, возле Горыней, 27-й номер. Тогда я учился с такими ребятами, которые говорили гораздо меньше меня, но могли чем-то помочь в тех наших делах. Но когда в следующем году мы все поступили в вузы, то появилась довольно широкая география нашего «Украинского национально-освободительного фронта». Большинство из нас были в вузах Львова, а кто-то в Ивано-Франковске, кто-то в Черновцах, кто-то в Тернополе. Ещё какие-то листовки мы делали, не помню уже, о чём.
А затем совместную нашу акцию мы провели в начале 1972 года. Это было время какой-то мини-оттепели, когда вернулись люди из лагерей, когда ещё на свободе были Калынцы, Черновол. Все были, за исключением Мороза. Самиздат ходил довольно широко, были частые контакты. На Новый 1971 год мы ездили в Киев, устраивали там вертеп, колядовали.
ОБЫСК
25 декабря 1971 года, в канун Нового года, на квартире матери мы снова отпраздновали день рождения Вячеслава Черновола. Было очень много людей, едва поместились у нас в доме. А на то время Черновол — не могу точно вспомнить, но мне кажется, что он уже с женой Еленой Антонив разошёлся, он даже какое-то время у нас жил, потому что не хотел жить у неё. А мама моя была хорошей коллегой с Еленой, и, может, мама не воспринимала тогда Атену, хотя и имела с ней хорошие отношения, но, вместе с тем, холодные. Мама любила Черновола и могла даже поругать, мол, зачем там глупостями занимается. Прошёл тот день рождения, потом Новый Год, Рождество, и 12 января 1972 года, в этот день, который в дальнейшем называют Днём украинского политзаключённого, были массовые аресты на Украине, в том числе к нам пришли с обыском.
В.В. Овсиенко: В тот же день?
З.В. Попадюк: Это было 12 января, в ночь с 11 на 12 января. А я экзамен сдал за третий семестр. Я был на втором курсе филологического факультета, украинского отделения. Утром нам позвонили. Это было где-то сразу после шести. У нас на квартире тогда жила Наталья Белявская, мамина подруга. Мама пошла открывать. Там, конечно, сказали, что телеграмма.
А накануне у нас в доме была такая история. Я пришёл домой, лёг в кровать или на диван, а мама ещё что-то суетилась в доме. Я её попросил принести мне портфель, который лежал на кухне, потому что мне что-то там нужно было. Она пошла на кухню, а вернулась уже побледневшая: «Ты что с собой носишь?» А там у меня были членские билеты нашей организации, несколько пластинок линотипов, потому что мы что-то там печатать собирались. Была книга Ивана Геля о Морозе — сборник, посвящённый Морозу. Там «Вместо последнего слова», все произведения Валентина Мороза с предисловием Ивана Геля. И всё это было у меня в сумке. Я взял всё это с собой, чтобы кому-то там передать. Сумка моя такая забрызганная была, потому что дождь был, погода хоть и зимняя, но с дождём. Одним словом, мама ко мне прицепилась: «Ты что носишь с собой? Давай выбрасывай это всё из сумки!» Говорю: «Ну, и куда ты это положишь?» — «Не знаю, куда положу, но выбрасывай!» — «Ну, что — положим на балкон или на кухню — ну, куда ты положишь? Пока оно в моей сумке, оно со мной. А когда мы идём на работу, откуда я знаю, кто у нас в доме топчется? Открывает ли кто-то дом, или не открывает, смотрит, или не смотрит?» Моя аргументация как-то её успокоила. Ну, а утром — вот это «телеграмма», ещё темно было, и та Наталья Белявская, которая сейчас в Америке живёт, только шепнула мне: «КГБ!» Я почему-то подумал, что, наверное, подслушали вчерашний разговор.
В.В. Овсиенко: А портфель где?
З.В. Попадюк: Портфель возле моей кровати, или дивана. Я уже встал на ноги. И не знаю, что меня надоумило, или это было чисто механическое движение, — никто мне не говорил и я сам не думал об этом, но я тот портфель свой от своей кровати зафутболил. Он встал себе под ножку стола, посреди комнаты. Первыми, помню, заходят две девушки-понятые, спрашивают, где свет. Показали им, где свет, они включили свет, положили свои портфели возле моего. Потом заходят все эти чекисты, и у каждого из них так же портфели. Под столом выстроилось штук девять портфелей вместе с моим, или даже десять, не помню.
Ну, идёт этот обыск. С шести часов утра до четырёх часов пополудни продолжался обыск. У нас вот такая комнатка и кухня. У нас мебели практически не было — диван раскладной, кресло раскладное, стол и куча тех книг, что и сейчас у меня есть. Не всех, а части. Без стеллажей, вот так сложенные вдоль стены. Они в этом копались. Они отдирали от зеркала стекло, они каждую книгу разворачивали, что они только там не делали, а до той сумки у них руки не дошли.
Был один момент, самый интересный, когда следователь по фамилии Одноволов, немного неопрятный, а второй Бережнов Юрий Георгиевич... Кстати, руководил всем обыском известный тогда — одни знаменитости! — Корниенко, который теперь начальник Киевской милиции.
В.В. Овсиенко: В каком он чине здесь был?
З.В. Попадюк: Не знаю. Старший лейтенант, наверное. Это где-то в бумагах у меня есть. В один момент он, указывая на мою сумку, говорит Батюку, который идеологией заведовал в КГБ: «Чья это такая грязная сумка?» А тот говорит: «Да чья-чья — это Одноволова! Чья ж ещё может быть?» А тот стоит перед ним, листает книги и не реагирует на это. А я же рядом с ними сижу и сижу. Так они до той сумки и не заглянули. Они все ушли, каждый свою сумку забрал, моя сумка упала на бок. Ещё тот Корниенко последний выходил, глазами окинул всю комнату, так посмотрел, ту сумку увидел — и они ушли!
В.В. Овсиенко: Это Господь ему глаза застлал, и всем им.
З.В. Попадюк: А ещё был один момент. На кухне возятся. Они там возятся, и я иду туда. Потому что якобы передвижение в доме было свободным, никто нас не заставлял сидеть на месте. Я захожу на кухню, чекисты копаются в тех кастрюлях, во всём этом. А у нас была такая коробка фанерная из-под посылки, с картошкой. И тут моя мама, никогда с чекистами не разговаривавшая и не будучи никакой такой услужливой: «Да что вы будете руки пачкать — я вам помогу! А ну-ка расстилайте газету». Они расстелили газету, она ту картошку на пол — шух, потрясла тем ящиком, потрясла: «Ну — нет ничего, нет!» И собрала ту картошку обратно. Они трое стояли возле неё и ничего не заметили. А я заметил, что из того ящика вываливается какая-то газета, какая-то бумага. После того, как они уже ушли — а они маму забрали с собой, — я к тому ящику, а там вот столько всяких самиздатовских вещей! И всё-таки её продержали где-то до часу ночи. В тот день были массовые аресты.
В.В. Овсиенко: Нет, это Божья сила. Что-то подобное рассказывала мама Валерия Марченко, Нина Михайловна. Когда она приехала на Урал на свидание к нему, он приготовил капсулы с текстами и в себе пронёс в комнату свиданий. Они лежали в чашечке на полке, их маме надо было забрать. А они неожиданно ворвались с обыском, потому что что-то заподозрили. Тот капитан Рак взял эту чашечку, а она про себя: «Матушка Божья, спасай!» И, говорит, Рак разинул рот, зевнул и поставил чашечку на полку.
З.В. Попадюк: Интересный момент. Что ещё? Во время этого обыска была у меня какая-то словесная стычка с кем-то из них, так что мне состряпали бумагу в университет, будто я во время исполнения ими служебных обязанностей их оскорблял, выражался нецензурно и так далее, чего и близко не было. Я где-то там подшучивал над ними, над их усилиями. В связи с этим меня через суд оштрафовали на 30 рублей за хулиганские действия в отношении работников КГБ. В связи с этим меня отчислили из числа студентов. Вот так.
В.В. Овсиенко: Ты в комсомоле не состоял?
З.В. Попадюк: Состоял.
В.В. Овсиенко: Тебя исключили после этого или когда?
З.В. Попадюк: Как-то так нет, у меня и сегодня есть тот комсомольский билет.
В.В. Овсиенко: То есть никаких процедур у тебя с комсомолом не было? Забыли про это?
З.В. Попадюк: Забыли, может, потому, что я комсомольцем был очень недолго. Я поступал в университет. Экзамены начинались 1 августа 1970 года, а за день или за два до этого я вступил в комсомол. Потому что я пошёл сдавать документы в университет, а мне декан, который принимал документы и проводил собеседование, говорит: «Ну, добрый человек, ну мы же... (а моя мама там работала, так меня там как-то знали). Как бы ты, золотой, не сдал экзамены, ты не комсомольцем тут не будешь, тебя никто не примет. Беги, как только можешь, тот комсомол делай». Я тогда взял бутылку коньяка, пошёл к первому секретарю Железнодорожного райкома комсомола Дзюбе, и он за 10 минут смастерил мне комсомольский билет. Мы пошли, по рюмке выпили, и так я стал комсомольцем.
В.В. Овсиенко: По советскому обычаю.
З.В. Попадюк: Да. Отдал тот комсомольский билет и так поступил в университет. А исключили меня из университета в связи с поведением, недостойным звания советского студента — так записано. Хулиганил против чекистов.
В.В. Овсиенко: Когда примерно исключили?
З.В. Попадюк: Это было, видимо, 16 февраля 1972 года.
В.В. Овсиенко: Это со второго курса.
З.В. Попадюк: Потом было лето.
ЛИСТОВКИ. ЖУРНАЛ «ПОСТУП»
Летом мы устроили солидную акцию — распространили листовки во Львове, в Черновцах, в Коломые, в Ивано-Франковске, в Стрые, в Долине...
В.В. Овсиенко: А как это? Вы везде были?
З.В. Попадюк: Да. Но я сам ездил и клеил эти листовки в Стрые и в Долине, в Ивано-Франковске, а кто-то ещё где-то. Это листовки, посвящённые четвёртой годовщине оккупации Чехословакии. Я сам этот текст делал. Скорее всего, он был хороший, потому что я после всех этих лет встретился с этим текстом, перечитывая своё дело, и он меня устраивает даже сейчас.
В.В. Овсиенко: Ты подумал: о, какой я мудрый был! — Так?
З.В. Попадюк: Да, потому что чекисты были глупее меня. Потому что они арестовали тогда каких-то двух людей, жителей Ивано-Франковска, за эти листовки, потому что нашли на их плащах клей, похожий на тот, который использовался при клейке. Но поскольку все силикатные клеи похожи, то, видимо, этим сходство и ограничивалось. Они полгода просидели в изоляторе КГБ в Ивано-Франковске. И только когда уже арестовали через полгода нас в связи с другими делами, то уже тогда это дело прекратили. Но всё равно тех двоих посадили за какие-то там мелочи по уголовной линии, которые нашли.
В.В. Овсиенко: А маму вызывали на допросы в связи с арестованными?
З.В. Попадюк: Конечно. Нет, на допросы её не звали — вот её продержали до ночи, где-то с четырёх до часу, и сказали утром прийти на девять часов к ним. Она к ним не пошла. Потом они ещё её звали, а она сказала, чтобы прислали официальную повестку. А они ей той повестки так и не прислали.
В.В. Овсиенко: Они были уверены, что из неё ничего не выжмешь...
З.В. Попадюк: Так у неё и закончилось общение с той командой. Хотя в университет через декана, через завкафедрой они по-всякому передавали. Но на личный контакт она тогда не пошла, так что её больше не звали.
Но в тот день, когда мы те листовки расклеили, я приехал в Самбор где-то в шесть часов утра или в семь, уже светло было, и лёг спать. Моя бабуля бегом мой плащ поправила, потому что действительно могли быть какие-то пятна от клея. Одним словом, я сплю, а где-то в полдевятого приезжает «волга» чекистская сюда, под дом. Интересуются, есть ли я. Бабуля открывает дверь, говорит, что я дома. «А когда он вчера пришёл?» — «Ой, очень поздно!» — «Когда?» — «Может, в час, а может и чуть позже». Они там себе посчитали (а я её научил, что надо говорить), что этого не может быть — потому что я пришёл в час ночи домой и сплю, то я к этому не имею отношения. А меня даже не будили. Так оно и забылось. А там арестовали двух человек.
В.В. Овсиенко: А когда тебя исключили, то жил уже здесь?
З.В. Попадюк: Меня исключили в феврале, я немного побыл во Львове, потом поехал на месяц или полтора на Кавказ, в Грузии был. А потом здесь.
В.В. Овсиенко: Был вольная птица?
З.В. Попадюк: Да, да.
В.В. Овсиенко: И тебя не принуждали к работе? Угрозы обвинения в тунеядстве не было?
З.В. Попадюк: Я подрабатывал. На Кавказе в строительный отряд пошёл. Мне нужно было подработать, чтобы иметь какие-то деньги.
Что ещё с теми чешскими событиями? Они делали запросы в Чехословакию, не было ли где-то похожих листовок. Они хотели доказать, что это листовки, созданные (или они хотели, чтобы так было) в Чехии и сюда переданные. А на самом деле я их состряпал сам.
Кроме того, журнал. В университете со мной учился такой Хвостенко Григорий — человек талантливый как филолог, без всякого сомнения. Наверное, он писал стихи, но не очень с ними показывался на людях. Человек немного загадочный и, по моему сегодняшнему мнению, похожий на героя из «Бесов», который провоцировал революцию. Он с Сумщины, собственно, из той ющенковской Ульяновки Белопольского района. Как-то я поехал к нему в гости на Сумщину, и мы там задумали тот свой журнал, «Поступ». Там мы клепали первые материалы для этого журнала. Мы сделали всего два. Он дал большинство статей для него...
В.В. Овсиенко: Чего два — два номера или два экземпляра?
З.В. Попадюк: Два номера. Большинство программных статей были его. Была интересная статья «Очерки о настоящем Грабовском», была «Корни и цветы русского шовинизма» — кажется, так называлась, насколько я помню. Это такой обзор или ретроспектива русской истории и истории литературы с точки зрения её великодержавности. Может, ещё что-то было, я не помню всех вещей. От меня было что-то такое общеполитическое — «Наше время», что ли. Или «Эпоха потребителя». Я что-то там пытался писать, что советская действительность такова, что мы перековываемся в простых потребителей, деидеологизируемся, и не сегодня-завтра станем европейцами по сознанию. Что-то было о крымских татарах.
Мы изучали «Историю Украины» Грушевского. Это было нашей внутренней работой.
В.В. Овсиенко: А журнал вы сделали в каком виде и сколько экземпляров?
З.В. Попадюк: В машинописном, пять одного и пять второго, страниц 60-65 было.
В.В. Овсиенко: Говорил Яромир Микитко, что кто-то его ещё и перепечатал, он размножался.
З.В. Попадюк: А, ну это было, было. Был тут во Львове какой-то Рейтблат, которого поймали с этим журналом. В те примерно 60 страниц мы напихивали всё, что могли: что-то из старого перепечатывали, ещё довоенного, что-то сами делали. Но что было такое, чего не было в других журналах того времени — мы давали ежедневную хронику важных событий. Это был двухмесячник. Кроме того, где-то в октябре, кажется, 1972 года, мы привели в порядок в Самборе могилу, где были похоронены те 900, которые были уничтожены в тюрьме после прихода большевиков. Мы поставили там крест, написали, что здесь похоронены 900 жертв НКВД. Это приписали Гелю Ивану, и в его приговоре это фигурирует, а потом это уже нам предъявили, когда арестовали. (Иван Гель во второй раз арестован 12.01.1972, осуждён на 10 л. лагерей особого режима и 5 л. ссылки. — В.О.).
И последней акцией, которая нашумела, было распространение листовок по поводу запрета празднования юбилея Шевченко.
В.В. Овсиенко: А что, такой запрет был?
З.В. Попадюк: По линии Львовского обкома партии, точно не помню. Кажется, Куцевол, или как его...
В.В. Овсиенко: Был такой...
З.В. Попадюк: Были отменены всякие вечера...
В.В. Овсиенко: Это мартовские?
З.В. Попадюк: Да, мартовские. В университете всё было подготовлено к вечеру — и всё было отменено. В связи с этим мы выпустили такую жёсткую листовку. Я, будучи либералом, всегда делал это менее жёстко. Текст я составлял, а Хвостенко всё-таки дописал слова, которые их больше всего зацепили: «красный террор» или «красный фашизм», или что-то такое, не помню. Эту листовку мы распространили массовым тиражом, сотнями, обклеили целый Львов. Нас было восемь — но мы клеили и руками другой группировки: на историческом факультете была группировка, в которую входили Худый, сын покойного Ивана Сварника Николай, работник государственного исторического архива. В той группе было 16 человек, так они это распространили. В ту ночь — ещё клеились во Львове те листовки, а меня уже здесь трясли с обыском.
В.В. Овсиенко: А ты лично их клеил?
З.В. Попадюк: Был обыск в доме, я лично не клеил. Я напечатал, отвёз. Обыск у меня в доме был потому, что такая, как говорят, герлфренд, подруга этого Хвостенко, известная поэтесса Надежда Степула, взяла часть тех листовок, которыми должен был распорядиться Хвостенко, и отнесла их в КГБ (так, по крайней мере, по версии КГБ) и сдала. Итак, Хвостенко прихватили, и Хвостенко сдал всё, что мог — ко всем, кого он знал, пришли с обыском, а кого он не знал — к тому не пришли. Именно Хвостенко сдал. Так я не знаю — то ли Хвостенко и Надежда вместе работали с КГБ, то ли Надежда отдельно работала с КГБ — этого я не знаю и никогда не узнаю. Но та Надежда и Пётр Лелык — это что-то такое, что было связано с КГБ. Ну, достаточно того, что так случилось. В деле прямым текстом написано, что принесла, есть её заявление о том, что она это сдаёт.
У нас проводили обыски, а когда пришли ко мне и говорят: «Ну всё, мы тебе дадим!», то я себе думаю: «Хорошо-хорошо, вы тут ищите!» А я знаю точно, что во Львове листовки клеятся. И было видно, как у них менялись лица. Они пришли в полвторого ночи и трясли тут всю ночь, а на утро им кто-то звонил — и какие они злые стали утром, когда поняли, что целый город заклеен!
АРЕСТ. СЛЕДСТВИЕ
Нас арестовали много — где-то более 20 человек, а может, 30, даже не знаю. Через два-три дня нас осталось где-то восемь арестованных — именно те, что были в нашей старой школьной организации, Хвостенко и ещё один-два.
В.В. Овсиенко: Тебя задержали тогда?
З.В. Попадюк: Тогда ночью и забрали. В ночь с 27 на 28 марта 1973 года. Завезли на улицу Мира, 1, теперь Бандеры, 1, в здание следственного изолятора Комитета госбезопасности. Я не могу сказать, чтобы я был очень взвинчен. Я был уставший, и я залёг спать. Проспал я почти полтора суток. Они меня поднимали что-то там перекусить, а я, в основном, спал.
Чтобы ко мне там применяли что-то... Никто меня не оскорблял, никто меня не трогал, не дёргал. Дали мне отоспаться. А потом начали на допросы водить. Один мой следователь имел свой стиль работы....
В.В. Овсиенко: А кто был твой следователь?
З.В. Попадюк: Такой Малыхин, майор.
В.В. Овсиенко: Малыхин? Да это знаменитый кагэбэшник!
З.В. Попадюк: Он — да. Но он умелый чекист, уже старый, психолог, видно. С каждым работал индивидуально. Меня тоже, так сказать, изучали. Его стиль был очень прост — он всегда показывал, что очень болен: сердце болит, давление поднимается — так он старался вызвать к себе сочувствие. Ну, а подследственный, или как он там называется, сочувствует своему следователю, ему жалко того следователя — и уже собеседник есть. А ему больше, наверное, и не надо было, потому что нас, парней, набрали много, каждый по одной мелочи сказал — и канва нашего дела разворачивалась очень быстро. За несколько дней у них была практически полная картина, кто что делал и как делал.
Я выбрал свой стиль: всё, что мне покажут из показаний других, я буду подтверждать или не подтверждать, а сам не буду рассказывать того, чего, может, и не следовало бы. Такой стиль некоторое время работал, а потом нам через 10 дней предъявили обвинение, потом проводилось более детальное следствие. Кого-то освобождали, кого-то отпускали, а на третьем месяце, когда уже дело подходило ближе к завершению, я понял, что под следствием остались только Микитко, я и Хвостенко, а остальных поотпускали. До суда мы дошли с Микитко. (Микитко Яромир Алексеевич, род. 12.03.1953, г. Прокопьевск Кемеровской обл. Россия. Член-основатель молодёжной организации «Украинский Национально-Освободительный Фронт» (г. Самбор). Арест. 26.03.1973, осужд. на 5 л. по ч. I ст. 62 УК УССР. Отбывал наказание в лагерях Мордовии № 17, 19, затем в лагере № 37 Пермской обл. Ныне живёт в г. Самбор Львовской обл.).
В.В. Овсиенко: Следствие длилось сколько месяцев?
З.В. Попадюк: Суд у нас был 6–7 августа, а арестованы мы были в марте, 28-го. А дело Хвостенко выделили в отдельное производство.
В.В. Овсиенко: А какие для этого были основания?
З.В. Попадюк: Основания — что якобы он находится на психиатрической экспертизе, что он признан неуравновешенным или ещё что-то там. И в конце концов он был отпущен. Или его судили и дали 5 лет условно...
В.В. Овсиенко: Его отдельно судили?
З.В. Попадюк: Отдельно судили и дали условно 5 лет, но он не был в заключении. А до этого он со мной провёл несколько очных ставок — не несколько, а две, — где он говорил, а я отрицал. А дело касалось принципиальных для меня вещей, потому что большинство было непринципиальным, так я и не возражал. Один принципиальный вопрос был, что в присутствии моей матери я отдавал Хвостенко, кажется, трактат Дзюбы. Я не хотел впутывать маму в эти дела, а он настаивал на том, что она знала и была участником этой передачи. И второе такого же типа, только касалось моей другой знакомой, Ольги. Тоже какая-то передача, и я тоже был заинтересован в том, чтобы её это не зацепило, потому что она была фактически ни при чём. Вот два таких момента.
Меня, правда, предупреждали. В своё время один человек, который давал свои стихи в журнал (такой Ганущак Василий, он сейчас в Печенежине, или то в Коломые), что Хвостенко Григорий — человек ненадёжный, может быть, что он какой-то там подосланный. Кто-то меня предупредил, что якобы видел у Хвостенко револьвер. Но я не придал этому особого значения, единственное что — я воздержался рассказывать ему, какие у меня друзья и где. И кого он не знал — того и не знал, того и чекисты не знали.
Маму уволили с работы где-то в июне, то есть на третий месяц после моего ареста. Где-то там учёный совет заседал — я уже подробно и не знаю, как это происходило. После этого она пошла работать медстатистиком в больницу — в ту же больницу, где Елена Антонив, вторая жена Черновола работала. Они её выжили и оттуда, так что она перебралась сюда, в Самбор. И здесь были всякие проблемы с инвалидностью — у неё случился один инсульт, потом второй, — и вышло так, что письмо о признании первой группы инвалидности пришло как раз в тот день, когда маму хоронили.
СУД
А потом — суд. До суда мы дошли, так сказать, по-разному потрёпанные. Были ли какие-то приёмы следствия? Ну, были там какие-то незначительные запугивания — что до конца жизни будешь сидеть или ещё что-то такое, — но в целом следствие велось довольно корректно — то ли потому, что мы были молодые, не знаю. Если вспомнить кого-то такого, кто бы запомнился с плохой, такой непримиримой стороны, то это был полковник Рапота — начальник или замначальника следственного отдела. Он уже был пенсионер, но любил там пощеголять, как говорится. А остальные нет.
И так дошли до суда. На суде своя специфика. Суд был закрытый.
В.В. Овсиенко: И в приговоре записано, что закрытый?
З.В. Попадюк: Да, «в закрытом судебном заседании». Была долгая катавасия — я настаивал на открытости суда, но не добился этого. Потом были судебные прения. Я стоял на том, что я никаких преступлений не совершил, а то, что я делал, — я считаю своим гражданским долгом, а там, где я ошибался, я сам разберусь, мне не надо, так сказать, подсказывать. Такая вот была юношеская позиция. У меня была такая позиция, а у Микитко немного иная. Насколько я ориентируюсь, его отец уговорил занять примирительную позицию с раскаянием. Но это ему не очень сыграло на пользу, потому что он с одной стороны говорил, что якобы раскаивается, а с другой стороны как-то так говорил, что всё равно он прав. Но если надо раскаяться, то я раскаиваюсь. Это так даже со стороны выглядело.
МОРДОВСКИЕ ЛАГЕРЯ
Мы поехали в Мордовию.
В.В. Овсиенко: Когда?
З.В. Попадюк: Этапировали нас, помню, 25 октября 1973 года.
В.В. Овсиенко: Разве вас обоих вместе повезли?
З.В. Попадюк: Повезли нас с интервалом где-то, наверное, в четыре дня. Но мы встретились в Мордовии на Потьме, на пересылке. Там был Аваков или Авакян, не помню уже. С ним Микитко и такой чечен Александр Александрович — был такой старичок, вылетела из головы фамилия, очень известный. Он был и референтом у Суслова, и ещё кем-то.
В.В. Овсиенко: Так это, может, Петров-Агатов? Он в зоне, когда слышал по радио песню «Тёмная ночь, только пули свистят в проводах...», говорил, что это его песня. Что ему до сих пор за неё гонорары платят. Кто верил, кто нет...
З.В. Попадюк: Петров-Агатов, да. И стихи у него были довольно интересные, если это его. Он такой немного авантюристического типа человек...
В.В. Овсиенко: Да, да.
З.В. Попадюк: Я помню какие-то куски из его стихов...
В.В. Овсиенко: Хорошие стихи, я тоже их слышал. Но закончил он очень плохо.
З.В. Попадюк: Я этого не знаю.
В.В. Овсиенко: Закончил он... Собственно, это не был конец его жизни, но 2 февраля 1977 года в «Литературной газете» появилась его статья против Гинзбурга и Орлова...
З.В. Попадюк: Я этого не помню.
В.В. Овсиенко: И именно в эти дни они были арестованы, уже за Московскую Хельсинкскую группу. А у нас 5 февраля Руденко и Тихого арестовали за Украинскую группу...
З.В. Попадюк: Это в его стиле, видимо.
В.В. Овсиенко: И это при том, что Гинзбург ему, когда он освободился, помог из фонда Солженицына приобрести помещение в Тарусе, чтобы он там жил, и он вот так отблагодарил...
З.В. Попадюк: Я помню: «Говорят, как будто для людей ласточка с небес огонь украла. Рассердился Бог и вслед за ней молнию метнул, острей кинжала. От удара раздвоился хвост, почернели крылья, только птица донесла нам искры дальних звёзд, и с тех пор в сердцах людей гнездится». А больше не помню.
В.В. Овсиенко: Стихи у него были интересные. Он иногда приходил и на наши украинские собрания, на Шевченковский день, и пускал слезу.
З.В. Попадюк: Да-да, он интересный человек. Он в Потьме нас так очаровал... Я там ещё с кем-то был, какой-то молодой человек... Да ведь Любомир Старосольский! (Род. 8.05.1955 в г. Стебник Дрогобычского р-на Львовской обл. Заключён 9.02.1973 г. по ст. 2 ч. 1 на 2 г. за вывешенный 9.05.1973 г. украинский флаг в Стебнике, вместе со Степаном Калапачем. Отбывал наказание в Мордовском лагере № 19). Мы со Старосольским встретились перед самым выездом, ещё во Львовском изоляторе КГБ. Нас вместе везли. Так вот, мы там, в Потьме, находимся, Авакова и этого Петрова-Агатова забирают из камеры — и заходит ещё один ООГП («Особо опасный государственный преступник». — В.О.) — Микитко! Заросший — нас-то уже побрили, а он заросший такой заходит. Там нас продержали ночь... А потом его забрали. Он заехал на 17-й лагерь, там он попал в руки к Черноволу.
Что ещё из того следствия было интересного? Всякие психологические моменты. Например, знают, что я встречался с какой-то дамой. Они вычислили, когда та дама ходит в университет мимо окон следственного изолятора. И меня в это время вызывают на допрос. Лето, открытые окна — вот вы себе постойте у окна, подышите свежим воздухом. И обязательно мне дают дышать воздухом, когда я ни с того ни с сего замечаю ту даму. Такие вот моменты.
Однажды прихожу на следствие, а на столике — букет цветов. Шоколадка, открытка. От кого? Оказывается, от Христины — была такая Христина Пидсаднюк, она умерла при родах. Это сестра моего коллеги, который в школе со мной учился, она жена Николая Сварника. Она во второй раз вышла замуж, у них родился сынок, который до сегодняшнего дня не двигается, хотя ему уже тринадцать лет, — церебральный паралич. Она же умерла при родах, так что он ухаживает за ребёнком сам. Все эти годы не женился, и вот только теперь.
Но я не к тому, что есть эти цветы. Я хочу знать, от кого. А мой день рождения где-то через день или через два-три. А они: «Постой, постой, открытку дайте сюда!» И смотрит на меня. Конечно, он из моей руки выхватил ту открытку, но я уже уловил, кто это написал. А они думали, что я не уловлю и, может, подумаю на кого-то другого. И в тот день задушевная беседа, и из меня что-то выкрутили. А выкрутить из меня можно только одно — ведь что я, шпион или ещё кто-то там такой, чтобы раскаяться? Чтобы сказал хоть слово, что моя мама в чём-то участвовала. Кстати, это было на протяжении всего следствия. У меня такое впечатление было, особенно вначале сильное, что речь идёт вообще не обо мне, а о матери. Так оно как-то выглядело.
Ну, приехали мы в Мордовию. А что касается Мордовии, то мы уже все знаем, прошли эти лагеря. Первые впечатления очень сильные и хорошие от тех заключённых, которые по 25 лет сидели.
В.В. Овсиенко: Кого ты там знал?
З.В. Попадюк: Очень сильное впечатление на меня произвёл Дмитро Синяк. Он в своё время был референтом УПА. Он не с Раховщины, а с той стороны Карпат, из Ясини. Синяя... нет, не Синя — Зелёная...
В.В. Овсиенко: Нет, Дмитро Синяк — оттуда, где Гвозд, Загвоздье...
З.В. Попадюк: Это Надворнянский район. Потом Мирон Иван.
В.В. Овсиенко: Тот из-под Бычковцев, что возле Ясини, из Росишки.
З.В. Попадюк: Нет, из Росишны. (В справочнике всё же Росишка. — В.О.) Михаил Жураковский из Ясени. А Николай Кончаковский из Рудок Николаевского района. Роман Семенюк из Сокаля. У него была очень интересная история с побегом из лагеря и с большим круизом по Днепру, по всей Украине, с разбрасыванием листовок. Они сбежали из лагеря с Антоном Олийныком...
В.В. Овсиенко: Тот расстрелян, а Роману три года добавили.
З.В. Попадюк: Да, 28 лет отсидел. Покойный уже тоже, он где-то в катастрофу попал.
В.В. Овсиенко: Кажется, один из них остался — Иван Мирон.
З.В. Попадюк: Иван Мирон — это такой характерник... Это не кающийся, но его жизнь сама по себе покаянническая. Это человек, который один день был в УПА, один день. Он только пришёл и залез в тот схрон, как я это помню...
В.В. Овсиенко: Ему тогда было лет 20. И получил 25 лет...
З.В. Попадюк: Да-да. Таких в 1956 году выгоняли из лагерей, говорили что-то там подписать, но Иван твёрдо стоял на своём — и остался. Там же были литовцы Людас Симутис и блаженной памяти Пятрас Паулайтис. С ним я там как-то сдружился, поскольку я с уважением к нему относился.
В.В. Овсиенко: С Пятрасом Паулайтисом ты был сначала в семнадцатом лагере?
З.В. Попадюк: Да, простите — это он на девятнадцатом был позже, когда я уже из Владимира вернулся. А вообще он на меня очень большое впечатление произвёл. Из уважения к нему я даже литовский язык выучил и по сей день помню.
В.В. Овсиенко: А из украинцев кто там был?
З.В. Попадюк: Я назвал тех стариков, которые произвели на меня впечатление своими сроками. И что было самое интересное — что они владели современной ситуацией... Я пришёл — молодой филолог, как раз влез в ту поэзию шестидесятников, это всё ещё у меня свежо, — а они оперировали этим не хуже меня! А ведь они по 25 лет сидели. Это меня очень поразило.
А из таких, которые похожи на меня, помню Василя Долишнего (род. 13.11.1930, с. Подлужье Тысменицкого р-на Станиславской, ныне Ивано-Франковской обл. – ум. 31.12.1995, с. Подлужье. С 13-и л. – связной УПА, арест. 16-летним, осужд. на 10 л. заключения и 5 л. поражения в правах. Освоб. 4.09.1954. Во второй раз арест. 21.02.1972, 7 л. лагерей строгого режима и 3 л. ссылки по ст. 62 УК УССР. В июле 1984 обвинён в «злостном хулиганстве», 3 л. — В.О.) и Кузьму Матвиюка (род. 2.01.1941 на Хмельнитчине, инженер, преподаватель, заключён в Умани 13.07.1972 г. по ст. 62 ч. 1 на 4 г. — В.О.), и Гришу Маковийчука (Маковийчук Григорий Трофимович, род. 1935 г. на Винничине. Рабочий Кременчугского автозавода. Заключён на 3 г. за листовки. Ст. 62, ч. І, 1972-75. — В.О.), и Игоря Кравцива (1938 г.р., инженер из Харькова. Заключён в 1972 г. за самиздат. Ст. 62, ч. І, 5 л. Отбывал наказание на Урале и в Мордовии. — В.О.) и, наверное...
В.В. Овсиенко: И меня туда принесло.
З.В. Попадюк: Да, само собой — Овсиенко пришёл. Ну, Старосольский был со мной.
В.В. Овсиенко: И молодые литовцы там были.
З.В. Попадюк: Из литовцев я очень Римаса помню, фамилию забыл.
В.В. Овсиенко: Я тоже забыл фамилию Римаса. (Чекялис. — З.П.)
З.В. Попадюк: Это был молодой парень, он на флейте играл.
В.В. Овсиенко: Да, он вдохновенно играл на флейте.
З.В. Попадюк: Бесспорно, впечатление на меня произвели и русские монархисты — Вагин, Капранов, Аверочкин, потом Огурцов мне встретился на больничной зоне. Ну, и эта команда из самолёта — «Группа-29».
В.В. Овсиенко: Самолётчики.
З.В. Попадюк: Там был такой Азерников...
В.В. Овсиенко: Да, Анатолий Азерников, Лассаль Каминский, Борис Пенсон, Михаил Коренблит.
В.В. Овсиенко: А Кронида Любарского помнишь?
З.В. Попадюк: Да, Кронид Любарский там же был. И Саша Романов из Саратова, наш коллега.
З.В. Попадюк: Он, кстати, мне недавно написал письмо. Мне очень стыдно, что я ему ещё не ответил.
В.В. Овсиенко: Саша Романов сочинил знаменитую эпиграмму на Зоряна Попадюка.
З.В. Попадюк: А я не знаю!
В.В. Овсиенко: Не знаешь? Он изменил только одну букву в известном стихотворении Лермонтова: «А он, мятежный, ищет БУРа, как будто в БУРе есть покой».
З.В. Попадюк: А я не знал, что это меня касалось.
В.В. Овсиенко: А на Кронида Любарского — он так проходил мимо барака, где Кронид жил (а Кронид же дворянского рода): «Вот здесь живёт потомок барский — Кронид Аркадьевич Любарский!»
З.В. Попадюк: И всё мне вспоминаются такие кондовые полицаи — такие суровые, и как они там ходили с этими повязками...
В.В. Овсиенко: СВП — «Совет внутреннего порядка», или же «Сука вышла погулять».
З.В. Попадюк: Да-да. И это всё на меня очень сильное впечатление произвело. А что рассказывать из той лагерной жизни, так я уже даже не очень помню. У меня она была какой-то такой... Не знаю, почему-то для меня всё вообще легко прошло.
В.В. Овсиенко: Зорян поставил там себе задачу: надо везде побывать. И в карцере, и в ПКТ, и во Владимирской тюрьме.
З.В. Попадюк: Я такой задачи себе не ставил. Я просто пришёл в зону.
В.В. Овсиенко: Ты сам мне говорил: везде надо побывать.
З.В. Попадюк: Я это, может, и говорил так, но я не рвался туда. Я себе иду, а навстречу мне тот подполковник Вельмакин, такой высокий, начальник режима. Идёт себе и идёт, он меня не знает и я его не знаю. Прошёл. «Почему вы не здороваетесь?» И чёрт меня за язык дёрнул сказать: «А что — я вам должен здоровья желать или что?» Что-то в таком духе, не помню. Или: «А я вам совсем здоровья не желаю». — «И как вы считаете, сколько вы суток заслужили за это?» А я сказал: «Каких суток? Я буду долго жить, я заслужил большую долгую жизнь — а что вы мне про сутки говорите?» Ну, дурака валял, да и всё. Он мне 14 суток дал, на третий день. Так начался мой лагерный опыт. Но я потихоньку отёсывался, отёсывался.
В.В. Овсиенко: А что у тебя с сердцем было тогда?
З.В. Попадюк: А это у меня (никто этого не знал) сначала начало скакать давление — какие-то сердечно-сосудистые проблемы возникли. Скачет: то я падаю и не вижу света Божьего, давление низкое, голова кружится, тошнит; то, наоборот, высокое давление, те же проявления, или ещё хуже. Ещё в 19-м это полбеды, а на 17-м было намного хуже. Было такое лето, что я всё время на нитроглицерине сидел. А был такой случай, что я свалился с ног, меня положили и не давали вставать 20 дней — считали, что это инфаркт. А после этого меня отправили из 17-го во Владимир.
В.В. Овсиенко: Постой. Когда тебя забрали из 19-го?
З.В. Попадюк: Я не очень помню тот день.
В.В. Овсиенко: Я помню, что когда началась зима, в конце 1974 года, вы с Любомиром играли в снегу, боролись, а я смотрел и думал: дети!
З.В. Попадюк: Мы лепили бюст Стуса из снега. Стус пошёл из карцера в баню, а мы за это время со Старосольским слепили Стуса из снега. У меня такое впечатление, что меня забрали из 19-го в 17-й где-то в феврале 1975 года. А в 17-м был Хейфец. Нет, не был, он позже приехал... А были Паулайтис, Дмытро Квецко (1935 г.р., лидер Украинского национального фронта, заключён в 1967 на 15 л. и 5 л. ссылки. Отбывал наказание в Мордовии, в Пермской обл., в Сибири. — В.О.), Валерий Граур, Паруйр Айрикян, Размик Маркосян.
В.В. Овсиенко: Маркосян был в 19-м.
З.В. Попадюк: Маркосян, наверное, был в 19-м, а там был, может, Рубен Арутюнян.
В.В. Овсиенко: Там такие были ребята — Виталий Лысенко и Юрий Бутенко...
З.В. Попадюк: Кстати, где тот Лысенко — никто не знает. Он украинизировался. А Бутенко — что-то припоминаю, но чтобы я его себе так представлял...
В.В. Овсиенко: Эти ребята сидели за свои специфические дела, их в выдаче секретной информации обвинили...
З.В. Попадюк: А там был Пётр Петрович Ломакин — это уникальный тип. И тот Ломакин мне помог во Владимир поехать, потому что я не выдержал его стукачества и решил дать ему в лоб. Не то что дать в лоб, а я посмеялся над ним: мы говорили под дверью, а он подслушивал с той стороны и держался за ту дверь, а я ту дверь дёрнул на себя — и он влетел в цех, и я его так же запихнул обратно. И всё. А он побежал к начальству жаловаться, что я его избил. Такая была история. Это был мне довесок к делу, но они это сделали потому, что я, так сказать, зацепил «ставшего на путь исправления Петра Петровича Ломакина», а я «на путь исправления не стал, систематически нарушал, за что помещался неоднократно в карцер, помещение камерного типа».
В.В. Овсиенко: А ты в ПКТ сколько отбыл?
З.В. Попадюк: Где-то два раза. Один раз я даже был со Стусом.
В.В. Овсиенко: Не 6 месяцев, а меньше?
З.В. Попадюк: Один раз я был 4 месяца. Мне дали 6 месяцев, но тогда как раз голодовка была по поводу Черновола — мы протестовали, что Черновола там очень по карцерам бьют. Тогда голодали и Стус, и я, и Лисовый, и кто-то там был ещё — там была куча людей. Тогда мы провели голодовку, так после этого нам тот срок списали. Нас всех вывели из голодовки и выгнали из ПКТ. Тогда Стус поехал на третий лагерь, а меня выгнали в 19-й. Так вышло, что я где-то около 4 месяцев просидел. Так я это себе припоминаю — может, неточно говорю.
ВЛАДИМИРСКАЯ ТЮРЬМА
В.В. Овсиенко: А из 17-го во Владимир тебя, видимо, отправили где-то перед 30 октября 1975?
З.В. Попадюк: Да — 28 октября. 28-е число — это у меня всегда интересный день. Арестовали 28 марта и, соответственно, потом освободили. 28 октября меня повезли из Львова в Мордовию.
В.В. Овсиенко: Потому что когда меня перебросили в 1975 году 30 октября, в День советского политзаключённого, из 19-го в 17-й, то там ещё было твоё тёплое место, и меня на него и положили.
З.В. Попадюк: Вот меня с сердцем положили в больницу. Я там отлежался — и отправили меня во Владимир. Тяжёлая мне та дорога была, потому что сердце меня всё-таки мучило. Во Владимире меня завели в камеру к Габриэлю Суперфину. Андрей Турик там был, ныне уже покойный. Третьим был Бондарь из Черкасс или из Белой Церкви, не помню — украинский демократ. Бондарь, но не помню имени. (Бондарь Николай Васильевич, род. 21.11.1939, ст. Вапнярка на Винничине. Киевский ун-т (1968), философ. Арест. на демонстрации в Киеве 7.11.1970 с лозунгом «Позор преступному руководству КПСС!». 7 л. заключ. в лаг. Мордовии, Урала, во Владимирской тюрьме. — В.О.). Мы вместе в тюрьме были. Они приехали с Урала, а я из Мордовии. Они меня там первые пригрели, выхаживали меня.
В.В. Овсиенко: Тебе там дали усиленный режим?
З.В. Попадюк: В тюрьме сначала усиленный — как все, на общих основаниях. А потом я встал на статус политзаключённого, мы отказывались от работы, так нас переводили на так называемый строгий режим на полгода. Потом пара карцеров — и снова строгий режим. Так оно и шло. Так я там тоже по карцерам находился.
Я приехал туда в конце октября — начале ноября. А в декабре я встретился в тюремной владимирской больнице с Владимиром Рокецким. Его забрали в канун Нового года, 31 декабря. Я остался один. Помню ту новогоднюю ночь: как раз примерно в двенадцать часов — молнии, страшный ливень — в полночь.
Был ещё один интересный случай. Будулак-Шарыгин Николай. Наверное, теперь уже старенький, если жив. Я своим сердцем хворал. Они меня подлечивали витаминами, время от времени каким-то усиленным питанием, в больницу клали. А бывали ночи, что я, как говорится, совсем плох был. Была там такая Елена Николаевна Бутова, хирург и начальник санчасти. Как-то весной 1976 года, может, даже уже в конце, она в очередной раз зовёт меня в врачебный кабинет и назначает кучу тех лекарств. Тот валидол всё время возле меня. Наконец я уже выхожу из кабинета, а она говорит: «А ну-ка вернитесь ещё. Откуда-откуда вы родом? А вам в школе давали такие маленькие белые таблеточки? Регулярно давали?» — «Давали». А этого никто мне не давал. Она ещё какие-то свои тесты провела и говорит: «Так, ну валидол я вам оставляю, на всякий случай». — Ещё от давления, дибазол или что-то. И говорит: «А это берите в крайних случаях, я это вам назначаю по одной таблетке в день в течение недели, а потом по одной таблетке в неделю». Ты себе представляешь, что я съел тут таблетку — и до вечера ничего не чувствовал, ни боли, ни головокружений, ни слабости. На второй день тоже, месяц я больше ничего не чувствовал. И так, тьфу-тьфу, до нынешнего дня. Оказывается, это был нормальный тиреотоксикоз, и он давал такие осложнения. Ударили тем СТ-1 (спецтюрьма) и всё — все проблемы с сердцем закончились! Такая вот была ситуация.
В.В. Овсиенко: Боюсь, что некоторые слова ты так нечётко произносишь, что трудно будет их разобрать.
З.В. Попадюк: Будем силлабизировать, как говорится.
Потом меня в 1976 году летом везут из Владимира во Львов — убеждать, что прошло время, что я должен был осознать, что наделал глупостей, что жизнь идёт нормально, ещё лучше, чем была несколько лет назад. «И почему бы вам не вернуться в университет?» А потом они взялись за мою маму и уговаривали её, с одной стороны, а меня с другой, чтобы мы выехали за границу. То ли они пробовали, что мы на это скажем, то ли действительно хотели нас за ту границу отправить — чёрт его знает. Такое было.
В.В. Овсиенко: И сколько это длилось?
З.В. Попадюк: Это где-то в течение месяца.
В.В. Овсиенко: А с дорогой ещё и больше?
З.В. Попадюк: С дорогой больше.
В.В. Овсиенко: Может, спецконвоем возили?
З.В. Попадюк: Нет-нет, по этапу, нормально, во всех точках. Во время этого этапа я и заразился туберкулёзом. Это было, не в Сердобске, а на какой-то пересылке... Может, это была Рузаевка. Нет, это в Саратове, точно.
В.В. Овсиенко: Тебя с туберкулёзниками держали?
З.В. Попадюк: Из Сердобской зоны везли двадцать с чем-то туберкулёзников, которые кашляли кровью, я простудился, а с ними я был где-то дней двенадцать. Когда вернулся в тюрьму, тоже начал кашлять, даже кровяные тельца были на платке. Потом мне это прошло. Я никому этого не говорил, лишь откашлял своё. Мне как-то и в голову не пришло, что надо что-то делать. А когда я из тюрьмы ехал на зону, мой вес был 49 килограммов.
В.В. Овсиенко: А куда тебя вернули?
З.В. Попадюк: Вернули на 19-ю зону, в Мордовию. Это уже был 1978 год, октябрь. Я уехал из Владимирской тюрьмы последним, после меня уже ни одного политзаключённого не осталось во Владимире. Потому что всех за месяц до того отправили в Чистополь. А я себе в карцере полтора месяца сидел, потому что что-то там забастовал. Просидел я свои 15 суток. Они мне на ночь кушетку заносили, чтобы спать на ней. Холодные эти каменные мешки. А я говорю, что я её не заносил и выносить не буду. Вредный я был всё время. «Как это не будешь выносить?» — «Вот так не буду». — «Так мы тебе и не принесём завтра, если мы вынесем». — «Ну, так я вас просить не буду». Мне за это дали ещё 15 суток. Но той кушетки не приносили.
В.В. Овсиенко: А на чём же ты спал?
З.В. Попадюк: А я устроился намного лучше. Это карцер, в карцере идёт труба. Это зима, а труба обогревает. Обогреть она не может, но она такая горячая, аж жжётся, аж шкварчит. А тепла никакого в том каменном мешке не даёт. Так я себе что придумал? Я себе сшил из той робы, пообдёргивал, сделал два хороших шнурка, зацепил эти шнурки за решётку, потому что там окошко над той трубой было, привязал себя к этим шлейкам и висел на небольшом расстоянии над трубой. Меня грело, простите, в зад — люкс. Не пекло, а грело. И я целыми ночами и днями спал. Те бедные — там много карцеров в коридоре — ходят, проклинают, ругаются, шумят, что холодно, потому что действительно холодно. А мне тепло спать, и я сплю. А те не знают, что я делаю. Они заглядывают в эти глазки и думают, что я на трубе сижу. А на трубе невозможно было сидеть. Я так полтора месяца проспал.
В.В. Овсиенко: Зимняя спячка была.
З.В. Попадюк: Люкс-спячка! Я там отдохнул в том карцере. Главное, что я с холодом справился, что он меня не мучил, тот холод. Я высыпался. А когда кончился мой срок, меня отправили в Мордовию.
СНОВА МОРДОВИЯ
В Мордовии уже было как-то легче. На 19-м лагере тогда вообще как-то немножко легче было — кормить стали лучше.
В.В. Овсиенко: А кого ты там ещё застал в 1978 году? Николая Руденко там не было?
З.В. Попадюк: Руденко был на третьем. Меня потом на третий взяли. А когда я попал на третий, я не помню. С Паулайтисом я раньше был на 17-м, а теперь встретился с ним в 19-м. Он удивлялся, что я немножко литовский язык знаю, потому что до этого я его не знал. Так мы с Паулайтисом сдружились... Надо поехать на его могилу. Кто-то ещё был, но сейчас я действительно не могу припомнить. Ещё и из тех стариков кто-то был.
А на третьем я встретил Юрия Бадзё (Бадзё Юрий Васильевич, род. 25.04.1936, с. Копыновцы, Мукачевского р-на Закарпатской обл. Арест. в Киеве 23.04.1979, по ч. І ст. 62 — 7 л. лагерей строгого режима (ЖХ-385/3-5, Мордовия), 5 л. ссылки в пос. Хандыга, Якутия. Освоб. 8.12.1988. — В.О.), с 19-й зоны Лёню Лубмана. Тогда, в 1978 году, был такой Хнох Арье, из евреев.
В.В. Овсиенко: А Дмытро Мазур тебе известен?
З.В. Попадюк: Не помню. На третьем был Николай Руденко (19.12.1920 – 1.04.2004. Писатель, правозащитник, председатель УХГ (9.11.1976), арест. 5.02.1977, 7 л. заключения и 5 л. ссылки. Освоб. в октябре 1987. Лауреат Государственной премии им. Т. Шевченко, действительный член Украинской Свободной Академии, Герой Украины. —В.О.), был Володя Романов — не Саша. Такой якобы монархист, но не из тех, что мы раньше их видели, а из конституционных монархистов.
КОЛЫМА
25 марта 1980 года я ушёл из зоны по этапу... Шёл я по этапу где-то, может, полтора месяца, долго шёл. Когда я приехал на место, то на всякий случай уже письма лежали. Калынцы подумали, что меня так долго везут, что от меня нет вестей, и бросили мне письма на место Стуса, потому что догадывались, что я там могу быть. Я там застал письма от Игоря Калынца к себе. (Род. 9.07.1939, заключён 11.08.1972 г. по ч. 1 ст. 62 на 6 л. и 3 ссылки. Поэт, лауреат Шевченковской премии 1991 г. — В.О.). Это посёлок Матросова. Рудник имени Берии — когда-то назывался, а теперь рудник имени Матросова. Тенькинский район Магаданской области.
В.В. Овсиенко: Ударение как — Теньки́нский?
З.В. Попадюк: Так говорили. А районный центр был Усть-Омчуг, в 130 км от рудника, а посёлок был там, где золотоизвлекательная фабрика, и меня возили туда — это Омчак, шесть километров. С горы вниз спуститься — вот и будет Омчак.
В.В. Овсиенко: Так ты что, жил в том же общежитии, что и Стус?
З.В. Попадюк: На том же этаже, в двух комнатах от Стуса. Ребята рассказывали о нём то одно, то другое, то третье. Каждый со своей точки зрения, так сказать, смотрел на это. Был там один из галичан, не помню уже, как звать. Он был очень обижен на Стуса за то, что Стус делал ему замечания, что он не говорит по-украински: «Я тут уже шесть лет — а как я могу на украинском языке?» Такой вот паренёк.
Пробыл я в этой ссылке, на руднике проработал где-то полтора месяца или около того.
В.В. Овсиенко: Что же ты там делал?
З.В. Попадюк: В шахте. Дали мне перфоратор — это как отбойный молоток, но на штативе. Я просверливал дыру глубиной примерно полтора метра. Таких дыр нужно было двенадцать или четырнадцать, не помню. Это я должен был в течение 6 часов просверлить в забое. Это был 600-й горизонт — 600 метров под землёй. А потом шли те, что со взрывчаткой, заряжали эти дыры, взрывали. И скрепером — в вагонетки, а что в вагонетки не забирали, то лопаткой подчищалось, вот и всё. А дальше шли крепильщики…
В.В. Овсиенко: Это руда какая-то или что?
З.В. Попадюк: Это золотая руда. Потом эту руду везли на КАМАЗах — или «Шкоды» были чешские большие — везли на золотоизвлекательную фабрику.
В.В. Овсиенко: Там, наверное, пылищи!
З.В. Попадюк: Да, пыль. Но я полтора месяца поработал, получил большие деньги — более 1000 рублей в месяц. Это по тем временам большие деньги, да и по нынешним тоже большие. Через какое-то время приехали с флюорографической машиной туда — и давай проверять. Сфотографировали и нашли у меня пятно на лёгких. Повезли меня в село Дебин — это 464-й километр Колымской трассы, от Магадана на север. Это примерно 200 км на восток и ещё 100 км на юг — так мне надо было с того места, где я был. Потому что я был где-то на 560-м километре. Колымская трасса расходится на две ветки, потом та вторая ветка сходится с той Тенькинской трассой, и потом она на Якутск идёт, если зимой, потому что летом там не проедешь. Одним словом, там мне сделали на лёгких операцию. Нашли, что там пятно. Сначала лечили от туберкулёза, но это ничему не поддавалось, все эти капельницы ничего не давали, и решили, что это туберкулома. А туберкулома — это фактически самоизлечившийся туберкулёз. Но есть очаг, он, так сказать, оболочкой затянут, и ткань такая плотная, аж обызвествляется. Если бы она где-то треснула, то снова бы обсеменилось.
В.В. Овсиенко: Когда тебе эту операцию делали?
З.В. Попадюк: Эту операцию мне сделали осенью 1980 года. То есть я лежал целое лето. Меня забрали в июле, это июль, август, сентябрь, а 10 октября мне сделали операцию. Это действительно была та туберкулома, удалили мне два сегмента правого лёгкого — вот и всё. Ещё подержали до января, в общем я был где-то 7 месяцев в той больнице. После этого я вернулся на рудник. На руднике я уже не пошёл в шахту работать, а начал работать в столярном цехе наверху. Там делали всякие вещи. Проработал где-то до апреля-мая, уже тепло было. Нет, в мае я ещё попал домой на 10 дней…
[Конец дорожки]
З.В. Попадюк: Не помню, 9-го или какого-то мая я получил телеграмму из дома, что мама заболела, что у неё случился инсульт, и мне дали отпуск 10 дней, не считая дороги.
В.В. Овсиенко: Как ты ехал, чем добирался?
З.В. Попадюк: Самолётом из Магадана в Москву и самолётом же во Львов. Там до Магадана идёт автобус, где-то примерно 8–10 часов, а потом самолёт, так же 8 часов до Москвы — Ил-62, помню, тогда был. А потом из Москвы самолётом во Львов, а из Львова уже сюда. Здесь я 10 дней был.
В.В. Овсиенко: В каком состоянии была мама?
З.В. Попадюк: Мама была в таком состоянии, что она ходила, но говорила ещё очень тяжело, её левая рука ещё не работала. Она такая, что не могла лежать. Она ходила возле дома.
В.В. Овсиенко: Так ты провёл весь отпуск в Самборе?
З.В. Попадюк: Да. Я отбыл свой отпуск, вернулся в ссылку. Было где-то уже начало июля. Меня вызывают в Усть-Омчуг, в районный центр, в КГБ. И пугают меня: ты такой-сякой, мы тут тебе состряпаем статью какую-нибудь за что-нибудь. Я на них, они на меня. Инсценировали, что уже меня арестовывают, потому что я не так себя веду. В конце концов сказали: езжай на рабочее место, там разберёмся.
Я поехал обратно в тот свой Матросов. На второй день приезжает чекист, приходит на работу, говорит, что уже был у начальства, там всё оформили, иди в кассу рассчитайся. Даёт мне бумаги, потому что у него уже все бумаги на руках. Поехали. Куда поехали? В Казахстан. Пятое отделение в Москве распорядилось, что в связи с туберкулёзом или с этими операциями перевести в менее отдалённые места.
В.В. Овсиенко: А кто-то ходатайствовал об этом?
З.В. Попадюк: Никаких ходатайств не было. Это, видно, те «голоса» говорили. То есть я мог писать в письмах, что я здесь, что здесь морозы — такое могло быть, но чтобы я ходатайствовал, чтобы кому-то писал заявление или что-то такое, то нет.
КАЗАХСТАН. ВТОРОЙ СРОК
В общем, меня перевезли в Актюбинск, тот сопроводитель-чекист ехал со мной. Привезли в Магадан, потом с пересадкой в Якутске до Актюбинска. В Актюбинске он сказал мне «пока-пока!», дал документ, ты, мол, должен добраться до посёлка Саралжин — в переводе с казахского примерно «желтоватый», Уильский район. Это далеко от Актюбинска на юг. Пески. У меня ни копейки за душой, ни копеечки не было. Я вынимаю эти документы и думаю, что же делать — есть хочется. Я на вокзале сижу, жду, когда автобус приедет. А там вокзал и железнодорожный, и автобусный. Приходит московский поезд, смотрю — какая-то женщина идёт с двумя маленькими детьми и такие узлы тащит. Она, бедная, еле живая. Думаю: помогу. Я взял эти узлы и до такси донёс. И они мне в карман какие-то деньги сунули. Я вытащил из кармана эти деньги — это была советская трёшка. А на трёшку можно было и наесться, и доехать. Я всё-таки наелся, купил билет — где-то там больше рубля он стоил. Доехал я до того своего посёлка. Меня поселили в то место, где передо мной была такая… Валера Марченко там был (Марченко Валерий Вениаминович. 16.10. 1947 — 7.10. 1984. Журналист, член УХГ. Заключён 25.06. 1973 на 6 л. и 2 г. ссылки, второй раз — 21.10 1983, 10 л. особого режима и 5 л. ссылки. Умер в тюремной больнице в Ленинграде. Похоронен на Покров в 1984 в с. Гатное под Киевом. — В.О.), а потом была та женщина-грузинка… Паилодзе. Меня поместили туда. Я вышел на работу — столярничал. Переделал себе ту квартиру, сделал себе коридор большой и тёплый, двери поменял. Одним словом, сделал себе настоящее жилище, чтобы можно было в нём жить. Видимо, на него не обращали внимания ни Валера, ни эта женщина. Я там всё поменял, чтобы не было холодно.
Там я пробыл около года. Первый отпуск я получил опять-таки в июле или на июль, 30 дней, меня отпустили домой в отпуск. Я приехал в Самбор, был здесь почти месяц. Вернулся в Казахстан.
В.В. Овсиенко: А мама в каком состоянии была в это время?
З.В. Попадюк: Мама была в несколько лучшем состоянии, чем год назад, потому что тогда я приехал сразу после инсульта. А теперь она уже была ничего, мы с ней ходили…
В.В. Овсиенко: А на что она жила? Это же две бабушки… У неё какая-то пенсия была?
З.В. Попадюк: У неё была пенсия по инвалидности, вторая группа. У бабушки моей тоже была пенсия. И вторая бабушка тоже имела пенсию. А я тоже с Колымы посылал деньги. Они купили большой цветной телевизор — по тем временам это были большие деньги — и холодильник. А ещё же помогали эти «международные амнистии», там посылка какая-то…
Кстати, я здесь Оксану встречал несколько раз, в гости ходил к ним, они жили там на Садовой. А с Оксаной мы знались с детства.
В.В. Овсиенко: Вы в одной школе учились?
З.В. Попадюк: Да, с пятого класса учились вместе. Как пришёл я в их класс, так и начал за ней бегать. Мама Оксаны заставляла её, чтобы она мне отвечала на записки. Потом судьба по-разному складывалась…
Вернулся я в Казахстан, вышел на работу. Вышел на работу — и в первый же день приехали чекисты, забрали меня. И три месяца меня в актюбинской тюрьме мутузили: что ты делал? И в прямом, и в переносном смысле.
В.В. Овсиенко: Следователь своими собственными руками, или кто?
З.В. Попадюк: Нет, не следователи — следователи спрашивали, а потом меня отпускали в камеру. Меня ловили на том, что я, скажем, незастёгнутый стою или ещё что-то, отправляли в карцер на сутки или на двое. А ночью приходили надзиратели и, так сказать, устраивали футбол. Так было раз пять. Потом чекисты приходили, а я не жаловался. Я знал, что это они организовали, и решил, что не буду ничего говорить. А потом сварганили это следствие. На следствие пособирали письма у всех знакомых, которым я писал…
В.В. Овсиенко: А что в деле было?
З.В. Попадюк: Ничего — то, что у тебя в приговоре.
В.В. Овсиенко: Это у меня есть, а ты сюда скажи…
З.В. Попадюк: В письме к маме, к Долишнему писал что-то о польской «Солидарности». Разным адресатам. Там масса, обыски делали и во Львове, и в Москве, и где-то по ссылкам у кого-то. В письме к такому-то писал о польской «Солидарности», упоминал чешские события.
В.В. Овсиенко: Афганистан?
З.В. Попадюк: Нет, не помню — об Афганистане, кажется, ничего мне не говорили. Это же 1981 год.
В.В. Овсиенко: Так ведь Афганистан оккупирован 29 декабря 1979 года.
З.В. Попадюк: Чего-то такого не было, не помню. Там якобы я о казахской национальности высказывался — такое нашли. Где-то я там казахам что-то говорил или что-то писал о казахах — подшутил по поводу национальных особенностей. Насобирали этого «шмальца» целую кучу и на том построили обвинение. Такой «липы», как они сделали на этот раз, нельзя было себе представить. Никакого документа. Я лежал в больнице на профилактике в районном центре месяц. То с тем говорил, слушал радио — ну, слушал радио, комментировал что-то в разговорах с кем-то там. Получилось, что высказывался против советской власти — ну и всё.
В.В. Овсиенко: Очевидно, они тебя не хотели пускать в Украину. До конца ссылки сколько ещё оставалось?
З.В. Попадюк: Довольно много. Это был 1982 год, а ссылку я должен был закончить в 1985 году.
В.В. Овсиенко: Ого! Поспешили.
З.В. Попадюк: Суд тоже выглядел смешно, но что делать. Уже тогда дали мне новый срок — десять лет заключения и пять ссылки. Но не особого режима, потому что я якобы имею туберкулёз. Действительно, такой закон был, по крайней мере в то время, что рецидивистами не признаются те, кто имеет такие болезни.
В.В. Овсиенко: Ты смотри, какие гуманные были!
УРАЛ. ОСВОБОЖДЕНИЕ
З.В. Попадюк: И отправили меня на Урал. Перед этим ещё избили при выезде из тюрьмы на добрую память — за то, что я время от времени что-то от них требовал. На прогулку не выводили, а я требовал прогулки. Вообще, это паскудное было время, потому что тогда как раз Брежнев умер, Андропов стал, и моментально изменился режим — в тюрьме собаками начали травить. Сразу почувствовалось, что «железная рука» берётся за дело.
Приехал на Урал, в 36-ю зону, в Кучино, и отбыл там до 1987 года. За исключением того, что был на больничном. Нет, потом нас из 36-й перевели на 37-ю. Освободили меня с 37-й. Или нет — не могу вспомнить…
В.В. Овсиенко: Интересно, какой была эта процедура? Я помню, что тогда, в 1987 году, начали и нас на особо строгом режиме обхаживать. Были слухи, что на строгий режим приезжали какие-то чиновники из Москвы. Из Киева, кстати, не было никаких чиновников.
З.В. Попадюк: Это было очень просто. В один день — это было всё-таки на 36-й зоне, значит, я был на 37-й зоне перед этим, а через какое-то время вернули на 36-ю. Просто-напросто забрали нас под вечер в барак усиленного режима, человек 11 или 12, с вещами — куда-то этапируют. Сидим по камерам по 4-5 человек. Куда нас этапируют — трудно сказать: может, на 37-ю зону, а может, куда-то в Явас, а может, в какое-то другое управление.
В.В. Овсиенко: Явас — это в Мордовии.
З.В. Попадюк: А как же это? Ага, Всесвятская. Ну, завезли нас на ту Всесвятскую. Высадили на вокзале из вагонзаков — подкатывает поезд, какой-то дальнего следования. Нас, человек 10-14, завели в поезд. Когда нас посадили в мягкие вагоны вместе с нормальными людьми, тогда мы поняли, что нас куда-то везут, неясно куда. Как, скажем, со мной было? Там два человека сидит, свободное купе — меня посадили в это купе и ещё кого-то, а два солдата — у дверей. Так мы ехали от Всесвятской несколько часов, до Перми.
В.В. Овсиенко: И никто ничего вам не говорит?
З.В. Попадюк: Более того — те солдаты, которые нас везут, спрашивают тихонько: «А куда вас везут?» Мы поняли: раз нас везут в таких вагонах, то что-то есть. Но нас спокойно завозят в Пермь, там подкатывают автозаки, закатывают в Пермскую тюрьму, запихивают по камерам — всё нормально, снова дома.
В.В. Овсиенко: Интересно…
З.В. Попадюк: Опять же, один из надзирателей, которые нас обыскивали, сказал: «Слушай, зачем вас столько навезли сюда?» А на второй или на третий день позвали одного, позвали другого, позвали третьего. И спрашивают: «Где бы вы хотели после освобождения жить? Куда бы вы вернулись?» — «Куда-куда — домой!» — «А где?» — «Ну, как где — там, откуда взяли». — «А где, адрес скажите». Ну, такой-то и такой-то адрес. «А что бы вы делали?» — «Что-то делал бы». — «А вы бы занимались антисоветской деятельностью дальше?» — «Я никогда антисоветской деятельностью не занимался! Почему я должен ею заниматься дальше?»
В.В. Овсиенко: Зачем она мне?
З.В. Попадюк: «Всё, иди». Второго так же. Это было где-то 31 января 1987 года. А потом 3 февраля, уже ночь, 11 часов — а радио нам не выключают. Обычно в 10 выключали, а это 11 часов, а радио ещё играет. В камере — кто что. С нами был Михаил Кукобака из Белоруссии, ещё были. А потом по радио говорят, что «Президиум Верховного Совета СССР издал Указ о помиловании ряда людей, содержащихся…» Когда мы это по радио услышали, то начали примерять этот кафтанчик на себя. Но что-то поговорили-поговорили, посмеялись да и легли спать. Почему мы легли спать и не подумали о себе? Потому что каждый из нас подумал так: ага, вызывали — может, кто-то где-то и покаялся? Может, кто-то написал какое-то покаяние? Может, того и освободят? Но чтобы каждый это к себе прикладывал, то такого не было.
Утром открываются двери: «Пошли за вещами!» Взяли нас, перевели в другие камеры. Там уже как-то свободнее…
В.В. Овсиенко: Кто там с тобой был, по крайней мере из украинцев?
З.В. Попадюк: Были Тереля Иосиф (Род. 27.10 1943, п/з 1962-66, 1966-76, 1977-82, 1982-83, 1985-87. — В.О.), был Виталий Шевченко (Род. 20.03. 1934, журналист. Заключён 14.04. 1980 на 7 л. и 4 ссылки по ст. 62 ч. 1. — В.О.). Ещё кто-то был, не помню. В нашей партии было 16 человек. Был Бедарьков, Гриша Исаев из Куйбышева. Мы побыли ещё день в той новой камере. Нам уже зачитали, что мы освобождены.
В.В. Овсиенко: Как — всем вместе или каждому отдельно?
З.В. Попадюк: Вот сколько нас было в камере — зашли чиновники в камеру и зачитали, что тот, тот и тот. Согласно Указу от 2 февраля 1987 года нас освободили. А это было 4 февраля вечером. Прочитали, что мы освобождены. Освободили в камере и заперли нас. Но утром открывают, совсем рано, выдают каждому билеты на поезд, вещи отдают, деньги отдают — где-то по 200 карбованцев, — и мы поехали в Москву. Привезли нас на нормальном автобусе к поезду, посадили в один вагон, и мы поехали в Москву — в зековских робах, с рюкзаками, лысые…
Когда мы появились в том вагоне, все пассажиры перепугались. А это очень смешная ситуация: я с тем, что из Куйбышева, а он такой большевик: «Пошли в ресторан есть». Сели. И каково тем пассажирам — пришли два зека с бирочками и заказывают еду… Официанты не знают, что делать.
В.В. Овсиенко: Может, милицию вызвать?
З.В. Попадюк: У них руки трясутся! Они там, наверное, уже обзвонили что угодно. Смешно это всё…
Приехали в Москву, по Москве погуляли. Нас останавливали на каждом шагу, водили в отделение, выясняли по документам, кто такие, что. Последний раз в ЦУМе нас прихватили — мы там одевались или что-то покупали себе.
В конце концов приехал я во Львов. Зашёл сначала к Михаилу Горыню. Михаил Горынь ещё был в больнице. Его тоже освободили, но он был не дома.
В.В. Овсиенко: Это когда ты прибыл во Львов?
З.В. Попадюк: 6 февраля 1987 года, наверное. А Горынь был в апреле освобождён, а может, и позже… Я знаю, что он тогда болен был.
В.В. Овсиенко: Горынь был освобождён 2 июля 1987 года…
З.В. Попадюк: Я не помню… Ага, его тогда привезли с Урала во Львов, и он в тот момент лежал в больнице. Оля Горынева мне сказала, что моя бабушка ногу сломала и находится в больнице. Я тогда взял такси и поехал в Самбор. Приезжаю домой, здороваюсь с сестрой бабушки, бегу в больницу. Такое…
В.В. Овсиенко: Я должен спросить: мама когда умерла?
З.В. Попадюк: Мама умерла 19 сентября 1984 года.
В.В. Овсиенко: Как ты об этом известие получил?
З.В. Попадюк: Это такая интересная история… Я очередной раз протестовал, потому что ко мне приехала, насколько я помню, секретарь суда. (Юрисконсульт, которая исполняла роль секретаря на суде в Актюбинске, Галина Устименко, мы переписывались, она ездила в Самбор к моим и ко мне. Добивалась, однако безуспешно, свидания. — З.П.) А меня не пустили. Я объявил голодовку. На восьмой день, или какой, не помню, мне приносят… А, нет — в конце концов я эту голодовку снял — о чём-то там мы договорились. И в тот день, когда я снял голодовку, мне приносят телеграмму, что мать умерла. Или письмо? Нет, всё-таки письмо было, по-моему. Это уже было 30 сентября.
ПЕРВЫЕ ШАГИ НА СВОБОДЕ
Ну, а дальше я уже не знаю, насколько это интересно…
В.В. Овсиенко: Надо, обязательно надо рассказать, что было после 1987 года.
З.В. Попадюк: Я вышел, встретился со своей нынешней женой Оксаной, мы поженились…
В.В. Овсиенко: Когда?
З.В. Попадюк: В 1987-м же году, в августе.
В.В. Овсиенко: Есть такие документы 1987 года, начала сентября, что был создан Комитет защиты политзаключённых, и ты там тоже был подписан — Горынь, ты и ещё кто-то.
З.В. Попадюк: Действительно, во Львове собрался Комитет, потому что ещё же не всех заключённых освободили. Ещё, скажем, Хмара не был освобождён. Я подписался, но чтобы тот Комитет действовал, я не помню. Оно как-то тогда шло само собой. Все эти комитеты разлетелись и начали работать на политику. (Украинская инициативная группа за освобождение узников совести — общественная организация, основанная в августе 1987 шестью бывшими политзаключёнными (Василий БАРЛАДЯНУ, Иван ГЕЛЬ, Михаил ГОРЫНЬ, Зорян ПОПАДЮК, Степан ХМАРА, Вячеслав ЧЕРНОВОЛ). В заявлении о создании группы подчёркивалось, что освобождение части узников совести не устраняет причин конфликта личности с властью, и это может остановить провозглашённое движение государства по пути демократизации политической и общественной жизни. Возглавил группу М.ГОРЫНЬ. Группа обратилась к правительству УССР с предложениями освободить всех политзаключённых, изъять из Уголовного Кодекса антиконституционные статьи, на основании которых репрессировали инакомыслящих, а также реабилитировать всех украинских политзаключённых с выплатой им соответствующей компенсации. Группа влилась в Межнациональный комитет политзаключённых. Его деятельность освещалась в российской, украинской и армянской неформальной прессе. Группа принимала участие в подготовке Международного общественного семинара. Её деятельность продолжалась до 1990, когда был освобождён последний украинский политзаключённый Богдан КЛИМЧАК. — Из «Глоссария» Харьковской правозащитной группы).
В.В. Овсиенко: Ну что ты — конкретные дела делались, вы же защищали отдельных людей. Я когда приехал в сентябре 1988 года к Михаилу Горыню во Львов, то тогда ещё Дмитрий Мазур сидел и в очень тяжёлом состоянии был. Так получилось, что я о нём больше всего знал. Михаил говорит: вот пиши текст, иди на почту и отсылай Горбачёву видеотелеграмму. (Мазур Дмитрий Дмитриевич, род. 1939, с. Гута-Логановская Малинского р-на на Житомирщине. Учитель, просветитель, близкий к УХГ, п/з 1970-71, 1980-88. — В.О.).
З.В. Попадюк: В марте или уже в феврале 1988 года я устроился на работу в управление торговли — носил хлеб по магазинам. Ездил на хлебной машине и развозил хлеб. Как-то старался войти в общественную жизнь. Были конфликты с милицией и с КГБ с самого начала, потому что паспорт не выдавали, надо было заполнять все эти формуляры, а они требовали на русском языке. Это был большой скандал, и в конце концов они сдались.
Позже, с марта, наверное, 1988 года, или в феврале, мы разработали такую анкету о государственном статусе украинского языка. Эту анкету мы здесь начали опробовать в Самборе. Моя Оксана в то время работала инженером на мебельной фабрике, распространяя анкету среди работников комбината, а я во Львове в Шевченковском гаю перед началом какого-то большого юбилея. Мы насобирали кучу подписей. Поехал я в Киев с этими подписями. Это было ещё прохладно — где-то конец марта или начало апреля. Я начал искать, кто же из «больших» взялся бы за эту работу, чтобы её продолжить и всё-таки поставить серьёзно. Куда же я направился? Подался в Союз писателей. Заседал «Зелений світ» в Мариинском дворце. Оксана со мной была. Оксана где-то на седьмом месяце беременности. Там был Иван Драч — я к Драчу, говорю, что собрали несколько тысяч подписей, вот здесь анкеты. А перед этим Иванычук Роман фактически отказался, и ещё некоторые львовские «столпы» отказались — все боялись. Хоть я и советовался по поводу текста с Михаилом Горынем — но его я не хотел привлекать к этому делу, потому что уже одно его имя будет отпугивать людей. А так люди подписывались охотно.
Одним словом, меня выставили из этого Союза писателей. То есть сказали, что красиво, работа большая, хорошая, но не впутывайте туда Союз писателей, потому что, как сказал Иван Драч: «Вы мне принесите 50 миллионов подписей — тогда я не побоюсь и возглавить, и подписать это, и никто мне не скажет, что Союз писателей инспирировал это дело». — «Пошёл ты в баню», — думаю. Нашли мы Николая Рябчука. Николай Рябчук согласился, говорит: «А я возьмусь за это». Но прошло ещё несколько недель, события разворачивались очень стремительно. Я насобирал ещё несколько десятков тысяч подписей и снова отвёз в тот же Союз. Когда я уже второй раз пришёл в Союз с этими подписями, они у меня с руками оторвали эти подписи — уже колесо, та лавина, так сказать, начала набирать обороты. Потому что времена изменились, уже эти подписи пошли и пошли. Это одно.
Второе. Мы здесь создали общество. Был такой Владимир Кобильник, местный этнограф и политический деятель. Мы назвали общество его именем. Он один из основателей музея Бойковщины в Самборе. Это общество действовало фактически параллельно с Обществом Льва во Львове. Жизнь забурлила. Так дошло до выборов 1990 года. Или это был 1989 год…
Был такой интересный момент. В 1989 году, когда началась предвыборная кампания, которая была уже как бы полудемократической или на четверть демократической, меня внезапно вызывает (а я себе простой носильщик хлеба в магазинах) первый секретарь горкома партии и начинает меня допрашивать: «Почему же вы не баллотируетесь в депутаты?» Ах, эти депутаты, ах то-то-то. Я его поблагодарил. Он спросил, может ли он мне чем-то помочь, может, какую-то другую работу надо найти? Может, вам чем-то подсобить? В таком духе. Я поблагодарил вежливо и пошёл себе дальше носить хлеб, а позже попал на операцию по поводу аппендицита, после этой операции пошёл на мебельный комбинат столяром. Правда, с большим трудом, потому что директор этого комбината бегал спрашивать у кагэбэшников, можно ли меня столяром принять, или нельзя. Кагэбэшники сказали, что можно мне столяром работать.
ПРАВЛЕНИЕ
Но местная «Просвита» меня всё-таки выдвинула кандидатом в депутаты местного Совета — там их в Совете было 150 человек. Выдвинули меня от того округа, где я живу. Но ни с того, ни с сего управление торговли, в котором я уже не работал и никакого отношения не имел, — читаю в газете, что управление торговли выдвинуло меня от Центрального округа. Там, наверное, чекисты научили, чтобы они провели собрание и выдвинули меня. Не знаю, чекисты или не чекисты, но суть в том, что они меня всячески привлекали к общественной работе. На выборах я выиграл. Я баллотировался не в своём округе, а в том, и там я выиграл выборы. И мало того, что меня избрали депутатом — позже меня избрали председателем городского Совета. Это было в мае 1990 года. Это была интересная баталия, потому что собрались на первую сессию и предложили на пост председателя горсовета первого секретаря горкома партии, но он несколько голосов недобрал. Его соперник, руховец, так же недобрал. Тогда выдвинули меня, и я набрал с лихвой. А перед этим была большая катавасия, потому что сельские округа хотели отделиться от городских. Сельские округа — это «красные директора» или «красные» председатели колхозов. А городские округа — это, как правило, демократы. Городских округов была треть, а тех — две трети. Во Львове тоже были протесты, и когда мне предложили идти на председателя горсовета, я бегом поехал к Черноволу. Захожу к нему, а он принимает людей и советуется, что делать. Я говорю: «Вячеслав, предложили мне идти председателем Совета в Самборе — что мне делать?» А он говорит: «Да слушай, мне так же сегодня это сказали, идти на председателя облсовета, и я думаю, что надо идти». Говорю: «Тогда пошли».
Наши партократы, как мы их тогда называли, сначала взбунтовались, ещё перед теми выборами ездили в Киев, их там из Киева поддерживали. Совет не собирался, потом они хотели собрать отдельно тех сто сельских депутатов. Тут взбунтовались мебельная фабрика, «Сельхозтехника», выгоняли их из всех залов — где они только не хотели собраться, туда приходили рабочие и вышвыривали их. В конце концов дошло до того, что мы должны были вступить в переговоры, все те председатели колхозов пошли на переговоры и согласились с тем, что будем вместе проводить сессию, не будем разделяться. На этой сессии, 5 мая, они выговорили для себя, что первый заместитель должен быть от них — от председателей колхозов. Мы согласились, и от меньшинства избрали председателя, а первого заместителя — от большинства. Но потом это всё менялось — люди меняли свои взгляды, те «красные директора» стали большими националистами буквально за какой-то месяц. (Самборский городской совет включал в то время 109 населённых пунктов и состоял из 150 избирательных участков — 49 городских и 51 сельских, то есть насчитывал 150 депутатов. — З.П.).
Я стал председателем Самборского городского совета, потом председателем исполкома и Совета — объединили меньше чем через год. Потом представителем президента в Самборском районе и в городе Самборе. А в городе Самборе — это уже было нелегитимно, потому что такого в законе не было. Это мне городские депутаты делегировали функции управления городом. И так было до 1994 года. А в 1994 году были выборы, я уже на выборы не пошёл. Пошёл на эти выборы мой первый заместитель, он выиграл выборы и стал главой администрации, а я пошёл к нему заместителем.
В.В. Овсиенко: А почему ты не пошёл на выборы?
З.В. Попадюк: У меня не было таких амбиций. Я понимал, что моё время прошло — когда нужно было брать политическую власть. Настало время других людей. Хотя я очень жалею — мы проводили реформы, и очень неплохо начинали. Скажем, сегодняшний Указ Президента о реформах в сельском хозяйстве — это слово в слово то, что мы сделали на своей сессии, мы их фактически и начинали. Мы первыми в Украине провели приватизацию государственной торговли, мы её полностью разгосударствили. Вся переработка мяса фактически остановилась, а наша первая частная фирма — большой мясной комбинат — работала. Мы шли ва-банк, но мы действовали. Этот глава, что после меня был, — он, с одной стороны, неплохой парень, а с другой стороны, он дальше не шёл, потому что, как говорят, от добра добра не ищут. Я всё толкал вперёд, чтобы уничтожить ту старую систему.
А потом меня Николай Горынь засунул в Старый Самбор представителем Президента… (Горынь Николай Николаевич, брат М. и Б. Горыней, род. 29.01. 1945 г. в с. Книсело Жидачовского р-на Львовской обл. Окончил Львовскую Политехнику в 1968 г. В 1990 — зам., 1992 — председатель Львовского облсовета, 1995-97 — глава облгосадминистрации. — В.О.). Это с 30 декабря 1996 года по апрель 1998 года. Но по апрель — это так формально, потому что фактически я был там по ноябрь 1997 года. Заболел, лечился в Киеве в Институте нейрохирургии, а остальное время — на больничном.
Там возникла такая проблема, что депутат Фурдычко шёл кандидатом в депутаты от этого Старосамборского округа и форсировал там Аграрную партию, а я хоть и не выступал против этого, но и не поддерживал никаким образом. Тогда они фактически решили меня оттуда выпихнуть. Я это почувствовал, подал заявление и ушёл. Я написал заявление и через два-три дня заболел, а они на это заявление отреагировали поздно, когда я уже лежал в Киеве в нейрохирургии. Президент издаёт указ об увольнении меня по заявлению. А это же незаконно. И тот Указ Президента завис где-то с ноября до середины апреля следующего года. Тогда же я снова был переведён заместителем главы районной администрации в Самбор. Так они выходили из положения, потому что издали незаконный указ и потом ездили сюда один за другим паломники из Киева, из аппарата Президента, на переговоры, как же это сделать, чтобы и овцы были целы, и волк сыт. Нашли такой компромисс.
ИТОГ
В.В. Овсиенко: Такая твоя жизненная история…
З.В. Попадюк: Не знаю, насколько она интересна… Не всё помню. Масса очень интересных людей мне повстречалась. Если бы сесть за это с ручкой… Потому что когда говоришь, то не всё вспомнишь.
В.В. Овсиенко: Так надо сесть и написать. Как-никак, а это живая история.
З.В. Попадюк: Что ещё можно сказать? Я от своих взглядов никогда не отступал. Я всегда был настроен либерально и таким остался.
Что я могу сказать о том, что сейчас делается? В последнее время появился какой-то оптимизм. Независимо от того, кто там у власти, но всё складывается более-менее неплохо. Я думаю, что всем этим движениям — теперь надо говорить «движениям», потому что оно не одно, — и всем этим мелким партиям в индивидуальном порядке, мне кажется, надо идти в те большие структуры, которые создались, и делать их такими, какими мы хотели бы видеть те свои, теперь мелкие организации. Другого, наверное, выхода нет.
В.В. Овсиенко: Ты, кажется, ни в каких партиях не состоял?
З.В. Попадюк: Я был в НДП и вышел из неё, когда она полностью легла под Кучму. Вместе со Стецькивым и его командой я ушёл. Позже я посматривал в сторону ПРП, но меня там отпугнули некоторые механизмы её деятельности. А на президентских выборах оказалось, что не стоило туда и идти.
В.В. Овсиенко: Как-никак, а всё-таки, по большому счёту, Господь к тебе был милосерден.
З.В. Попадюк: Да, конечно, без разговоров.
В.В. Овсиенко: Ты претерпел немало страданий, но что-то в какой-то мере и воздалось. По крайней мере — я немножко знаю от тебя историю с Оксаной — в этом проявилось то милосердие Господне.
З.В. Попадюк: Не только это. Скажем, вот и бабушка, которой уже 95 лет, — она дождалась меня. Она же не знала, как всё это будет. Потому что есть свои угрызения совести, что ты же 14 лет мог бы как-то о ней заботиться. Так хоть теперь, на старости… И друзья, которые были в тени, оказались настоящими друзьями. Так что я не могу сказать, что жизнь моя такая плохая, — наоборот. Да, в конце концов, я легко воспринимаю жизнь — я, наверное, легкомысленный.
В.В. Овсиенко: Судя по тому, как я тебя уламывал на этот разговор, так и есть.
Ну, хорошо, Зорян, я очень рад, что мы эту работу заканчиваем. Я искренне благодарю.
З.В. Попадюк: Взаимно!
В.В. Овсиенко: Я тебе этот текст постараюсь дать. Может, он станет основой для того, чтобы его значительно расширить, дополнить, дописать. Я уже устал повторять, что история — это не всегда то, что было, а то, что записано. А история народа состоит из историй конкретных людей.
Этот разговор мы закончили уже 28 января в 0 часов 50 минут, года Божьего 2000-го.
З.В. Попадюк: Это мы уничтожили две кассеты — так?
В.В. Овсиенко: Почему уничтожили? Я ещё и размножу их вдвое.
З.В. Попадюк: Я тут знаешь какую кассету имею? У меня есть «Невольничьи плачи» Красивского, записанные с его голоса.
В.В. Овсиенко: Да, но здесь я не могу их переписать. У меня дома есть двухкассетник.
З.В. Попадюк: Но этот голос — это теперь реликвия для меня. Как-нибудь придумаем.
В.В. Овсиенко: На третьей кассете Зорян Попадюк расскажет о других людях, которых он знал.
[Конец кассеты 2]
О САМЫХ СВЕТЛЫХ ЛЮДЯХ
В.В. Овсиенко: 30 января 2000 года. Это Зорян Попадюк будет рассказывать о лучших в мире людях, начиная с Оксаны ГУМЕННОЙ — так?
З.В. Попадюк: Ой-ой-ой — это очень тяжело! Ну, что ж — тема задана, значит надо говорить. Может, я заговорюсь, потому что об Оксане я могу вообще сказать больше, чем о себе.
В.В. Овсиенко: А ты не всё рассказывай — кое-что.
З.В. Попадюк: Наверное, есть такие женщины, о которых можно говорить всё. Если даже это будет что-то, что не всегда со знаком плюс, то всё равно оно будет характерным, потому что она характерница. А это моя одноклассница. Мы познакомились, когда я пришёл в её пятый класс, потому что раньше я не в той школе учился. Перешёл к ним и так сразу начал за ней ухаживать. Так я долго ухаживал — правда, она не очень-то отвечала взаимностью, пока её мама не погрозила ей пальцем и не сказала: «Ты что? Тебе пишут записки — так чего не отвечаешь?» Ну, это такое.
В.В. Овсиенко: Как — её мама?
З.В. Попадюк: Да. Ты написал Оксане письмо, как только освободился. Ты знал из лагеря или откуда…
Она в первый раз вышла замуж за моего одноклассника, когда я был в тюрьме. Это было в 1975 году. Она тогда окончила Львовский лесотехнический институт, приехала домой в Самбор — и такая ситуация сложилась.
К тому времени, когда я уже, так сказать, добился (так мне, по крайней мере, казалось) сердца своей Оксаны — это был где-то восьмой класс, или даже седьмой, — когда я уже всё вроде бы достиг, что мне, казалось, нужно было в то время, я столкнулся со страшной проблемой, как и все подростки, — а что дальше делать? Я не знал, что делать, и должен был, так сказать, где-то отступить. Ну, а потом настали другие времена. Я пошёл в десятый класс во Львове учиться, там заканчивал школу, появились другие интересы, новые знакомства. Мы встретились уже где-то перед арестом.
А когда я приехал в отпуск из ссылки, с Колымы, из Магаданской области, то как-то зашёл к ним в гости. У них маленький ребёнок был. Мы встретились как-то очень взволнованно. А на второй год меня отпустили уже из Казахстана. Тогда не виделись — потому что она где-то уезжала. Но у нас завязалась переписка. Переписка была такая довольно хорошая. Я отбыл своё и вернулся. Когда я наконец окончательно (надеюсь, что окончательно) вышел из той тюрьмы, мы встретились и так уже не расставались. А на то время у неё была своя проблема, потому что муж был очень болен, алкоголизм, какая-то тяжёлая стадия. Это у них семейная беда — и брат у него был такой, что до какого-то момента держался, а потом… И отец тоже.
Ну, как бы там ни было, они уже практически не жили друг с другом. Одним словом, она развелась, и мы поженились.
А если говорить о том, чем она могла быть интересна, то даже не знаю. Не знаю — была ли это юношеская влюблённость, или что, но меня тянуло к ней. Я приехал раз, второй раз, третий раз — ну, на третий раз это уже окончательно. К тому же, она ещё была человеком общественным, не инертным. Когда мы ещё в школе что-то делали, я всегда её посвящал в эти дела. Мы на могилы сечевых стрельцов ездили во Львов, а теперь здесь появилась настоящая работа, этот сбор подписей за придание украинскому языку статуса государственного. Фактически, она начала эту акцию у себя на мебельном комбинате, где инженером работала. Эта акция завершилась многими тысячами подписей. Тогда ещё были всякие репрессии в её адрес. Правда, её уже с работы не выгнали, время было немножечко полегче. Она это начала, потом мы решили выйти в люди. Она имеет отношение к тексту этой анкеты — она её подправляла и размножала. Она очень горячая женщина — если что-то не так, как ей кажется правильным, то она будет отстаивать: или смерть, или так, как она говорит.
Ну и вот так мы… Любчик у нас родился в Киеве семимесячным мальчиком, потому что мы как раз возили те подписи, и не очень успешно, так как среди наших больших авторитетов — я имею в виду и Драча, и других, Романа Иванычука… Были такие, которые не очень хотели браться за это дело с подписями. Нервы на это ушли, и всё. Например — я не знаю, можно ли это говорить, но это такое, что не будет везде переписываться, — Иван Драч заявил: «Вы мне принесите 50 млн. подписей — тогда я подпишусь». Это было как раз в Мариинском дворце — там какой-то съезд заседал, или что-то такое.
Любчик тогда родился. (9 апреля 1988. — В.О.). Мы тогда были в квартире Оли Гейко в Киеве. Мы собирались идти на метро, чтобы домой возвращаться, и начались проблемы с рождением Любчика… (Гейко-Матусевич Ольга Дмитриевна, род. 9.09. 1953, г. Киев. Филолог, член Украинской Хельсинкской группы. Арест. 12.03 1980, осужд. по ст. 187-І на 3 г., 12.03 1983 в Одессе, после вручения ей справки об освобождении, арест. и обвинена по ст. 62, ч. 1, осужд. на 3 г. Наказание отбывала в Мордовии. Активистка УКК. Сейчас журналистка. — В.О.)
Я говорил минуту назад, что Оксана окружает такой опекой, что у человека постепенно атрофируется умение заниматься хозяйством, что-либо делать — она всё за тебя сделает. Единственное — что не очень думает за меня. И время от времени она восстаёт, потому что должна восставать: мужчина, так ты уже совсем отошёл от любой домашней работы? Тогда я с полным рвением берусь за какую-нибудь ерунду — пылесос или за что-то такое. Ну, может, я немного преувеличиваю.
Судьба, конечно, не очень хорошо обошлась с ней, потому что с первым мужем были проблемы. Когда она выходила за меня замуж, то она шла в этот дом. А здесь были ужасные бытовые условия. Моей бабушке, которой 95 лет, тогда было на 13 лет меньше — но это всё равно возраст уже тяжёлый. И её сестра, которой было уже почти девяносто. Так что Оксана видела, что здесь ей не будет легче. Она шла в более тяжёлые условия, потому что у неё дома было намного лучше.
Я себе работал тогда, носил хлеб на плечах или на голове. Зарплата была никудышная, и если что-то и держалось, то на её зарплате. И самое главное — это непонимание окружения, знакомых. Все, начиная от директора того мебельного комбината, на котором она работала. Он говорил, что свинья всегда своё болото найдёт. А тот, что всегда ходил в вышиванке, но для него это было… Потому что тюремщик. И заканчивая всем окружением: куда ты идёшь? что ты берёшь на себя? его завтра заберут в тюрьму, а ты останешься со всеми его проблемами. Не знаю, что ею больше руководило — чувство ли какого-то долга, или любовь, или просто какая-то одержимость. Я тоже осознавал, что меня могут в любой день забрать, тем более что тогда ко мне часто цеплялись то с одним, то с другим. А как она здесь останется? Такая вот ситуация. Сейчас мы работаем себе вместе, на одной работе.
В.В. Овсиенко: А я, Зорян, помню, когда мы были в Мордовии, ты как-то сказал об Оксане: «Она меня будет ждать». А я себе подумал: да где уж, парень, у тебя впереди 12 лет неволи, а там ещё бог знает что будет после этих 12 лет — ой, вряд ли! Это я себе так подумал — а видишь, вышло почти по-твоему.
З.В. Попадюк: Мне очень странно, что я говорил, что будет ждать, потому что я категориями «будет ждать» вряд ли думал тогда, так как мне казалось, что я буду всю вечность сидеть, казалось, что я никогда оттуда не выйду. Я очень либерален в этом плане. Я всегда возмущался теми, кто там, в неволе, ждал от своих жён какой-то такой суперпреданности.
В.В. Овсиенко: В связи с этим, наверное, можно вспомнить Николая РУДЕНКО?
З.В. Попадюк: Это я и имел в виду. Но не только. Был ещё один такой, которого я так же как-то приводил в чувство. Я всегда думал так, что если ты хочешь иметь — но не знаю, для записи ли это, — если ты хочешь иметь женщину, которую ты хочешь и любить, и уважать, с которой тебе должно быть приятно пойти куда-то, то эта женщина должна быть женщиной, а не сторожем в твоём доме или ещё чем-то таким. Я никогда никого не подговаривал, скажем, вести распутный образ жизни, но каждый человек должен оставаться человеком, и у меня уживалось понятие человеческого вместе со всем тем, что человеку присуще.
В.В. Овсиенко: А вот вспомнили мы Николая Руденко. Тебе довелось с ним немного побыть в каком лагере — в девятнадцатом, да?
З.В. Попадюк: Мы с ним в 19-м встретились в 1978 году. Я приехал из Владимира. Мы с ним были почти два с половиной года. Позже мы вместе с Николаем Руденко попали на третий. Может, я что-то путаю немного…
В.В. Овсиенко: Это такой человек, о котором стоит фиксировать всё, что кто помнит.
З.В. Попадюк: У меня ещё здесь между книгами лежит старая его книжка. Я себе представлял Николая Руденко как «советского писателя». А тут я встречаюсь, а он сразу со своими стихами, кусками поэмы, где затронут голод… Я был под впечатлением «Колымского тракта», о котором тот Петров-Агатов писал. Он мне ещё помнился на тот момент. А тут — опять же, не всё стоит говорить, но я вижу, что пан Николай — неофит, неофит в своём почтенном возрасте.
В.В. Овсиенко: Он 1920 года рождения. В этом году, 19 декабря, ему будет 80.
З.В. Попадюк: О голоде, об УПА — это для него была фактически новая информация. У него всю жизнь были другие обстоятельства и окружение — он же и фронтовик, и ранен во время войны. Его жизнь проходила в других координатах. Его диссидентство и его участие в Украинской Хельсинкской Группе — это был всё-таки протест именно советского гражданина. Я его застал как раз на пути такой ломки, такой страшной или большой переориентации, как теперь привычно говорить, вправо. Он с таким энтузиазмом… Не с энтузиазмом, а с такой болью рассказывал о голоде. Но потом всегда добавлял: «Я это знаю не совсем из своего опыта, потому что у меня были другие обстоятельства, я этого не почувствовал на себе». Это то, что мне запомнилось с первых волн знакомства с ним.
Были разные дискуссии. Скажем, он в поэзии сторонник традиционного стиля. Тогда велись дискуссии вокруг поэзии Игоря Калинца, его верлибра, вокруг поэзии Стуса. Михаил Хейфец даже отразил ту дискуссию несколькими словами, что якобы я заявил, что Стус — это величайший современный поэт. А Николай Руденко говорит: «Да о живых так нельзя говорить». А я говорю: «Так что — он должен для этого умереть или что?» Ну, возможно, я по-юношески преувеличивал.
В.В. Овсиенко: Но ты не ошибся насчёт Стуса. Твою фразу Михаил Хейфец вынес в название своего очерка о Василии Стусе: «В украинской поэзии теперь нет никого больше…» (М. Хейфец. Украинские силуэты. — Сучасність, 1983. — C. 249-271, (на укр. и рус. языках; также: Поле отчаяния и надежды. Альманах. — К.: 1994. — С. 361-38); тж.: Михаил Хейфец. Избранное. В трех томах. Харьковская правозащитная группа. — Харьков: Фолио, 2000. Том 3. Украинские силуэты. Военнопленный секретарь. — 296 с., с фотоилл. — С. 6-7, 170-186; 205-206, 222-224, 231-232 и др. — по именному указателю. — В.О.).
З.В. Попадюк: Да? Я этого даже не знаю. Что-то такое могло быть. Человек не знает многого. Мы шаг за шагом очень много общались с Николаем Руденко. Те его «Экономические монологи» — я же их прочувствовал на своей шкуре. Потому что долгими вечерами — а у нас там, на девятнадцатом, как помнишь, была такая четырёхугольная «орбита». Мы выходим с Николаем Руденко «на орбиту» в одну сторону, а Кузьма Матвиюк идёт в другую сторону. Мы говорим: «Так присоединяйтесь к нам!» А он говорит: «Меня в другую сторону запустили».
В.В. Овсиенко: Матвиюк? Да Матвиюк имел четыре года, он в 1976 уже освободился.
З.В. Попадюк: Может, это был кто-то другой. Но это Матвиюк говорил, что его запустили в другую сторону. Потом Руденко заболел, ему делали тяжёлую операцию. Его возили на операцию в Рузаевку или куда-то. У него была проблема с простатой, очень тяжёлая операция, даже приезжал хирург издалека оперировать. После того как он вернулся, чекисты взялись его пугать или издеваться, или я не знаю, как это сказать, — выдумывая и рассказывая всякие небылицы о жене. Мне кажется, что он это себе очень близко к сердцу принимал и даже горевал. Я себе думал, что он такой, что в себе это держать не будет, будет наружу выливать. Я как-то пытался, с одной стороны, как можно больше его изолировать, чтобы он этого не рассказывал, потому что зачем чекистам радоваться, как он переживает? А с другой стороны, мне кажется, я нашёл самый подходящий ключ для этого — я немножечко в таком лёгком или фривольном ключе, немножечко высмеивая ситуацию, — всё-таки у них большая разница в возрасте, 19 лет, или сколько…
В.В. Овсиенко: Жена 1939 года рождения, а он 1920.
З.В. Попадюк: Мне кажется, что он даже обижался на меня какое-то время, хоть и не говорил этого. Но мне также кажется, что я ему помог в тот момент. Я этим своим тоном пренебрежения этой проблемой как таковой вообще больше убедил его, чем все те старики, которые пытались ему что-то втолковывать. Я думаю, что он в конечном итоге был благодарен, что я, такой мальчишка, отважился что-то такое говорить деду. Но это вроде бы хорошо кончилось.
Много было таких людей, что производили большое впечатление. Не буду я пересказывать, скажем, свои встречи с Василием СТУСОМ, потому что уже столько сказано, написано, что сегодня, на расстоянии времени, чувствуя, так сказать, высоту Стуса, уже не каждый отважится говорить о своём знакомстве с ним.
В.В. Овсиенко: Чтобы не причислили к «приСТУСованцам»?
З.В. Попадюк: Не столько к «приспособленцам», а что хочешь погреться в лучах его славы. А и так тепло. Я вспоминаю, что первая скульптура Василия Стуса, ещё при жизни, была сделана мной и Любомиром Старосольским. Стуса привезли в тот барак усиленного режима, в ПКТ 19-го лагеря, и проводили через территорию в баню. Раз в десять дней или в неделю. Выпал такой хороший первый снег. И пока Стуса повели, чтобы он помылся, мы с Любком смастерили из снега большой бюст Василия Стуса. Не знаю, заметил ли он это, видел ли он это, потому что нас всех с той дороги сгоняли, когда вели карцерников. Но он стоял, когда Стус шёл. И дальше стоял.
В.В. Овсиенко: Бюст этот, может, и был первым… Но Борис Довгаль ещё в 1969 году сделал скульптурный портрет Стуса. Что интересно, он выставил его на выставке под названием «Голова мужчины». Пришла Тамара Главак — тогда второй секретарь ЦК комсомола — и узнала Василия Стуса, и приказала убрать прочь.
З.В. Попадюк: Интересно. Значит, секретари не были такими уж тёмными.
В.В. Овсиенко: Ну, а вашей скульптуры никто не узнал?
З.В. Попадюк: Я не знаю, как там дальше было, но тогда все наши знали, что это такое. Когда мы это делали, то нам ещё и подсказывали, что то так или эдак. А потом мы со Стусом в ПКТ были какое-то время вместе. То ли месяц, то ли полтора.
В.В. Овсиенко: Я помню, что ты тогда вышел и вынес в голове, в памяти, несколько его стихотворений. Я тогда впервые услышал стихи Стуса. На воле мне что-то попадалось. Но ты вынес в зону цикл «Чернышевский в Саратове». «Сто років, як сконала Січ» — это ты принёс в зону, я тогда себе переписал.
З.В. Попадюк: Но это в памяти не сохранилось. Остался стих, посвящённый Николаю Зерову: «Колеса глухо стукотять, як хвилі об паром, стрічай, товаришу Хароне» и так далее. И то, что он на музыку положил: «Ще вруняться годі Славутові кручі». Я тогда много запомнил, память у меня была неплохая, да и сейчас я не очень жалуюсь.
Он в то время работал над переводами с немецкого — с Рильке, кажется. Во-первых, это не очень раздражало надзирателей, и это у него как-то шло. А был снежок, я помню, и мы гуляли на том дворике для прогулок. Это было 20 мая 1975 года — выпал большой снег. Я сейчас вспомнил, сначала меня посадили в карцер. Я был в карцере, а Стус в ПКТ. Он мне даже бросал в то окошечко какие-то тюбики с леденцами. А потом меня из карцера освободили, я пробыл несколько дней в зоне, а потом меня в ПКТ упекли — и к Стусу.
Всё остальное, что связано со Стусом, — это уже была переписка. Он несколько раз писал маме.
В.В. Овсиенко: Да, и некоторые его письма к твоей маме опубликованы. (См.: В.Стус. Твори в 6 т. 9 кн. Т.6, кн. 2. — Львів: Просвіта, 1997. — С. 115-117. — В.О.).
З.В. Попадюк: В том письме была открытка для меня, мама пересылала. Больше мы уже не сталкивались. Когда я приехал на Колыму, то болезненно пережил, потому что совсем немного времени прошло, как он уехал оттуда — где-то месяц или чуть больше.
В.В. Овсиенко: Где-то в его письме ко мне написано о тебе так пророчески: «Не займёт ли моего тёплого места?». Так оно и случилось. (См.: В.Стус. Твори в 6 т. 9 кн. Т.6, кн. 2. — Львів: Просвіта, 1997. — С. 175. — В.О.).
З.В. Попадюк: Так и вышло, я помню то письмо. Люди как-то почувствовали, что я поехал в ссылку туда, где был Стус, в посёлок Матросова. И там уже где-то полмесяца лежали открытки от Калинцов. Так и написано: «Пишу, конечно, наугад, но мне кажется, что ты там будешь». Я ехал довольно долго, с 28 марта по 1 июня.
В.В. Овсиенко: Но Стус оттуда выбрался 11 августа 1979 года. Но всё равно — место было подготовлено, кадры были готовы… Это довольно часто случалось, что ссыльного привозили на то место, уже кем-то «обогретое». Это же тебя потом привезли в Казахстан на место Валерия Марченко?
З.В. Попадюк: Меня на место Марченко привезли, а потом на моё место привезли Мирослава Мариновича. Так что Мирослав должен был быть доволен, потому что я ему обжил то место очень славно. (Род. 04.01. 1949, член-основатель УХГ, арест. 23.04. 1977, осуждён на 7 л. заключ. и 5 л. ссылки по ст. 62, ч. 1, отбывал наказание в Пермских лагерях и в Казахстане. — В.О.).
Из людей, которых я хорошо помню, если говорить не об украинцах, то очень близко я сошёлся с известным в Литве и, наверное, не только в Литве, а везде по просторам бывшего Союза соцконцлагерей — Пятрасом ПАУЛАЙТИСОМ. Это человек, который встретился мне впервые в 17-м лагере. Я тогда больной был, прибыл туда весной 1975 года. Потому что уже осенью я оттуда уехал во Владимир. Там, в 17-м, был Дмитрий Квецко и много наших общих знакомых, я не буду здесь перечислять только для того, чтобы перечислять. А самой большой фигурой — и в прямом смысле, потому что он высокий был мужчина, — патриархом зоны был именно Паулайтис, Пятрас Казимирович.
Рассказывать о нём можно очень много, потому что это человек, во-первых, и знал очень много, и умел хорошо рассказывать, хотя, скажем, его русский язык был не совсем совершенен. Это человек, который провёл два года в гестапо, сбежал оттуда, а потом почти 37 лет — на то время — в советских лагерях.
В.В. Овсиенко: Ему дали 25 лет, а через 9 или 10 лет выпустили на немножко, и снова дали 25.
З.В. Попадюк: Да, да. Он в 17-й зоне работал в столовой. Там были котлы, он кипятил воду, и прачечная близко — это было одно помещение.
В.В. Овсиенко: Он на кухне работал, мыл посуду. Может, баланду раздавал какое-то время…
З.В. Попадюк: Нет-нет, баланду он не разливал, на раздаче он не был, а вот посуду время от времени мыл, но подменяя кого-то, когда его просили. Потому что на семнадцатом у нас не было кухни — нам привозили еду из уголовной зоны. Он время от времени мыл посуду. Я помню, он говорил, что его зовут помыть. А так он стирал.
Паулайтис был среди нескольких ведущих лиц литовского подполья (хотя сколько он мог быть в том подполье, если всё время в тюрьме сидел?). Он был литовским послом в Италии и Португалии…
В.В. Овсиенко: И в Испании — на три страны. Он рассказывал, что встречался с Муссолини, Салазаром и с Франко.
З.В. Попадюк: Человек, заслуживавший огромного уважения, был очень прост. Он мог общаться на равных с этими детьми — когда некоторые из наших старших чувствовали свой вес и давали понять (или не хотели этого, но оно так само собой выходило) — Паулайтис был таким, что с ним хорошо чувствовал себя каждый человек — и мальчишка, и старший, как с равным. Он это умел. Представляешь себе: я там дрова рублю, не очень умея, тащу эти дрова по снегу — потому что надо было протащить, — а он вылетает из прачечной с голыми руками, с раскрасневшимися руками, старичок, который мне берётся помогать. Это было немного так трогательно…
Он был профессор теологии, он глубоко верующий человек. А я всегда отличался таким не то чтобы безбожием (а некоторые из наших людей говорили, что я очень большой христианин), но я всегда вольнодумствовал — как тот мальчишка, который всегда старается плюнуть выше. А он очень спокойно все эти вещи воспринимал, можно было с ним… Я искал свою философию и в конце концов нашёл. Но с ним можно было дискутировать, он был открыт для любых дискуссий, он не был из тех, кто ставил принципы. Внешне у него не было никаких взглядов — они были где-то там глубоко в душе, и если они уже выходили наружу, то были уже настолько приспособлены к собеседнику, что, с одной стороны, собеседник понимал его, а с другой стороны, не чувствовал неловкости от того, что у него, может, какие-то другие взгляды. Такой вот человек был.
Он на меня произвёл такое впечатление… Когда я попал во Владимир и был там три года, то попалась мне книга — почему-то была в тюремной библиотеке — Солженицына «Один день Ивана Денисовича», но она была на литовском языке. Наверное, потому она там и была, что никто не знал, что это такое. А там «Книга — почтой» работала хорошо, так я себе заказал учебник, словарь и прочитал ту книгу. А когда приехал в зону и снова встретился с Паулайтисом на 19-м — потому что он тогда уже был там, — то я с удовольствием начал говорить по-литовски, ни с того, ни с сего. И во всех литовских компаниях я с тех пор чувствовал себя хорошо, потому что я говорил, может, с акцентом, но я всё понимал, и меня все понимали.
В.В. Овсиенко: Но подожди — ты же не общался во Владимире ни с кем из литовцев? Только с книгой?
З.В. Попадюк: А там не было никого из литовцев. Я во Владимире общался с очень небольшим кругом людей.
Раз уж мы начали говорить о неукраинцах, то я с большим пиететом относился к Крониду Аркадьевичу ЛЮБАРСКОМУ. Он был человеком, как мне казалось, принципиально демократичным. Когда с русскими демократами — а уже других и не буду затрагивать, — нельзя было говорить на все темы, скажем, украинская тема была болезненной всегда и везде, то взгляды Любарского были абсолютно такие…
В.В. Овсиенко: Да, абсолютно нам симпатичные. Потому что даже и у Александра БОЛОНКИНА — и то проступало что-то великодержавное.
З.В. Попадюк: Но он, Болонкин, был стихийным великодержавником. Он этого не осознавал. Может, он хороший математик и хороший человек в жизни, но когда приехал Размик Маркосян, который уже имел высшее филологическое образование и работал учителем, был связан с математикой по работе, и тот Болонкин побежал знакомиться с ним, а потом вернулся совершенно разочарованный: «Он какой-то недоразвитый». — «А что?» — «Абсолютно по-русски не может». Мы его еле убедили, что в условиях Армении, где 97% армян, невозможно знать русский язык, разве что специально этим заниматься. И тут он как-то с горем пополам начал осознавать право всех на свободу.
В.В. Овсиенко: Он признавал, но когда дошло до конкретного случая, то не мог осознать того, что это человек из другой культуры. Похожее было у меня с Юрием Фёдоровым. Фёдоров из «самолётчиков» — я сидел с ним в камере в Кучино. Зашла речь о каком-то из русских писателей, и он удивился, что я его не знаю. Говорю ему: «Пан Юрий, да я принадлежу к другой культуре, в которой я более-менее ориентируюсь, а русская для меня — чужая культура».
З.В. Попадюк: А это был барьер. Но Любарский все эти моменты понимал и был настолько близок к нам, что говорил: «Да, я признаю ваше право и готов ваше право отстаивать». Тогда как, скажем, известный Володя Буковский, которого поменяли на Корвалана (он вышел из Владимира как раз тогда, когда я был там, мы с ним и попрощались тогда, он не знал, куда идёт), — он говорил так: «Нет, за вас мы ваши дела делать не будем».
В.В. Овсиенко: Любарский потом всей своей жизнью подтвердил свою позицию, потому что когда издавал свои «Вести из СССР», то там всё было объективно, насколько это возможно. Он в 1973-74 годах был в мордовском лагере № 19, а оттуда его послали через суд во Владимир. Я помню, было тёплое время года, и мы большой тачкой везли его деревянные чемоданы и мешки с книгами на вахту. Тогда ещё разрешалось возить много, а потом установили, что заключённый имеет право только на 50 кг вещей.
З.В. Попадюк: Да-да. Он был последовательный демократ, как я называл. Его не коробило, скажем, от некоторого радикализма или национальной ограниченности наших — ведь было же такое. А некоторых из русских демократов это очень коробило.
В.В. Овсиенко: Ты с Кронидом больше не встречался?
З.В. Попадюк: С Кронидом Любарским я встретился уже в Мюнхене через много лет. Он переписывался с моей мамой, мама была у него в Калуге после того, как он освободился. Он как-то очень тепло ко мне относился — где-то я видел его записи.
Не надо забывать, что они пришли в лагеря уже взрослыми, так сказать, сознательными, а мы — мальчишками. Почему мне было легко общаться с людьми — потому что «паспортом» был приговор. Люди читали мой приговор, как-то реагировали на него и принимали меня в свой круг без моих стараний.
В.В. Овсиенко: Я заметил, что старшие люди, особенно в тех условиях, всегда относились к младшим очень доброжелательно. Они просто любили младших, потому что вспоминали себя в таком возрасте. А ещё — тоска по отцовству… И это вполне закономерно. Может, это были какие-то преувеличения, авансы нам — я на себе это тоже чувствовал. Но то, что написал Михаил Хейфец о Зоряне Попадюке, — что при упоминании Зоряна у него возникал какой-то «телячий восторг» — так это не только у него, а кому ни вспомни — все были восхищены Зоряном.
З.В. Попадюк: Я знаю. А я сам был страшно восхищён теми стариками — и тот Дмитрий СИНЯК, и Роман СЕМЕНЮК, и Николай КОНЧАКОВСКИЙ, много их там было, — меня это страшно удивляло: откуда тот Синяк всё знает? Я насобирал кучу маленьких сборников поэзии 60-х годов и начала 70-х, потому что я этим жил, я учился на филологии, меня это интересовало — но откуда он-то всё знает? Я был этим ужасно восхищён. Как бы мне дома ни рассказывали о повстанцах — а рассказывали — и всё равно видеться с людьми, которые непосредственно принимали участие в той борьбе, было очень интересно. И, вместе с тем, они не были заскорузлыми людьми — они были большими демократами, чем те наши новоиспечённые украинские демократы. Потому что так, между нами говоря, Анатолий Здоровый или Игорь Кравцив, ещё кое-кто из диссидентов — так ведь они были твёрдыми националистами по взглядам. А эти были более широких взглядов — не то что более, а они просто были широких взглядов.
Следующей личностью, которая мне запомнилась, был Людас СИМУТИС — человек несколько таинственный. Его судьба меня всколыхнула — я слышал это от Паулайтиса. Это тоже был тип подпольщика, с одной стороны, и какого-то вожака, наверное, комсомольского.
В.В. Овсиенко: Разве комсомольского? Не знаю, но он был, пожалуй, одним из самых молодых двадцатипятилетников. Он молодой был.
З.В. Попадюк: Он был в подполье, а тем временем возглавлял какие-то государственные, комсомольские или ещё какие-то структуры, влезал где-то там, как говорится, в самое сердце. Рассказывали об издевательствах над ним, над родителями — для меня это было очень впечатляюще… Вместе с тем, он был очень кротким человеком в общении, и таким каким-то очень внимательным. Вот это также запомнилось.
Следующая личность — украинец, но гражданин Англии — Николай БУДУЛАК-ШАРЫГИН. Это тоже был интересный человек.
В.В. Овсиенко: Его, кажется, в 1969 году посадили на 10 лет.
З.В. Попадюк: Да, он получил десять лет. Обвинили в шпионаже. Но это был человек, который знал практически все языки Европы — венгерский, польский, румынский — он знал все эти языки.
В.В. Овсиенко: Не говоря уже о немецком, английском, французском.
З.В. Попадюк: Да, я уж об этом не говорю. И украинский, русский он тоже знал. Интересна его судьба. Интересно, что его приёмная дочь… — знаешь эту историю, нет?
В.В. Овсиенко: Нет.
З.В. Попадюк: Его приёмная дочь — Аня, кажется, — была не кто иная, как внучка известного всероссийского старосты Калинина, мать которой была советской шпионкой. Мать где-то была в Германии во время войны, работала там и с каким-то немецким генералом имела дочь. А Николай молодым мальчишкой — не знаю, во сколько, кажется, в 14 или 15 лет…
В.В. Овсиенко: 15 лет ему было, когда его немцы вывезли из Винницкой области в Германию на работы. Потом он уехал в Англию. Окончил Кембридж, работал в какой-то промышленной фирме, ездил по всей Европе заключать договоры, а приехал в Москву в составе делегации — его схватили и обвинили в шпионаже. Это потому, что как раз тогда из Британии были выдворены 200 работников советских учреждений по обвинению в шпионаже. Так на Николае отыгрались. Вины доказать не смогли — суд как ушёл на совещание, так и не вернулся. Лишь через три года ему объявили срок: десять лет за… уклонение от исполнения воинской обязанности! Когда его немцы вывезли насильно, в 15 лет! Слабым местом было то, что он так и не оформил британское подданство, потому что это сложная процедура. «Ничего, — сказали ему. — За вас королева нам войну не объявит».
З.В. Попадюк: Где-то там в Германии их судьбы с той девочкой пересеклись. Тот генерал погиб, а эта мама не захотела возвращаться с дочерью, дочь осталась у тех людей, у которых жил Николай. И когда Николай уезжал в Англию — я не помню, как там это случилось, — то он забрал с собой этого ребёнка, который был, так сказать, ничей. А его в Англии приютила семья Шарыгиных, старых русских эмигрантов, вместе с той девочкой — кажется, её звали Аня. Она выросла, школу окончила, а потом появилась её мама и принимала всяческие меры, чтобы та дочь вернулась к ней. Не знаю, где она была в то время: то ли в Пскове, то ли в Смоленске. Та дочь поехала сюда, а потом сбежала, насколько я это знаю.
Но о нём я говорю не только из-за той истории. Были в этой камере Олесь Сергиенко, Николай Шарыгин, Яша СУСЛЕНСКИЙ. Яша на меня произвёл самое большое впечатление, потому что он так же опекал меня. Чувство опеки над младшими было у него очень развито. А я ведь больным приехал во Владимир, с сердцем. А только я приехал во Владимир — встретился с Гариком СУПЕРФИНОМ, или Габриэлем, и с Андреем ТУРИКОМ. Они были вдвоём в одной камере. Потом некоторое время был Николай БОНДАРЬ — с Черкасчины, если не ошибаюсь. Эти люди тоже меня окружили опекой. Правда, я был тогда очень болен, меня, наверное, надо было опекать. Турик умер — это человек тоже интересной судьбы. С Волыни, молодой парень, и попался тогда, когда хотел пойти в УПА. С огромной натяжкой в приговоре было написано, что «имел отношение к бандам ОУН-УПА». Его вывезли на Восточную Украину. Там он начал заниматься подпольной работой — какие-то листовки. Тогда ему дали 25 лет — это были последние месяцы, когда ещё давали 25-летний срок, это был 1957 год. Он уже умер.
В.В. Овсиенко: Это, как утверждает Левко Лукьяненко, не случайно. Он принимал участие в протестных акциях младшего поколения, так его вывезли в больницу. У него не было какой-то такой болезни, чтобы умереть, но он умер.
З.В. Попадюк: Рассказывали, что когда его владимирский срок кончился, он поехал в зону, где-то там спал или лежал на траве, простудил себе почки, его забрали в больницу, и он в больнице умер. А кто-то мне из зеков говорил, что у него чуть ли не рак был.
В.В. Овсиенко: Левко Лукьяненко считает, что его уничтожили именно за участие в акциях протеста и всегда поминает его в ряду погибших в концлагерях, рядом с именами Стуса, Литвина, Тихого, Марченко…
З.В. Попадюк: Да фактически все, кто погиб и умер в лагерях, являются жертвами… Вот такое с Туриком случилось. Он мне очень помог.
Гарик СУПЕРФИН — это особая статья. Мы с ним так сдружились, у нас были общие подходы ко всему. Правда, я его долбил, как только мог, — вбивал в него украинскость и еврейскость, потому что он был твёрдый крещёный русский, но по происхождению еврей. Хоть он крещёным и остался, но, мне кажется, по крайней мере я его убедил, что можно быть русским, гражданином России, но не забывать о том, что ты еврей. А он говорит: «Я не забываю». Но он не готов был перейти на еврейские национальные позиции, уехать в Израиль. Сейчас он в Германии, всё-таки он русский эмигрант. Он филолог, поэтому у нас была довольно широкая база для того, чтобы можно было дискутировать. Наши дискуссии очень долго велись вокруг проблем происхождения Руси, вокруг письменных древнерусских памятников, потому что для него это всё было в той традиции… Он был когда-то секретарём у Солженицына, он был с Татьяной Великановой среди издателей журнала «Хроника текущих событий». То есть он был русски воспитанный демократ, но с очень русским национальным духом. Я считаю, что я всё-таки сделал из него не русского демократа, а просто демократа. Это я ставлю себе в заслугу.
Он понял украинскую проблематику, потому что до того Украина для него начиналась где-то с XVII в., когда появился Хмельницкий, а всё остальное было в русле русской истории. То есть разделить русское и русьское он сумел только благодаря моим очень тяжёлым усилиям. Он теперь работает в Институте восточных исследований в Бремене, и это уже его святое убеждение. Он человек с большой буквы, талантливый, с прекрасной памятью.
И снова надо вернуться к нашим повстанцам, украинцам.
В.В. Овсиенко: А что о повстанцах ты мог бы ещё сказать? Общая характеристика и индивидуальная.
З.В. Попадюк: Я уже сказал, что у абсолютного большинства тех людей я не встретил того, чего ожидал, — не встретил национальных ортодоксов. Это были люди широких взглядов, как правило, демократы. Общались они, в основном, с диссидентами. Они чётко заявляли, что они не диссиденты, что они участники освободительной борьбы. Они были и отцами, и воспитателями, и опекунами, и помощниками всех тех, кто приходил в лагеря. Ты же сам знаешь, как это было. Дмитрий СИНЯК — это первый, кто мне встретился. Боже, какой образованный человек! Он когда-то был референтом УПА.
В.В. Овсиенко: Он был одним из последних пойманных. Его схватили в 1956 году и дали ему смертную казнь, а потом заменили на 20 лет каторги. Но пока он доехал до каторги, её ликвидировали, и он получил просто 20 лет заключения. Рассказывал, что ему под смертной казнью приснился сон: стоит он на клочке земли, который обрушивается и обрушивается. И в последний момент видит — рука. Он глянул — Ворошилов! А Ворошилов был тогда Председателем Президиума Верховного Совета СССР. Значит, заменил смертную казнь. Я от него тоже многому научился, ходя за котлами в кочегарке. Оказалось, что он проходил с походной группой лесом возле моего села… Где-то в 1976 году Синяк освободился.
З.В. Попадюк: Я не знаю — меня не было тогда. Любомир Старосольский ездил к нему в село Загвоздье Надворнянского района.
В.В. Овсиенко: А я его встретил ещё знаешь где? Когда была «Цепь единения» в 1990 году — я руководил этой цепью в Житомире, — он приехал с галичанами, и вот на стадионе «Спартак» я его встретил. Боже, как он плакал! Слёзы текут, а он говорит: «Видишь, сколько этих людей, наших флагов! А мы за это столько жизней положили — и вот наконец-то оно есть!»
З.В. Попадюк: Интересно, жив ли он ещё, или нет?
В.В. Овсиенко: Нет, нет. Он умер где-то пару лет назад.
З.В. Попадюк: Иван МИРОН, этот характерник… Село Росишка, недалеко от Ясини, это Раховский район. Он ещё есть. Это человек, который был в подполье чуть ли не один день всего. Не то чтобы в подполье — молодой парень пришёл, залез в схрон — и там его сразу накрыли. Это человек-гора. У него было своё мнение, свои взгляды — это как покутники, только он никаким покутником себя не считал. Но у него были свои взгляды, поэтому явочным порядком, не объявляя и ни перед кем не щеголяя, он придерживался статуса политзаключённого. Он руки назад не заведёт, перед начальником не встанет и порой говорить с ним не захочет. Он был начитан, изучал английский язык. Он немецкий знал, венгерский ещё со времён венгерской оккупации помнил. У меня такое впечатление сложилось, что он всегда читает, всегда с книгой.
В.В. Овсиенко: Он в кочегарке работал, и это давало ему немного времени.
З.В. Попадюк: Очень верующий человек. Была у него такая привычка, что не надевал на голову ничего. Бывали такие ужасные морозы, но он свой час или сколько-то там должен был отмолиться, без шапки. Он шёл за бараки, по тому снегу туда и обратно ходил, ручки сложив. И как-то его не брали ни грипп, ни простуда, ничего. Когда его бросили в карцер — я помню такой эпизод, но не помню, в каком это было году, — и он считал, что это несправедливо, а там какая-то причина была…
В.В. Овсиенко: Очень простая причина была. Он сидел в бараке, обложившись книгами — и на коленях у него книги, и на соседних нарах книги, словари какие-то. Зашло какое-то начальство, а он не встал и не поздоровался с ним первым. И объяснил, что у нас первым здоровается тот, кто входит в дом. И помнишь, какие были последствия этого? В карцере он пять суток держал сухую голодовку. Потом ситуация почти повторилась, но это уже было с подполковником Вельмакиным, начальником режима, — так же он не встал и не поздоровался. Дали ему 10 суток, и он 10 суток держал сухую голодовку. Это было что-то феноменальное!
З.В. Попадюк: И, что самое интересное, он после той голодовки пришёл со своими вещами — там ему какой-то матрас бросили в карцере, я помню тот момент. Он уже не очень двигался, но те надзиратели говорили, что когда настал момент его освобождать, он слабый был, так он взял кружку с водой — там какое-то ведро стояло в той дежурке — выпил эту кружку, взял под мышку свой матрас. Они хотели помочь ему нести. Говорили, чтобы он шёл в лазарет, а он всё это взял и пришёл в барак.
В.В. Овсиенко: Я помню, у него язык распух на весь рот, он был опухший. Михаил Жураковский заварил чаю, прижимал ложечкой язык и заливал ему — так его отхаживал.
З.В. Попадюк: Такое было. Он был такой крепкий человек — и духом, и телом крепкий тоже. Кстати, судьба над ним смилостивилась. Он вернулся, женился, имеет кучу детей — то ли четверо, то ли трое.
В.В. Овсиенко: Однажды приезжал он в Киев, году, может, в девяносто первом или втором, и заходил к нам в УРП. У меня с ним был разговор, ещё и записал тот разговор. Хотел я дать ход этому тексту, и подготовил его, но он почему-то не прошёл тогда в газету, и мне очень жаль. Но у меня этот текст где-то есть.
З.В. Попадюк: Судьба Романа СЕМЕНЮКА…
В.В. Овсиенко: Это тоже из самых молодых повстанцев. Кстати, его взяли в Советскую армию, но там арестовали.
З.В. Попадюк: Он был немного неуравновешен, у него нервы были не на месте. Когда ему должны были дать смертную казнь — они же некоторое время сидели под «вышкой»…
В.В. Овсиенко: К нему были какие-то претензии (я считаю, необоснованные) в связи с побегом. Они с Антоном Олийныком сбежали, Антона «раскрутили», выявили «вновь открывшиеся обстоятельства» — и расстреляли. А Роману — три года за побег.
З.В. Попадюк: Роману дали то, что должны были дать по законодательству. А Олийныку нашли ещё какую-то «расстрельную» причину.
В.В. Овсиенко: Но Роман Семенюк — едва ли не единственный из повстанцев, кто решился участвовать в наших диссидентских акциях. И это ему тяжело обходилось — его бросали в карцер, потом перебросили в 17-ю зону, которая считалась штрафной. Так я с ним был немного в 19-й зоне, потом в 17-й. Он закончил свои 28 лет. Ещё он был членом УРП и председателем районной организации в Сокале. Где-то примерно в 1992 году шёл он по улице во время сильного дождя, его сбила машина, та же машина его подобрала и отвезла в больницу, но он через час умер. Я ещё встречал его в Киеве на каком-то съезде в Доме кино.
З.В. Попадюк: Я во Львове узнал, что вот вчера похоронили Романа Семенюка. Некто Пшевлоцкий мне сказал…
В.В. Овсиенко: Вот Николай КОНЧАКОВСКИЙ — пожалуй, ты его лучше всех знаешь, потому что ты с ним работал на пилораме, вы катали те брёвна. Он такой здоровенный дядька, как гора, а ты — тоненький мальчик. Он из села Рудки Николаевского района.
З.В. Попадюк: Он мне запомнился тем, что проводил свою деятельность на близких территориях. Он знал генерала Чупринку, знал легендарного героя Макомацкого, участвовал с ним во всяких акциях. Он умел живо рассказывать.
В.В. Овсиенко: А между прочим, когда я 12 апреля 1974 года пришёл в 19-й лагерь — ещё и вещи мои были на вахте, а я там возле вахты ходил, — он ко мне подошёл самым первым. Расспросил, кто, откуда. И так положил мне руку на плечо — а он здоровенный дядька… Я сказал ему, что у меня четыре года, а он мне: «А я, пан Василий, уже двадцать шестой год — как пошёл в тридцать девятом, так по сей день воюю». Так мои четыре года так согнулись и сразу стали такими маленькими! «Ничего, пан Василий, отсидите не хуже людей!» У него было три могилы! Его как польского воина «похоронили», даже на каком-то памятнике имя его выбили. А потом ещё дважды родным сообщали о его гибели. Он в Службе Безопасности был, рассказывал мне об отдельных операциях, направленных против немцев. Показывал простреленную ладонь: это он автомат просто за цевьё схватил…
З.В. Попадюк: Он ещё говорил, что лучший срок — это три года, потому что ещё не отвык от воли и знаешь, что это такое, а уже почувствовал, что такое тюрьма. А умер он от воспаления лёгких или чего-то такого?
В.В. Овсиенко: Он освободился осенью 1978 года и прожил на воле всего месяц. Я от него ещё письмо получил, а потом пришло сообщение, что он умер. Это было очень обидно — что человек двадцать восемь, как он говорил, лет отсидел и через месяц после освобождения погиб.
З.В. Попадюк: Я знаю, что когда у него какая-то болезнь начиналась, то всегда была очень высокая температура. Видно, за ним как-то не уследили, у него был температурный шок — во время воспаления лёгких или чего-то такого.
Он из опекунов — не давал тому молодому парню ничего тяжёлого поднять, он сам.
В.В. Овсиенко: Ещё Михаил ЖУРАКОВСКИЙ был, гуцул из Ясени, 25-летник. Его, фактически, большевики выгнали в лес: пришла повестка идти в Советскую Армию. Так он покинул дом, семью — и в партизаны. Лишь в последние годы восстановил связи с семьёй и очень этому радовался. Дочь Настя приехала на свидание. Очень добросовестно он отсидел. Это образец христианской добропорядочности. Рассказывал, что как-то в лагере Михаил Зеленчук (это был его командир) его предостерегал: «Смотри, Михаил, чтобы ты не ссучился». А через некоторое время, говорит, вижу: Зеленчук с повязкой СВП! Неграмотный был из дому, а в неволе грамоте научился. А как он хорошо на дрымбе играл — Василий Стус просил его порой сыграть. «Так сладко на дрымбе играет — хоть Господа на помощь зови». Ей-богу, это о Жураковском.
З.В. Попадюк: Священник Денис ЛУКАШЕВИЧ. Он для меня был интересен не столько как личность, а той историей, которая связана с его сыновьями. Я от него первого услышал ту версию, которая потом была документально подтверждена.
В.В. Овсиенко: Был обвинён его сын Илларий и его приятель Стахур, что это они, мол, были вхожи к Галану и убили его топором. Илларию было лет 18, а его брату Мирону вообще было 15 или 16 лет — и того тоже расстреляли, хотя он был ни при чём. Отца посадили на 25 лет.
З.В. Попадюк: А эти парни всё-таки были исполнителями, насколько я знаю. Но приказ они получили от какого-то советского агента, который стал районовым. Того районового то ли убили, то ли арестовали. Тот агент работал где-то полтора месяца и давал всякие провокационные приказы.
В.В. Овсиенко: Отец, Денис Лукашевич, не хотел об этом рассказывать. Он считал, что его сыновья непричастны к тому убийству.
З.В. Попадюк: Да они всё-таки были исполнителями. Кто ещё нам мог запомниться?
В.В. Овсиенко: Ты ещё знал в 17-й зоне Владимира КАЗНОВСКОГО. Правда, он не был повстанцем. Однако его обвинили в сотрудничестве с немцами. Каким образом?
З.В. Попадюк: Он был заготовителем скота при немецкой оккупации. Как человек, который ни читать, ни писать не умел, он достиг вершин. Немцы его заставили ещё и заниматься так называемым контингентом. Так он заготавливал скот для себя, а вместе с тем ещё имел тот «довесок».
В.В. Овсиенко: Он сам о себе говорил, что был купец.
З.В. Попадюк: Да. Он в неволе овладел грамотой. Паулайтис приходил к нему и удивлялся: тот огромные куски из Вергилия, на латинском языке, цитировал. Такой вот человек. У него была грудная жаба, или стенокардия, и он очень мучился — сидел на ступеньках санчасти и стонал. Но имел такой очень антиеврейский настрой…
В.В. Овсиенко: Однако Михаил Хейфец его всё-таки «пошатнул». С Хейфецом он был откровенен и искренен. Там где-то у Хейфеца написано, что он сказал: «Я вас никогда не забуду». — «Правда не забудете?» Не забыл — Хейфец написал о нём в очерке «Святые старики Украины», и очень симпатично написал.
З.В. Попадюк: Он такой был. И я никогда не забуду, как то ли Квецко, то ли кто-то другой — тому нужна была вода, и тот пошёл, набрал из бочки воды и принёс Казновскому, а тот говорит: «А это не та вода из той бочки, где жиды бороды мочат?» (Смеётся). И потом долго рассказывал, что это тот, кто мне принёс жидовскую воду.
В.В. Овсиенко: А ты знаешь, что он побаивался, чтобы его имя не упоминалось в каких-то наших документах? И всё-таки он дал такое согласие Василию Стусу, Василию он доверился — и Василий дал о нём информацию на Запад. Его имя стало где-то упоминаться, и нашёлся его сын за границей, который стал хлопотать об освобождении отца, о досрочном актировании как хронически больного. И его действительно актировали где-то в 1978 году — это был редкий случай, но такие случаи бывали. Сестра его жила где-то в Галичине, фамилия Головацкая, я адрес помнил, потому что ещё и письмо ей написал, когда освободился. Так вот, деда актировали. А потом рассказывали, что его выпускали к сыну за границу, но он якобы умер в дороге, в самолёте. Такое.
З.В. Попадюк: На 17-м я ещё встретился с Мишей ХЕЙФЕЦЕМ. Была у меня такая судьба — он об этом упоминает в своей книжечке «Украинские силуэты», — что я всегда брался убеждать, что мне хотелось всё расставить по своим полочкам: как же так, что еврей здесь чувствует себя русским патриотом? Я должен быть своим патриотом, он — своим. И я так же вцепился в Мишу Хейфеца, что мне кажется — по крайней мере он так пишет, — что я его обратил в еврейство! Такая уж у меня судьба была.
В.В. Овсиенко: Продолжение разговора с Зоряном Попадюком о самых светлых личностях, которых он знал. 30 января 2000 года в его доме в Самборе.
З.В. Попадюк: Стоило сказать ещё несколько слов о Паруйре АЙРИКЯНЕ. Хотя я могу очень тепло говорить и о Размике МАРКОСЯНЕ, и о покойном Ишхане МКРТЧЯНЕ, но почему-то мне больше всего импонировал именно Паруйр с его личной проблемой, с одной стороны, с его открытостью миру. А личная проблема была та, что он, будучи чуть ли не национальным героем или таки героем (почему мы боимся этих слов?) Армении, имел подругу, на которой он то ли женился на то время, то ли нет, не помню, но которая была еврейка. Большинству армян, которые были в зоне, это было очень трудно воспринять. Он мне запомнился именно широтой своих взглядов, именно открытостью всему миру. Армяне углублены в себя, потому что их история такая великая и величественная, что из этой глубины трудно выйти в настоящее время. Возьмём огромную книгу «История Армении» Хоренаци — эта книга написана почти две тысячи лет назад. Это просто представить себе нельзя! Паруйр был выше этого. Он мог быть где-то в глубине, а вместе с тем он видел, что сверху делается. Очень яркая личность, талантливая.
В.В. Овсиенко: И я был восхищён Паруйром. Какие он операции проворачивал — с передачей информации, с разоблачением агентуры. Помнишь, как он того Кузюкина раскрутил? Капитан Владимир Кузюкин. Он служил в Чехословакии, потом в Белой Церкви. За листовки сидел, касавшиеся оккупации Чехословакии. Был очень болен, крайне истощён, и это можно понять, почему он пошёл на сотрудничество с КГБ. Тогда Паруйр расставил такие сети, что Кузюкин в эти сети попался, и уже этого Кузюкина, когда контингент лагеря 17 «А» перебрасывали летом 1976 года в разные лагеря и ликвидировали его — меня там тогда не было, меня тогда в Киев возили — так его привезли в 19-ю зону, но уже в зону не пустили. Он где-то там в комнате свиданий посидел дня 2-3, и его освободили.
З. В. Попадюк: Я ещё тогда говорил, перефразируя известное выражение, что он — «человек, развитый во всех отношениях».
В. В. Овсиенко: Это Михаил Хейфец говорил о другом еврее: «Во все стороны талантлив» — это так, чисто по-еврейски.
З. В. Попадюк: Мы так не говорили тогда — на нём была харизма. Это чувствовали все армяне. И его судьба, наверное, не обманула.
В. В. Овсиенко: Он был признанным лидером, его уважали все армяне и считали, что только так и должно быть.
З. В. Попадюк: Как я помню, он научил меня каким-то армянским песням. Он сам их сочинял, сам писал слова, и гимн у них был, «Гай енк менк» — «Мы армяне». Он был человеком такого типа, который увлекал, мог вести за собой…
В. В. Овсиенко: Где-то в декабре 1975 года я был в карцере — меня с 17-го привезли в карцер, в 19-й, — а он там был в ПКТ. Он однажды начал петь — Боже, какое это было дивное пение! Даже менты ничего не говорили.
З. В. Попадюк: Очень мне вспоминаются мои первые впечатления — Саша РОМАНОВ.
В. В. Овсиенко: Да, он наш, собственно, мой ровесник. Ему тогда было 25 лет. Он 1949 года рождения. Филолог, учился в Саратовском университете.
З. В. Попадюк: Этот человек был удивителен тем, что по своим взглядам он был русским ортодоксом. Начинал с марксизма. А после какого-то очередного срыва — там с ним была очень тяжёлая история, потому что он бросался на провода, — я как раз в то время сидел в ПКТ, так что я слышал.
В. В. Овсиенко: Мы тогда утром выходили посмотреть. Как раз выпал снег — это было 20 мая 1975 года. Ночью выпал снег, и в ту ночь с ним что-то случилось, он из своего барака побежал в северном направлении, мы смотрели на следы его босых ног — это были неимоверные шаги. Он бросился на эту проволоку, а по запретке как раз проходил кто-то из дежурных. То ли офицер тот за себя боялся, потому что кричал солдату: «Не стреляй! Не стреляй!»
З. В. Попадюк: Да, я знаю, что не стреляли. Наверное, он видел — нет, наверняка всё-таки видел, что это что-то не то. Сашу привели в ПКТ ночью, я хорошо помню, что они к нему не придирались, а спрашивали: «Что с тобой случилось?» Его там связали и всё спрашивали: «Ну, можно тебя уже развязать?»
В. В. Овсиенко: Мы потом подходили к санчасти — Саша был исцарапан проволокой, замазан зелёнкой. Тогда говорили, что это у него на почве веры. Он работал в кочегарке в три смены, был тяжело истощён, худющий, не мог ничего есть из-за этих постоянных пересменок, так и лежал и молился, лежал и молился.
З. В. Попадюк: У него был вечный вопрос: он вникал в русскую историю. Кстати, и украинцы, может, тоже виноваты в том, что в нём произошёл такой перелом. Он ведь был русским по духу, по природе, а все говорили: какие вы там русские — вы угро-финны, вы монголы и так далее. И когда он столкнулся с поэзией Блока: «Да, скифы мы с раскосыми и хищными глазами»… Говорили или даже он сам рассказывал, что у него после этого стихотворения какой-то надлом произошёл. Этот надлом привёл к тому, что он пошёл ещё дальше — он пришёл к монархистам, от неоленинца или демократа…
В. В. Овсиенко: От марксизма через демократию к монархизму.
З. В. Попадюк: Да, но он был примером того, как человек по своим взглядам может быть монархистом, а в общении — абсолютным демократом. И не было в нём ничего шовинистического, кроме тех взглядов, которые он декларировал. Мы все его очень любили.
В. В. Овсиенко: Когда он рассказывал о своих подельниках — их было несколько, пять, что ли, — то он говорил так: «Мой ссучившийся подельник…». Или так: «Мой подельник — разумеется, ссучившийся». А со временем говорил уже: «Когда я говорю „мой подельник“, то имеется в виду ссучившийся».
В. В. Овсиенко: Разговор продолжился в 11 часов 30 января в доме Яромира Микитко, но то, что говорил Микитко, перенесено на его кассету. Здесь дальше рассказывает Зорян Попадюк.
Зорян, ты обещал рассказать об Ишхане МКРТЧЯНЕ, который похоронен под номером восемь, между Юрием Литвином и Василием Стусом в селе Борисово, возле Кучино Чусовского района Пермской области. Поскольку Литвин умер 4 сентября 1984 года, а Стус — 4 сентября 1985 года, то Ишхан Мкртчян погиб где-то в этом промежутке.
З. В. Попадюк: Что я могу рассказать? Он такой умный парень был… Был немного младше меня — а может, и ровесник. Но ростом поменьше, выглядел молодо — вот и кажется, что младше. Он очень скептически ко всему относился, по природе был скептик. А с другой стороны — такой весёлый, мог пошутить. Мог стать в дверях и говорить: «Проходите, проходите, проходите», а последнему сказать: «проходимцы». Он всегда участвовал во всяких акциях без разбора — лишь бы война с администрацией… Например, Степан Хмара любил порой и сблефовать, как говорится. Он там задел локтем надзирателя, тот очень возмутился, а Хмара поднял шум, будто тот его бьёт. Тут же начинались карцеры, голодовки — а я-то знал, кто такой Хмара, и в такие дела не лез, потому что зачем оно мне, — но этот Ишхан во всех событиях участвовал. Мы даже с ним спорили, так он говорил, что его не интересует, кто прав, кто виноват — этот зэк, а тот мент, — и ему этого достаточно.
Он был очень углублён в историю Армении, у него было даже некое неприятие остального мира. Он считал, что армянской истории достаточно, чтобы потратить на её освоение целую жизнь, а всё остальное — пусть делают другие. Был в какой-то мере сентиментален, очень отзывчив. Если кому-то было плохо — он моментально был там: мог помочь или не мог, но пытался.
В. В. Овсиенко: А какой срок заключения у него был? И почему он погиб?
З. В. Попадюк: Мне кажется, у него не было ссылки, а только пятилетний срок. Он сидел в карцере, кажется, накануне дня геноцида армян. Или где-то в тот же день — 24 апреля он попал в карцер, уже не помню, по какой причине. Был ли он в ПКТ или в карцере — не помню. Это, наверное, 1985 год. Да, это была весна восемьдесят пятого, когда он покончил с собой. В том БУРе. Его так быстренько вывезли — у меня сложилось такое впечатление.
В. В. Овсиенко: Это могло случиться именно в день геноцида, 24 апреля?
З. В. Попадюк: Да-да, но мы же этого не знали. Мы потом стали восстанавливать в памяти, когда до нас дошла весть, что он умер. А это было уже спустя долгое время.
В. В. Овсиенко: Мы по большей части не знали обстоятельств гибели каждого, а потом пытались как-то реконструировать события и более или менее их устанавливали.
З. В. Попадюк: И мы тогда начали вспоминать, что какие-то суицидальные мысли у него время от времени были.
В. В. Овсиенко: Когда мы забирали из Борисово Литвина и Стуса 17 ноября 1989 года, проводили эту эксгумацию, то Ишхан Мкртчян оставался ещё там, но позже армяне его тоже забрали. (Неверно. Давид Алавердян, зять Ашота Навасардяна, рассказал 4 октября 2000 года в Музее Кучино, что армяне во главе с Ашотом Навасардяном в феврале 1989 года, ни у кого не спрашивая разрешения, приехали и забрали бренные останки Ишхана Мкртчяна и перевезли в Армению. И видеофильм показал — вьюга, а они копают. — В. О.).
З. В. Попадюк: Кто-то рассказывал, как это было — не вспомню, кто это был. Он потом где-то на Севере был, сейчас в этой Армянской правозащитной группе — сейчас вылетела из головы фамилия. Тоже Размик его зовут… Он тоже, кстати, из армян таких широких взглядов. Это Алёша СМИРНОВ может знать — кстати, человек, который на меня произвёл большое впечатление. Наверное, он пошёл ещё дальше в своём восприятии украинства и права на самоопределение, чем даже Кронид Любарский. Это внук известного Вениамина Костерина, который вместе с Петром Григоренко участвовал в акциях в защиту крымских татар. Кажется, это он первый мне рассказывал о перезахоронении Ишхана. А потом приезжал к нам тот армянин… Я тогда был на такой работе, что у меня всё это в голове крутилось — и религиозные конфликты, и всё-всё-всё… Не знаю, разве что он бы сам мне об этом напомнил.
В. В. Овсиенко: Это был Зорян Попадюк. Записывал Василий Овсиенко, 27–28 и 30 января 2000 года в Самборе, в доме Попадюка, а затем у Яромира Микитко.