Интервью Андрея Михайловича КОРОБАНЯ
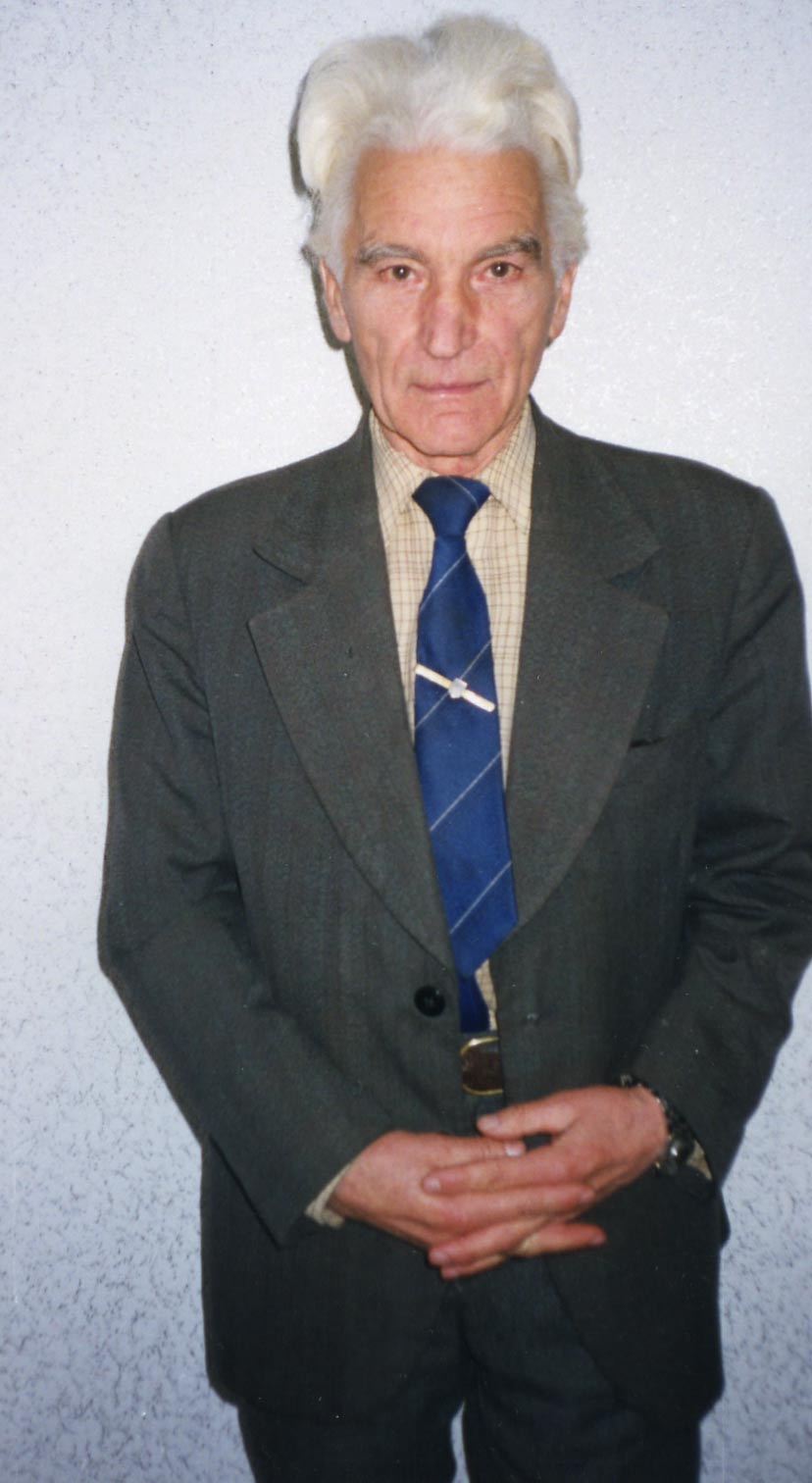
Переслушал 4–6 мая 2009 года. Редактирование 6–8 мая 2009 года.
В.В. Овсиенко: 3 декабря 1999 года в Киеве в помещении Республиканской Христианской партии я, Василий Овсиенко, и Вахтанг Кипиани записываем автобиографический рассказ Андрея Михайловича Коробаня.
А.М. Коробань: Как уже объявил пан Овсиенко, я — Коробань Андрей Михайлович. Родился 16 февраля 1930 года в Алтайском крае, Рубцовский зерносовхоз, а теперь там уже большой город Рубцовск. Почему я там родился? Отец мой, Коробань Михаил Андреевич, происходил из крестьянской семьи, не очень богатой — у них было где-то четыре десятины, — из села Паланка, что в нескольких километрах от Умани, а моя мама, Демченко (это девичья фамилия) Александра Степановна, или Леся, происходила с Таращанщины, село Боярка. Её отец Степан — из крепостных, хотя потом они были малоземельные крестьяне. А по линии отца были зажиточные. Мой предок, как известно из документов, был казак, который, отслужив службу где-то недалеко от села Паланка, был награждён хутором, который долго так и назывался хутор Коробановка, где-то аж до шестидесятых годов, а в шестидесятых годах его слили с селом Паланка. Мой отец окончил в своё время Белоцерковский сельскохозяйственный институт, был инженер-механик сельскохозяйственных машин. После окончания института, как было принято при советской власти, его послали отработать 2 или 3 года на север Алтайского края, где уже тогда поднимали целину. А поскольку он был женат, то, ясно, поехал с мамой, и я там имел неосторожность родиться, в тех холодных степях, прямо дома, потому что не могли маму довезти до больницы.
Мой отец родился 7 октября 1903 года.
Мы потом переехали на Украину, в Днепропетровск сначала, а потом в Херсонские степи. Это ценно для моей биографии — основали совхоз в бывшем немецком имении, которое называлось Доренбург. Здесь я почувствовал, что такое немецкое имение, потому что оно очень отличалось от наших колхозов. Отца туда перебросили, в Херсонскую область.
А тогда случилась семейная беда — там отец с моей мамой разошлись. Это произошло где-то в 1935 году. Но я уже не раз говорил и ещё раз повторяю, что бывает так в жизни, что даже грустные, печальные, чуть ли не трагические события направляют человека в одном направлении, способствуют тому, чтобы этот человек, этот ребёнок сформировался. Вот, разошлись — грустно, неприятно, но мама переезжает в Васильков, куда уже переехали её родители из Таращи (Васильков — это под Киевом). А там был большой — он и сейчас существует — военный аэродром, где мама знакомится с Ворониным Александром Михайловичем — он сам русский, лётчик, офицер — тогда их командирами называли. Сталинградец, что интересно. Вот она вступает в брак с таким интересным человеком, рождается дочка Лариса. А мой отец женится на молодой девушке из Геническа — это тоже Херсонская область, — Гиренко, полурусской-полуукраинке. У них рождается в 1936 году другая моя сестричка, Аида. Обстоятельства заставляют их переехать в Крым, в Симферополь.
Так через печальное событие — развод — мы уже привязаны к Киеву (Васильков близко от Киева), к командиру Советской Армии Воронину, что также имело определённое значение для меня. А отец привязан к Крыму, к Симферополю, что также имело огромное значение в моей биографии.
Я пошёл в школу № 1 в Василькове. До войны я окончил 3 класса. А ещё в 1939 году, после первого класса, я приезжал к отцу, он меня направил в пионерский лагерь «Кастель» — это под Алуштой, — где я имел возможность очень близко познакомиться с русскими детьми (Крым богат на национальности), с немецкими, с татарскими детьми довольно близко, даже начал их язык немножко изучать.
В 1941 году я, как обычно, приезжаю к отцу в Симферополь на летние каникулы — взрывается война, и я уже не могу вернуться. Почти всю войну я пробыл в Крыму, в Симферополе. Вот если бы мама с папой не разошлись и жили в Василькове, то мама, очевидно, эвакуировалась бы и забрала бы меня. Даже если бы я не поехал летом в Крым, а остался в Василькове. Мама, как жена офицера, забрала бы меня и ту свою доченьку в Советский Союз. Или если бы я остался в Василькове, то Васильков — очень бедненький городок, не сравнить с Киевом, с Симферополем. А случилось так, что я остался на оккупированной территории в довольно богатом Симферополе. Не буду рассказывать, но при немцах там была значительно богаче и либеральнее жизнь, чем на остальной территории. Это во-первых.
Во-вторых, я уже мог сравнить. Я был отличник, вступил в пионеры как отличник, но мои маленькие разочарования уже начались. Я был такой себе убеждённый советский ученик, но разочарования мои начались с первым выстрелом войны. Мы начали отступать. Это вызвало удивление. Мы думали, что война будет, но малой кровью и не на собственной территории. И вдруг вышло такое. Я уже начал думать.
Пришли немцы. Если бы я был с мамой в Ташкенте или где-то, я бы никогда не узнал, как было на самом деле. Что немцы варвары — я их ненавидел как власть. Но они показали, что такое Европа — это оставило след по сегодняшний день. То есть они заставили подумать, сравнивать их дисциплину, их аккуратность, их культуру с нашими.
Итак, я остался на оккупированной территории, да ещё и в таком городе, как Симферополь, в Крыму, а не в каком-нибудь Василькове. И второе — мой отец был кандидат в члены партии, а остался там совершенно случайно. Он должен был бежать, приехал из Керчи, где переправлял технику, чтобы взять тулуп, валенки и бежать от немцев. Но немцы шли так стремительно, что он не успел — у него была машина-пикап, он хотел бежать, но та женщина Мария Афанасьевна решила, чтобы он не ехал, потому что его свои поймают расстреляют как беглеца.
Естественно, что через некоторое время они организовали большое подполье — ясно, что советское, — которое называлось «Крымские соколы». Оно известно, о нём и книги написаны. С советской стороны начали переправляться сюда люди. Радист Саша, радистка Ира — где-то у меня всё это записано, майор НКВД, сам армянин, Мисак Альберт.
Но 26 ноября 1943 года эту организацию разгромляет гестапо. И эта моя неродная мама, которая уже была как родная, 27 лет ей, попадает в засаду гестаповцев. Её уже где-то в первой половине декабря расстреляли. А нас успели предупредить, мы убежали, гестапо пришло дня через два позже, а нас там уже не было. Остаётся девочка семи лет, моя сестричка. Отец сидел в подвале одной бывшей коммунистки, которая скрывалась, а на меня легла эта работа: связаться с крымскими партизанами. Вышло так, что я должен был заниматься отцовскими делами. В нашей квартире была штаб-квартира: радиостанция, оружие под дровами. Всё это развозилось. Когда напали гестаповцы, у нас уже ничего не было. Мы ждали уже следующую партию оружия. Но организацию уже разгромили. Я, пацан 13 лет, должен был выполнять обязанности подпольщика, потому что всё это шло через отца. Я не один такой был — было много таких пацанов, которые помогали, потому что мы незаметны.
Я связался с партизанами и вывел отца в Северное соединение, или Зуйское соединение крымских партизан под командованием Ямпольского Петра Романовича. Он сам еврей, с ним отец когда-то работал в Народном Комиссариате земель. Мы пришли к нему. Я имел честь ночевать в землянке командующего Северным соединением.
Потом мы сумели забрать и бабушку, и ту девочку-сестричку. А где моя неродная мать похоронена, где её могила — неизвестно. Нас направили в третий отряд. Там я некоторое время также выполнял обязанности связного. Но в конце декабря немцы двинулись на нас, прочёсывали территории. Об этом долго рассказывать… Отец больше, я меньше — были обморожены. Ямпольский вывел обмороженных и сказал, что нам нужны будут специалисты — не будем же вечно воевать, — чтобы со временем поднимать сельское хозяйство. И нас направили на Большую землю в госпиталь в Сочи. Он назывался эвакогоспиталь №21/39, начальником его был майор, также еврей Малкин. Я там месяц лечился, а через месяц пришёл ко мне, как я уже теперь понимаю, начальник особого отдела. Почему особого отдела? Я впоследствии научился их распознавать: гражданское пальто (когда все ходили в военном), шарфик, но из-под гражданского пальто выглядывали галифе и сапоги. Это уже марка. Он пришёл прямо в палату — это такая, так сказать, демонстрация, чтобы видели, что он со мной работал. Появился прямо в палату и сказал: «Я тебе хочу дать работу». По дороге он мне рассказал, что это опять же роль связного — ты уже выздоравливаешь, бегаешь, так что будешь связным. Завёл в штаб, направил в какую-то комнату, и я его больше никогда не видел. Дали мне работу связного, учили меня целый месяц.
Когда началось освобождение Крыма, то в конце марта 1944 года мы уже выписались. Отец поехал раньше в Крым, я позже. Мачеху мы не нашли — это долго можно рассказывать, как я искал её среди страшных трупов, простреленных в затылок. Это работа гестаповцев. Я не знаю, сколько там лежало трупов — то ли несколько сот, то ли тысяча, и у каждого прострелен затылок. Это было через две недели после их отступления, а мачеху расстреляли где-то в декабре 1943-го. А отец сказал: «Иди ищи, потому что я занят». Вот так.
Я снова пошёл в шестой класс. Имел три переэкзаменовки, всё сдал за лето, чтобы не потерять год, и вернулся в Васильков к своему дедушке и бабушке, которых я уже упоминал — к родителям мамы. А мой отчим — хороший был человек, ничего не скажешь — погиб как офицер-лётчик под Харьковом в мае 1942 года. Так я потерял своих родных, погибших героической смертью. Вечная им честь и память.
Я окончил десятый класс в 1948 году с серебряной медалью.
Но тем временем произошло такое событие. После того героизма и жертв — я же только двумя словами рассказал, как мы бежали в партизаны, как замерзали — 11 января 1946 года в Симферополе арестовывают моего отца и дают ему 10 лет. Гестапо расстреляло маму, осталась девочка, а её отца посадило наше «гестапо» — МВД. В этом я почувствовал их родство.
Что же случилось? Отец был неосторожен на язык — он чувствовал за собой такое право, потому что после всех тех подвигов его даже подали в Москву на орден. А он мог и покритиковать. Но есть второй момент: отец в 1942 году как-то познакомился с украинскими националистами. Как я теперь уже понимаю, это были мельниковцы, которые пришли вместе с немцами, и он некоторое время работал вместе с ними инженером в бюро «Бершафт компани», «Вико». Это сельскохозяйственная часть. Помню, там были Иосиф, Пётр, Николай, Иван — их было несколько. Что интересно — я заметил — они все носили такую военную жёлто-зелёную форму. Пилотки также формы, отличной от немецкой. Там был жёлто-голубой овальной формы значок, но без трезубца — это я хорошо помню, — без трезубца. Это были приятные ребята, высокой культуры. Мы скоро подружились — всё-таки украинцы, понимаете? Хотя мы были по разные стороны баррикад: мой отец был кандидат в партию. В Крыму, раз ты не любил немцев, то был один путь: в советское подполье. Но всё же мы были украинцы. Так почему на этой почве не мог появиться какой-то общий интерес, разговоры? Они начали приносить книги. Мало того, тот Иосиф стал крёстным отцом моей сестры Аиды, потому что нельзя было взять крёстного из советских. Я хочу сказать, что для отца это был лишь эпизод. Он читал ту литературу и говорил, что это неплохо, но не перспективно. И остался со своими убеждениями и в советском подполье. А вот на меня они имели большое влияние, так что у меня даже пошатнулись мои пионерские взгляды. Я привязался к тому Ивану в гражданском. Они производили такое впечатление, что это друзья, хотя они для меня и дядями были. И они почувствовали, что я — та почва, в которую можно сеять зерно. Они давали мне литературу, и я читал не меньше, чем отец. Наконец я этому Ивану сказал в один прекрасный день: «А как же мне попрощаться с тем советским, с тем пионерским?»
Понимаете, я жил в этой атмосфере. В школе нам говорили, в основном, о наших успехах. Мы были окружены теми именами — Ворошилов, Сталин — и выбраться из этого было непросто. Выбираться нужно было долго, что со мной и произошло. Я сказал Ивану: «Я за Украину». У меня мама была артистка (это я забыл сказать), у нас в доме было полно украинской одежды, её фото в роли Бесталанной. Дедушка мой, Степан, был довольно-таки национально сознательным. Они о Петлюре иногда говорили тихонько, а я подслушивал. То есть я вырастал стихийным украинцем. И та природа Киевщины — всё это повлияло, но это ещё было бессознательно. А вот здесь уже у меня началась борьба между тем и тем. Иван мне сказал: «Послушай, Андрей, одно и другое непримиримо. Ты рано или поздно должен выбрать — или оставаться там, или перейти сюда, на полностью национальную почву». Что впоследствии и произошло, но через несколько лет.
Нашим они нравились. Эта моя неродная мать говорила, что они отличаются от немцев — с ними можно разговаривать, с ними можно пошутить. Но их вдруг почему-то переодели в немецкую форму, и они через некоторое время все сбежали, уже их стали ловить.
Вот что я могу сказать, как я познал мельниковцев своим детским умом. Они от немцев сбежали, их начали арестовывать. Говорят, что мельниковцы шли с немцами до конца, но те, которых я знал, сбежали, и их немцы арестовывали. Как-то отец пришёл и говорит, что их уже ищут. Значит, между ними и немцами были какие-то расхождения, но я не знаю каких-либо подробностей. Это был 1943 год.
Впоследствии уже советские поймали кого-то из этих наших друзей-мельниковцев, или националистов, так, может, кто-то и на моего отца сказал, что он был с ними. И что ребёнка крестил. Это на сегодняшний день смешно: ребёнка крестил — и уже националист. А тогда! В советские времена это был ужас. И что ты специально при немцах остался. Не знаю, как он мог тогда убежать. А главное — что отец имел авторитет, и этого ему не хотели простить.
Когда я приехал в 1946 году к бабушке и мне сказали, что отец сидит, то я наивно думал, что следователи меня вызовут, со мной поговорят, скажут, что это какая-то ошибка, а ты хороший парень, ты учишься — эх, ничего подобного! Отца привезли в том воронке, а мы, трое несчастных — та старенькая и больная уже бабушка, я шестнадцати лет и девочка лет десяти — вот мы сидим во дворе, и те архаровцы открыли двери: «Вон все отсюда!» И выгнали нас из того двора. Сами понимаете, что большой любви я к ним не испытывал, но теперь уже надрыв произошёл серьёзный.
Так я формировался. Хотя я потом ещё поступил в комсомол, но поступал я, скажу честно, с двойной целью. Я ещё немного надеялся, что это всё ошибки, что ещё можно перестроить ту власть, что она может послушаться — такие наивные мысли были. Кроме того, у меня же отец сидел — значит, надо было и так отвлечь внимание. И я полностью приписался к этому лётчику Воронину. Это мне помогло потом, что отцом стал считаться Воронин.
Подчеркну один момент: что иногда может сделать педагог. Была у меня учительница — Науменко (забыл имя, где-то оно у меня записано), которая готовила переэкзаменовку по русскому языку и литературе. У меня была переэкзаменовка, потому что пошёл в партизаны, из партизан в госпиталь, так что много пропустил. И вот я говорю ей: «Я думаю, что война нас многому научила. Всё это наше, советское, но мы не будем так восхвалять Сталина, а второе — не знаю, как другим, но Украине нужно значительно больше прав. Пусть мы ещё не будем самостоятельным государством, но мы будем свободными, не будет этого русификаторского давления». И что же мне говорит этот человек? Она нам дала очень много, характеризовала женщин всех наций — какие итальянки, какие француженки, какие русские, какие украинки, и в основном она на 99% всё правильно сказала. И она мне сказала: «Адик (так меня называли дома — почему-то не Андрей, а Адик), не надейся — и Сталина будут больше хвалить, и вас зажмут ещё сильнее». Это мне осталось в памяти. Я впоследствии убеждался в правоте её слов, и это меня также возмущало.
Я окончил школу и поступил на украинское отделение филологического факультета Киевского пединститута, который тогда был имени Горького — здесь, на бульваре Шевченко.
В.В. Овсиенко: В каком это году?
А.М. Коробань: Это было в 1948 году. В том году я окончил школу и сразу поступил. Потом были долгие перипетии. В 1950 году я окончил два курса. Отец мой сидел. Там, в Крыму, бабушка и та девочка настрадались, я им помогал.
Ага, что мне помогло — это наше родное украинское село. Я был в комсомоле, так меня на некоторое время направили в село Глеваха пионервожатым. Мне не помешало подработать — отец сидит, отчим в могиле, а нас двое, а мама — что же мама? Пошёл я подработать пионервожатым в Глевахскую восьмилетнюю школу. Глеваха — 26 километров от Киева. И эта Глеваха меня добила. В каком смысле? Во-первых, я уже воочию увидел, сблизка, как живут колхозники. Во-вторых, продналог. Приходят — сдавай яйца, сало, мясо, картошку. Моя хозяйка сдала столько-то мяса. Пришли такие порядочные, хорошо одетые чины, записали. А через месяц-полтора приходят другие — «Я уже мясо сдала». — «А кому вы сдали? Это какие-то авантюристы были! Где документы или какая-нибудь записочка?» И хозяйка, представляете, снова должна сдавать сколько там яиц или мяса. А как заём собирали? У меня тоже. Я видел всю эту драму и трагедию. Страшно, до обморока — могли и в два часа ночи прийти.
Это социальная сторона. А вторая — национальная. Я увидел: вот где прячется моя Украина! Киев же весь русифицирован — там разве что горстка несчастной интеллигенции. А тут — вот где Украина спряталась! Где песни, где танцы! Я сам музыкант, могу эти танцы назвать — были и русские, и частушки, но главное — что оно пелось импровизированно, были хоры, были свадьбы, где одевались в украинскую одежду — и молодая, и её дружки. Так вот куда Украина загнана! Вот это меня добило: бороться, ненавидеть и бороться. Вот что я вынес из этой Глевахи.
Поэтому я в 1950 году еду в Крым, сажусь и пишу огромную работу на 64 тетрадных страницы, адресованную моему школьному другу Букалу Дмитрию, который также не любил эту власть, но стал меняться. У него ненависть была не настолько глубокая, а немного на мещанской почве. Не буду расшифровывать — Вы догадаетесь, что такое «на мещанском уровне». Когда его призвали в армию, а он, кроме того, поступил заочно на юридический факультет, то он начал немного меняться. Поэтому мне надо было его убедить и вернуть к старым взглядам. И вот я в этой работе, которая была письмом к нему и заняла 64 тетрадных страницы, дал анализ, как я понимал, той системы, начиная с колхозов, с избирательной системы. Как раз тогда весной были выборы: один кандидат в палату Союза, один в палату национальностей. Корнейчук и Тычина. Вот выборы! И о личности Сталина — что этот самолюбивый кавказец очень любит похвалу, нет никакой диктатуры пролетариата или народной власти, Верховный Совет — это ширма. В таком духе, на 64 страницы. Такое сочинение.
Но случилась беда. Тот же Букало Дмитрий порекомендовал мне своего друга в нашу компанию, потому что я пытался подпольную организацию создать. Порекомендовал мне такого хорошего товарища Горбатюка Владимира — студента журналистики из университета, который оказался агентом. И я, на беду, как раз ему и дал эту рукопись. Был единственный читатель — он. Потом он сказал, что у него в доме будет ремонт, так чтобы я забрал эту работу. Очень похвалил её. А я шёл на вторую смену в институт — это уже третий курс. Было это 20 марта 1950 года, среда — даже это помню. А занятия были с двух часов. Я из его квартиры хотел поехать одним путём, а он сказал, чтобы ехал этим — так, мол, будет ближе. Восьмой трамвай тогда ходил с того места, где он жил.
Вот я сошёл с того трамвая — а эта работа у меня в сумке — и меня встречает женщина и говорит: «Извините, у меня украли пальто — среди бела дня. Все соседи думали, что это, может, мой родственник, а оказалось, что вор. По описанию внешности сходится с вашей». Ну, не буду развивать этот детектив — десять лет от особого совещания. Особое совещание — это был такой бериевский суд. Долго пришлось бы рассказывать.
В. Кипиани: Но ведь это самое важное для нас…
А.М. Коробань: Розыгрыш продолжался абсолютно логично. Идёт милиционер — она останавливает милиционера и говорит, что у неё на меня подозрение. Тот берёт мой студенческий билет и спрашивает её, не ошиблась ли она. «Может, я ошибаюсь, но мне пальто дорого, и пускай это выяснят в милиции». И меня везут на Владимирскую, 15, там на полном серьёзе начинается — «как, где, как ты мог», даже каких-то свидетелей вызывают с работы. Тот говорит, что не видел, а другой говорит, что вор был в сапогах. А мои сапоги в Глевахе в ремонте. Поехали в Глеваху — понимаете? И так на полном серьёзе шёл розыгрыш. Но, запомните, всё это делалось в одном направлении — чтобы спрятать агента, чтобы я на него никогда и не подумал, потому что тот человек должен был и дальше работать и ещё кого-то выдавать. Там какой-то майор полез в мою сумку — но чего ты полез, если меня подозревают в краже пальто? Обшарили меня, нашли 60 рублей — это не похоже на деньги за проданное пальто, потому что тогда пальто стоило сотню, двести, триста, но не шестьдесят. Нет, он берёт мою сумку — что, ты там пальто ищешь? Он берёт мою сумочку и каждый листочек пересматривает — вот в чём дело. И будто ненароком натыкается на эту мою работу: «А это что такое?» И только тогда, будто ненароком наткнувшись, он звонит, сразу прилетает русский подполковник. «О, Боже, ах фрукт, ах, мерзавец!» Вызывает машину, меня перевозят на Владимирскую, 33. Потом ещё звонили, а тот отвечает: «С этим уже всё решено — тут нашлось более серьёзное дело». И всё.
И за эту работу дали мне десять лет. Долго длилось это дело, до особого совещания. И главное, что он же, этот Горбатюк Владимир, и того Дмитрия Букала выдал, который мне его порекомендовал. У Дмитрия в армии нашли дневники. Я его защищал, но в дневниках были антисоветские вещи — пустяковые, но это тоже была самостоятельная агитация.
В. Кипиани: А когда всё это произошло?
А.М. Коробань: Я не хочу вас очень утруждать… Ну, началось следствие. Там было много детского... У меня была большая переписка. В Глеваху поехали, в Васильков — забрали письма и адреса тех людей, с которыми я переписывался. Там был какой-то списочек — так что, понимаете, нетрудно было искать. Но я, насколько мог, всех отгораживал, защищал, говорил ни-ни-ни, в том числе и насчёт этого Букала Дмитрия. Если бы не прямой донос того Володьки Горбатюка и не эти дневники, то сел бы, может, только я один, а так... А те все остальные отпали.
В.В. Овсиенко: Вас вместе с Букалом судили или отдельно?
А.М. Коробань: Я всё расскажу. Вот что странно для меня было. Посадили меня 20 сентября, а где-то в конце октября вдруг меня куда-то везут. Я был немного напуган. Ничего не сказали, «вещи не бери». Знаете, такая наивная мысль: может, на расстрел? Чёрт его знает, мы всякого наслушались… Но в таком случае я буду бежать, пусть меня так, на ходу... Такие, знаете, смешные мысли. Когда нет — привозят, слышу какой-то разговор из воронка. Один говорит, что бегал, как дурак, а второй говорит, что на него тоже что-то такое нашло. Слышу такие разговоры. А дальше меня вызывают — сидит целый консилиум врачей. Что же такое? Это на тему моей, так сказать, вменяемости или психического здоровья. Вы знаете, меня это сначала возмутило, я очень рассердился. Но я попытался сдержать себя и сказал, что это я так считал, так видел, и как видел, так и писал. «Кто же вам дал право?» И все смотрят на меня. Я сказал, что я почувствовал такое право и писал.
Разговор закончился — меня повезли обратно на Владимирскую, 33, в камеру. Нет-нет, а через некоторое время хоп! — на этап. Привозят в Лукьяновскую тюрьму, а там была камера специально для тех, кто по 58-й статье — там и румыны, и немцы, и запорожцы. Там была такая коллекция людей! А через несколько дней берут меня и везут в Харьков. Почему, спрашивается? Там сидели в вагоне чисто уголовные и говорят: «Да это, может, контроль, может, проверяют». А простой сержантик в Харькове обмолвился: «Тебя привезли к профессору на проверку твоих умственных способностей». Паперный, сам Паперный, еврей — великое имя было в психиатрии. Это был ноябрь, декабрь... Да, именно на Октябрьские праздники привезли. Ноябрь, декабрь, январь и почти весь февраль — вот это пошло на проверку. Понимаете, какое было у меня следствие? Это было целое мучение! Это же я мучился и не знал, что делать. Одни говорят: ты притворяйся, валяй дурака — даже научили меня, как это делать. Другие говорят: смотри, как хочешь. Я сам метался всуе. Замечу, что тогда выйти как душевнобольной не считалось позором, а считалось хитростью, что ты их обманул, что ты выскочил. Они не очень-то и хотели делать тебя больным, а ты сумел их обмануть — понимаете? А почему я попал на экспертизу? Потому что у меня оказалось большое количество родственников — медиков, врачей… И маму подучили: давай напиши, что он там что-то студентам сказал, что дома что-то не так себя вёл, а во время войны партизанщину пережил и так далее. И они начали на этом играть. И я уже тоже играл, как мог, хотя и мучился — не знал, ехать ли на Сибирь в холод, или как-то притвориться и выйти, чтобы потом снова вести борьбу. Эти несколько месяцев — это было мучение для меня. А потом думаю: а если я выйду, то как тот мой дружок? Осудят его или нет? Тоже совестно.
А закончилось это очень просто. Они послали мою работу профессору Паперному. Он уже готов был мне написать заключение. Он в какой-то мере мне сочувствовал и склонялся к тому, чтобы сделать из меня такого — «и будьте здоровы!» Но ведь послали ему мою работу, он заинтересовался, за что же я попал. Он прочитал эту мою работу (вот она у меня тут лежит, если захотите, её можно будет прочитать), и он понял, что если он скажет, что это написал душевно ненормальный, то тогда его сделают ненормальным. Он сказал: «Ну как же так — Вы там выступаете таким социологом!» Вот вам и вся оценка. И на том закончилось. Он написал: «Нервы и голова здоровые, осуждению подлежит».
Меня в начале марта 1951 года вернули в Киев. Мой следователь капитан Кузнецов (подполковник передал моё дело этому Кузнецову, тоже русскому). Мне был 21 год, но там мог сидеть и профессор, потому что и такие были со мной. Литератор Веретинский, еврей-писатель (а тогда же с евреями воевали), старый дедушка уже, — так Кузнецов и ему мог сказать на три буквы, а на меня — так уж как хочешь.
А потом случилось непонятное. Он подписал статью о закрытии дела — нет и нет, и нет. Это в середине марта мы закончили следствие, а я мучаюсь в той камере где-то аж до августа. В августе переслали нас в Лукьяновку. И только где-то в конце августа, аж через сколько месяцев, пришло «решение особого совещания» — это был такой заочный бериевский суд. А суда мы и не видели — всё отослано в Москву так, как следователь составил. В Лукьяновке вызывает прокурор (помню, как сейчас, такой толстенький дядя), там такая малюсенькая писулечка — как когда-то семиклассник мог написать любовную записку шестикласснице, не больше, — где написано, что «Коробань Андрей Михайлович за антисоветскую агитацию и попытку создания антисоветской организации, предусмотренных статьёй 58, пункт 10/11, осуждается на 10 лет заключения с отбытием в исправительно-трудовых колониях, начиная с 21 сентября 1950 года». Один день у меня ещё и украли, потому что посадили двадцатого. Даже прокурор улыбнулся и говорит: «Вот видите, вы уже год отбыли». Вы понимаете, целый год на что ушёл? Там того следствия было, как кот наплакал, а процедура растянулась почти на год. «Вам остаётся девять лет».
Так вот, всё это закончилось решением особого совещания, которое больше 10 лет не давало. Но чем оно было страшно, как я уже в лагерях узнал: могли и «скостить», как говорили, срок, то есть уменьшить, но могли и добавить без всяких судов — просто могла прийти записочка, что вам ещё полгода или год. Этим оно и было страшно. Суд вроде бы давал чёткий срок, а ОСО — вроде бы и небольшой срок, но с такими вот оговорками, да, могли и убавить, но на это никто не надеялся.
Повезли меня на Крайний Север, в Коми АССР. Есть там такой «Интауголь», где добывают уголь. Помню как сегодня, что нас с тем же Букалом Дмитрием свели на Лукьяновке в одной камере. Они совершили большую ошибку. Мы там кое-что выяснили. Меня посадили двадцатого числа, а Букала Дмитрия где-то только числа пятого-шестого октября. А тем временем меня буквально через 3-4 дня после ареста полковник спрашивает: «Позвольте, Коробань, так у Вас, оказывается, были и националистические убеждения? Вот мы спросили Вашего Букала Дмитрия, и он говорит, что у вас были националистические убеждения. Вы утверждали, что Украина — колония...» А в этом произведении, за которое меня взяли, Украина так чувствовалась, но прямых слов об Украине там не было, там были классовые, социальные вопросы, политика. А тут — «националистические убеждения, вот ваш Букало говорит...» Я спросил у Букала, вызывали ли его за эти полмесяца хоть раз — ни разу! Значит, кто сказал? Тот Горбатюк Владимир. А тот знал. Знал и сказал, а чтобы не выдать своего агента и настроить нас друг против друга, следователь вот это и сказал. Это то, что великий Соловьёв называл «психологической пыткой».
Приехали мы в Горький, а там нас разлучили. Он, как более слабый здоровьем, поехал в Новосибирский край — там были лагеря Речлаг, или что-то подобное, а меня — на Крайний Север, в «Интауголь», который назывался ещё «Минераллаг». Там — номер на спину, «Г1-703» — это был мой номер. Ну что там было? Это называлось «особые лагеря МГБ», режимные. Не хочу набивать цену, но бытовые условия к тому времени значительно улучшились, потому что то, что застал мой отец в 1946 году, — это был ужас. 1945, 1946 и до 1947 года — это был кошмар: и голод, и тяжёлые условия. Не буду рассказывать, это и без меня известно. Я уже этого не застал. Известно, что в 1948 году была принята Декларация прав человека, и тогда американцы выступили с резкой критикой СССР за условия содержания политзаключённых и вообще заключённых. И так утёрли нос Вышинскому — крикуну и показушнику, что он не мог не доложить Сталину. Надо отдать должное, до Сталина это дошло. Были случаи — о них рассказывали, а точно я не знаю, — такого дикого произвола, что некоторых даже расстреляли. Но это должен был подсказать Запад. Я уже приехал к тому времени, когда произошла перестройка. С одной стороны, значительно улучшились условия содержания — были нары, матрасы, сушилки. Лагерное питание и есть лагерное, и если бы не посылочки… Особенно бедствовали иностранцы, которые посылок не получали. Но всё же это были не те годы.
Зато компенсировали тем, что режим стал строже, что для нас действительно было неприятно. Во-первых, 10-часовой рабочий день. Второе — никакой гражданской одежды, даже намёка. При обыске надзиратель мог снять с вас шарф, заставить скинуть гражданскую рубашку, хотя она тебе и нужна была. Потому что, представляете, в том краю доходило до 47 градусов, той лагерной одежды не хватало. Во-вторых — чтобы ты ничего из еды не держал в бараке. Допустим, вы поели в столовой (Вы уже того не застали), у вас остался кусочек хлеба. Вы поели в 5-6 часов вечера, а отбой в 10. И вы ещё можете захотеть чайку попить с тем хлебом — нет, ничего уже нельзя, даже кусочка хлеба, не говоря уже о куске сала или ещё чего-нибудь из посылки — Боже упаси! На каждого заключённого была такая ячеечка в шкафу, и там под номером этот кусочек хлеба должен был лежать. Назавтра на завтрак я мог его взять, а то, что не доел, снова должен был сдать тому человеку, который положит его снова под номером. Никакой гражданской одежды, бушлатами накрываться нельзя. Там топили углём, но это не паровое отопление, там холодно было. Вроде бы санитария соблюдалась, но та санитария кончалась тем, что ночью мы замерзали. Я очень страдал — у меня носоглотка слабая. Мы среди ночи вставали, искали свой бушлат и тащили его под одеяло — не поверх одеяла, а под простыню, под одеяло. Такая вот санитария.
По правилам, по зоне должны были передвигаться только группами. Даже чтобы в туалет пойти, нужно было собрать 5-6 человек, а не поодиночке. Далее — посылки. Тут надо отдать должное — посылки разрешались. Но когда пришла посылка, ты её получил — и всё относил на индивидуальную кухню. Эта посылка должна была храниться на специальном складе, где работала агентура начальства (на «тёплых» местах — нарядчик, начальник склада, завпосылочной — это всё были люди, которые должны были доносить). Что оставалось на этом складе, а что ты приносил на индивидуальную кухню, сварил себе кашу или ещё что, а крупа осталась или кусочек сала — всё это оставалось на индивидуальной кухне. И кусок хлеба в столовой в этой ячеечке, как её назвали — всё там. На бушлате должен был быть только один карман, который надзиратель может проверить. Главное — предупредить побег, чтобы не было никакой подготовки, ни гражданской одежды, ни продуктов — чтобы не было побега с того Крайнего Севера. Даже не разрешали брать на работу еду, чтобы нельзя было накопить, насушить и наделать запасов. Ходить нигде нельзя. Бараки должны были на ночь запираться, решётки на окнах на ночь запирали.
Вот представьте себе такой режим. Но что было самым неприятным — что разрешалось под цензурой написать домой всего два письма в год. Представьте себе: одно я пишу, скажем, в марте (я бы мог и в апреле написать, но кто же так писал?). Итак, одно письмо я написал в марте, а второе — где-то в сентябре-октябре. Вот родная мама ждёт — что ты там, как ты там, нет никакой весточки полгода. Ведь если напишу через три месяца, то, соответственно, можно будет только через девять месяцев написать второе. Это в той системе было очень неприятно.
Режим был такой дурацкий... Но немного вернусь — насчёт побега. Буквально перед моим прибытием несколько человек сбежало из рабочей зоны шахты. Их догнали — это же зима была, а какие это просторы — Север, Коми АССР, это трудно представить. Добавлю, что местное население уже было научено выдавать беглецов, и за это давали чуть ли не мешок муки. Те ненцы, коми на оленьих упряжках, так если ему в той лесотундре (это ещё не совсем тундра) дадут мешок муки или мешок сахара, то он мог чуть ли не родного отца выдать. Беглецы прошли всего километров 50-60. Конечно, этих ребят поймали, одного убили, расстреляли. А почему? Там где-то собака выскочила, а он с перепугу поднял топор на эту овчарку. А солдат, который бежал на лыжах: «А, так ты топором на собаку?» — и того зэка убили. Так он несколько дней лежал перед вахтой — так и они делали, так и немцы делали, поэтому я и говорю, что это довольно близкие родственники. Он лежал — а вы шли и должны были смотреть.
Так что никаких запасов, никаких побегов. Всё работало на это. Но что я могу сказать? Справедливости ради, мне в этом отношении повезло. Я строил шестой лагерь, где в шахтах шла только проходка, то есть это был бедный лагерь. Почему бедный, я объясню. Если бы не посылки, то ой-ой-ой, я не знаю, как пришлось бы тянуть. Эти шахты только разрабатывались. Там были почти исключительно зэки и маленькое количество вольных людей. Шахты только строились, поэтому бедные. Зато, спасибо начальнику, — я не запомнил, не то Самойлов, не то какая-то такая фамилия, чистокровный русский, — у нас в смысле режима была благодать. Мы ходили по зоне, я занимался музыкой, бараки не закрывались. И даже можно было кое-что из гражданской одежды. Может, он старался из-за бедности. Потому что и такое могло быть, что специалисты, будучи зэками, могли писать куда-то начальству и просить, чтобы их перевели на другую шахту. Неважно, что это зэк, но начальству нужны были специалисты на своей шахте. Вольное начальство могло добиваться, что ему именно такой специалист и нужен. И зэков перебрасывали. Поэтому, может, по этой причине у нас режим был значительно легче. Это и для меня была благодать, потому что я начал себе немецким заниматься, музыкой, мама скрипку прислала. А потом кто-то, видимо, начал доносить на начальство, и нас немножко начали зажимать. Но меня перевели оттуда, потому что я всё время задумывал бежать.
Я не хочу это детально описывать, но могу рассказать, как я потратил 12 дней, чтобы сбежать из камеры КГБ. Из камеры КГБ! Я влезал на окно, а не разрешалось даже близко подходить к окну. Такой был запал ненависти! Я не знаю, почему, но Глузман говорил: «Я страшно испугался», когда попал в неволю. Я не хочу хвастаться, но у меня не было места для страха. Немножко боялся, но была такая злость, такое желание бороться, что оно у меня выливалось в действия. Это же подумать — подставлять тумбочку к окну, влезать на окно и пробовать решётку на прочность — там в одном месте одна решётка была плохо приварена, свеже вставлена. Надо было проверить, как далеко она заходит в стену. А надзиратель же заглядывает, и не дай Бог, чтобы он меня увидел, что я тумбочку подставил, а тем более влез на окно! Я всё так делал, как в романах. Я, начитавшись тех детективов, часами сидел и высчитывал среднее количество секунд, когда он открывает глазок, — и точно угадывал. Только он подходит — я с окна, только он закрыл — я на окне. Хорошо, что я спортом занимался. Пока я не убедился, как писал Тарас Шевченко, «не ті, не ті їх ковалі кували, не так залізо гартували, щоб розірвать». Тогда я попрощался с этой мыслью.
У меня была больная носоглотка, лежал в больнице, и там добивался, чтобы меня отправили из больницы в тот лагерь, который будет ближе к станции. Чтобы сбежать из того лагеря, откуда ближе до станции. Это долго объяснять. Немцы на меня влияли. Благодаря им я не сделал этого безрассудного шага. Пришло время — меня освободили чуть ли не с почестями. Это был единственный лагерь, где соблюдался тот страшный режим — притом, что он был богаче, там уже шахты работали, там много вольных работало. Вот, например, я работал на своей шахте в геологической конторе. Мой начальник сам сидел раньше. Это же советская власть. Я не знаю, может, он бытовой. Но ясно, что он мне бутербродики носил. А эти комсомольцы-взрывники? Да он ни разу и в шахту не спускался: ребята, работайте себе, а он побежал на свидание. Но зато принёс добрый кусок колбасы взрывникам-зэкам. Или бутылку принесёт шофёр, которому ребята побыстрее нагрузят или ещё что-то там бросят на дно, чего и нельзя. Вот что значит, когда шахта уже разработана и есть много вольных людей — это уже немножко лучше бытовые условия, особенно для иностранцев, ведь иностранцам ничего не давали.
Единственный третий пункт придерживался того дикого режима, где начальником был татарин Бородулин, который этим и прославился. А почему? Потому что его брата убили то ли литовские партизаны, то ли наши украинские. И такого человека, брата которого убили, поставили начальником над такими! Там не хотели работать, несмотря на то, что там материально было легче. Старались перевестись из того лагеря, потому что режим там был дикий. Я описал его подробно, но попробуйте такое выдержать.
Я извиняюсь за такой подробный рассказ, но поскольку я, так сказать, мобилизован, как писал Тычина, с 1950 года, а рядом со мной сидело полно людей с 1945 года, 1944-го, ещё с довоенного времени, то я прошёл всю эту школу. Я иногда читаю эти искажения, я с ними не могу согласиться. Бывает так, что они или не знают, или дописывают те ужасы и тем самым набивают себе цену. А тут не надо ни преуменьшения, ни преувеличения — надо так, как было. Достаточно того, что было — там нечего добавлять. Я бы тоже мог сказать, что меня побили там, бросили в карцер. Ко мне зашли и сказали, что если я и дальше буду заниматься зарядкой, то меня бросят в карцер. И я перестал заниматься зарядкой.
Но я говорю, что из всех лагерей самого жестокого режима придерживались в лагере Бородулина. Одни говорят, что денег не давали или давали очень поздно. Я говорю, что в наших лагерях деньги дали весной 1952 года. Помню как сегодня: привезли меня туда 23 сентября (это был день победы над Японией — все уже и забыли, что такой день был, а я помню), а приехали мы туда 26 сентября 1951 года. А весной 1952 года нам дали деньги. О, это было такое событие, особенно для иностранцев! Там же было полно немцев, румын, японцев. Потому что мы всё-таки немного получали посылки. Никто из начальнического состава не верил, что дадут деньги. Ещё же Сталин был, это 1952 год. На труде зэков те шахты Инты заработали всесоюзное знамя победы в социалистическом соревновании. Но когда дали деньги, то там начали понемножку выпивать. Тогда начальство стало просить Москву, чтобы не давать деньги на руки, что позже и случилось. Тогда сразу прекратили подачу угля.
В.В.Овсиенко: А за деньги что в зоне можно было купить?
А.М.Коробань: Ларёк был продуктовый. Кроме того, уже ведь началось освобождение. Уже можно было легче бутылку купить, можно было купить кусок колбасы. Это же был 1952 год. Уже можно было и домой послать. Я посылал деньги той несчастной бабушке. А забирали, если мне память не изменяет, одну треть заработка. Потому что вот при пане Василе забирали 50. Или это одну треть давали? Точно не помню. Мы зарабатывали 200-300-400, вот так. Так что могло и так быть, что только одну треть давали — не ручаюсь. Но уже было легче, и это было при Сталине.
А потом уже революция, так сказать, пошла — это смерть Сталина, 5 марта 1953 года. Сначала говорили, что он лежит — а я работал тогда на кирпичном заводе, кирпичи делали из подземной породы. Помню до сих пор эту новость. Говорю: «Стоп, друзья, что-то гимн заиграли, а не поют». Тогда же играли «Союз нерушимый» и каждый день пели, а теперь не поют. Что-то может быть. Все задержались в бараке — а нас уже на работу готовили. Это уже исторический факт, что власть проиграла моментально. Во-первых, почувствовалась паника — они боялись, хотя и сами были обременены властью Сталина, сами уже её не любили. Весь народ думал, что это власть виновата. А те, кто поумнее, посознательнее, придерживались мнения, что нельзя против Сталина, потому что народ же за ним, он же выиграл такую войну. Такие глупости: не любя его, все друг друга боялись и кланялись его имени.
А когда он умер, сразу почувствовали, что это фальшь. Во-первых, сразу Молотова вернули, который был в опале. Вернули на пост министра. Жукова сразу вернули. Во-вторых, Маленков стал обращаться: «Пожалуйста, без паники, всё хорошо». Начал народ просить, говорить, что ничего такого не случилось — было трудно, «но мы же советские люди — мы всё исправим, всё будет хорошо». А как доказательство — вот мы вам Жукова, такой авторитет, вернули. Видите, Сталин его устранил, а мы вернули. Вот, Молотов — видите? А самое главное — амнистия. Вот это было! Это был откуп, который им очень дорого обошёлся. Кто видел кино «Холодное лето пятьдесят третьего», тот и сейчас чешется.
Выпустили эту шантрапу, а специально было сказано — помню как сегодня: «Амнистия не касается только контрреволюционеров» — вы подумайте! В пятьдесят третьем году — поищите эти архивы, поищите эту «Правду» и «Известия» сразу после смерти Сталина — мы ещё назывались контрреволюционерами! Такая дикость была! Я, студент, другие ребята — контрреволюционеры, нас амнистия не касалась. Этих бытовиков, как мы их называли, их и научили, кого надо выпускать, а кого нет.
Кроме того, было смягчение на международной арене. Было сказано: «Советский Союз отказывается от каких-либо территориальных претензий к Турции». Видите, они ещё имели планы и туда лезть под видом воссоединения Армении. Это было. Это и загнало Турцию в НАТО. Ещё Маркс писал, что главное для России — стать одной ногой в центре Европы (чего они и добились через Восточную Германию), а второй ногой — в Босфор и Дарданеллы. А тут — «мы отказываемся».
А теперь насчёт контингента. Те ребята — это моя слабость. Сколько всего пережито! Мы там были не одинокие герои — там же молодёжь, там УПА. Какая у меня была статья? Она только числилась как «организация». На самом деле — это мало кто из зэков знает — это была организация борьбы против советской власти. То есть я уже считался борцом против советской власти. А их же было там полно, тех ребят. И когда они начинают рассказывать про свои «крыивки» — может, не всё там было так героично, может, и там кто-то кого-то выдал, но я чувствовал в этом какую-то романтику. Нас это так пронимало! Я уже не мог выйти оттуда каким-то раскаявшимся. Я там зажёгся романтикой борьбы. Те песни, которые они украдкой пели...
Этот шестой лагерь был лучше в плане режима, но там строго запрещали играть на инструментах, потому что это, мол, мешает другим. Были такие соображения. И всё-таки ребята тайком брали мандолину, на которой и я уже хорошо играл, и начинали петь: «Там на горі, де сонечко сяє, в полонині клекоче сурма, над ярами повстанець мандрує, надоїло прокляте життя». Боже, я и по сей день... Вот мой сын поступал в колледж и пел эту песню! Думаю, пусть через отца возродится наша УПА. Он перед комиссией пел: «В цьому пеклі проклятих катів». Его спрашивала комиссия, где он это слышал — это в июле этого года! — он сказал, что от отца. И я этим горжусь.
Что мне нравилось в этой песне? Жизнь проклятая, тяжёлая, но и отступать нельзя, иначе этого красного дьявола не победишь. И все это были украинцы. Были и такие, что в полиции служили немцам, а были и такие, как я, советские студенты. Нас было, я не ошибусь, если скажу, что где-то 22 тысячи. Эта цифра потом стала известной. Я уже потом пересчитал. Когда меня реабилитировали, я прямо говорил об этом, а сейчас я спрашивал в СБУ, так говорят, что это абсолютно точно. Из них половина была украинцев. То есть только в одном городе 11 000 — вот кто строил им «красоту Севера» и всё такое. Газеты писали о комсомольцах, которые под руководством партии... А комсомольцы там стояли с автоматами. Итак, там было как минимум 11 тысяч украинцев. 4 тысячи женщин — не только украинок, а всех — литовок, русских, эстонок, грузинок. Вы только подумайте — в четвёртом лагере 4 тысячи женщин. Там все были: и грузинки, и эстонки…
На втором месте — Литва. Подумайте: украинцев было где-то миллионов 30 на то время, а то и 40. А литовцев — три миллиона. И литовцы по количеству занимали второе место! Я вам безошибочно скажу: их было полно! Это же только в лагерях — а сколько было вывезено? Это в то время, когда «Литва пела, процветала, строила социализм». Потом шли латыши, эстонцы, немцы. Сколько было немцев, не скажу, но из всех иностранцев немцев было больше всего, по разным причинам.
Но что было самое страшное насчёт немцев, румын и венгров — что они были гражданами своих государств, и судили их как граждан тех так называемых демократических республик, но отбывать наказание их отсылали в Советский Союз. Вот он (вечная ему память, потому что я знаю, что он умер) — Хайнц Бёдигер, сам военный лётчик. Военный лётчик — какой же это преступник? Он бросал бомбы или стрелял из пулемёта — так это же все делали, потому что была война. Поскольку Восточная Германия жила значительно беднее, чем Западная, то он умудрялся переходить в Западную, как мы теперь в Польшу ходим, и перебрасывал товары. Его на границе ловят и пришивают шпионаж, дают десять лет. И присылают его в СССР. И таких было полно.
Так что больше всего сидело украинцев, потом литовцы, а из иностранцев — немцы, дальше японцы, румыны. Вот о контингенте я вам и рассказал.
Ещё одно событие, которое там со мной случилось. Я там занимался музыкой. Потом взялся английский язык изучать, и выучил так, что потом в институте перешёл на английскую кафедру. То есть там можно было не терять времени. Но в начале 1955 года, в конце марта — начале апреля меня с шахты списывают: «Плохо работаешь». Я работал на блатной работе браковщиком. Я так браковал уголь, что начальство меня списало. Шахты начали приходить в упадок, они не могли рассчитаться за лес с леспромхозом. Поэтому решили резать лес своими силами. Нас, шахтёров, таких как я, насобирали и вывезли в Лымью — это километров триста южнее, за Печору. То мы были к северу от Печоры, а это — к югу от Печоры, станция Лымья. Там всё комяцкие названия — Лымья, Пера и ещё какие-то такие. О, там я хлебнул горя — батюшки! По пояс в снегу. Пока меня нащупали и пока какую-то посылочку прислали, то пришлось! И что удивительно — два месяца я был мокрый. Сушилки были, но ты от пояса до лодыжек мокрый, на протяжении двух месяцев. Там на лесоповале были глубокие снега, а потом по лужам на волокушах лошадьми вывозили лес. И я не могу припомнить, чтобы я за эти два месяца чихнул. Вот сейчас хожу и чихаю — а там два месяца ничего. Наверное, организм привык и так мобилизован был, что если бы и хотелось чихнуть, то не получалось. Единственное, что я за эти годы приобрёл, — я нажил в шахте сухой плеврит на правый бок.
Этот леспромхоз закрылся. Приезжаем в лагерь — уже работала комиссия Президиума Верховного Совета, и вот где-то 31-го августа меня вызывают на комиссию. Что интересно и важно знать — чем было страшно «особое совещание». Если кто был осуждён обычным судом, то всё дело шло за ним. Что он сделал, что он написал, где стрелял или у кого служил, какой имел приговор — всё шло за ним. А по особому совещанию шли только выписки. Мой основной труд, за который я сидел, лежал в Москве или где-то в Киеве. А тут только выписки.
Пришла комиссия — у меня прекрасная характеристика. Мы в Лымье уже были за зоной, потому что режим всё время облегчался. Я когда-то думал бежать из тех страшных условий, а закончилось тем, что мне дали не паспорт, а такое удостоверение, с фото. С ним я уже ездил за 180 километров в Ухту, давали такую командировку на 2-3 дня. Я там что-то купил, встретился со своими зэками и вернулся. Мы уже были вне зоны, поэтому я очень связался с вольной художественной самодеятельностью и имел огромный успех. Мне дали прекрасную трудовую характеристику. Да и на лесоповале мы ишачили хорошо, потому что надо было заработать, на волю же скоро. И по той линии самодеятельности хорошая характеристика. А моего дела нет. Комиссия спрашивает, за что меня посадили. Я говорю, что писал, в том числе и против Сталина. А Сталин уже умер. Уже на XX съезде в феврале 1956 года Сталина так разобрали, что похуже моего труда, а в июне уже открыто выступили по радио с критикой культа личности Сталина. Я только криво усмехался: за что я шесть лет оттрубил — до анекдота дошло.
А их было три человека — председатель комиссии, прокурор и психолог. Психолог внимательно слушал. Когда я сказал, что писал против Сталина, то кто-то из них говорит: «Все теперь пошли на Сталина валить». Я говорю: «Нет, пожалуйста, вот у меня было такое и такое содержание, а вот мои фразы». И называю те фразы. Я их и сегодня помню, слава Богу, тем более тогда помнил. И они притихли. Только спросили: «А что это у Вас написано: „каким я был, таким я и остался“?». А тогда была популярна песня из «Кубанских казаков». «А сколько же было в вашей организации?» Говорю: «Два человека». Тут уж психолог не выдержал и рассмеялся, говорит: «Вот, пожалуйста — организация. Ну, идите, Коробань Андрей». И я понял, что я прошёл. Это же 1956 год. Я на лесоповале больше года пробыл, тогда нас в июне вернули в Инту, когда леспромхоз закрылся. Нет, раньше, потому что я слушал постановление о культе уже на шахте, работая в Инте.
Выходят — «со снятием судимости». Это не реабилитация.
В.В.Овсиенко: Когда вас освободили?
А.М.Коробань: Меня освободили 31 августа 1956 года, и я уже буквально через несколько дней и выехал. Приехал в Киев, а тут — чудо. Я пришёл в институт... А я страшно не хотел возвращаться в институт. Но я уже был знаком с Марией Федоряк, певицей, которая имела 25 лет заключения, выступала в Коми на сцене. Когда приезжали к нам в зону с концертами, мы с ней познакомились. Она сама из Дрогобыча. Мария Федоряк — классическая певица, у неё оперный голос. Её освободили через 6 лет по амнистии. Но она села на два года раньше и ещё в 1954 году вышла, поехала в Хабаровский край к своей матери.
Я сразу не хотел учиться. Но мама очень настояла, а потом и будущая моя жена. Мне всё опостылело — я знал, что буду бороться, что это только школа была, и не хотел даже смотреть на этот вуз, тем более педагогический. Но мама и все настояли, чтобы я закончил институт.
Когда я пришёл в пединститут, то не знал, как заикнуться — я же такой враг вчера был! Я не мог заикнуться, за что я там был, как я сидел. Когда проректор института спросил меня, что же такое, я сказал, что написал одну статью. Они понимали, что я был советским студентом, двадцать лет — какой из меня мог быть белогвардеец или контрреволюционер? Они понимали, что это что-то связано с тем режимом, и знали, что таких были тысячи. И когда я сказал, что написал одну вещь против Сталина, то он дальше даже не стал расспрашивать — говорит: «Иди пиши заявление». Я пошёл, написал. Не вдавался в подробности, а просто написал, что освободили за безосновательностью обвинения. Я стал студентом третьего курса того же факультета.
Я приехал где-то в середине сентября. А потом приехала та Федоряк Мария, которая верила мне, и 17 октября мы в Василькове расписались — началась семья. Она за УПА сидела, имела 25 лет, вышли по амнистии.
Хочу сказать, что выпускали не всех одинаково. Некоторых выпускали с каким-то паспортным режимом. Была и реабилитация, но таких было совсем мало. Немножко больше — со снятием судимости, как вот я. Это было большое достижение, оно дало мне право вернуться в институт. А были — я уже забыл, как это называлось, — с каким-то режимом, то есть ты не стопроцентные права имеешь. Освободился, мог приехать домой, но всё-таки что-то за тобой тянулось. А ещё меньше было таких, которым сокращали срок и оставили там досиживать 2-3 года. И совсем мало было таких — не знаю, какая там доля процента, — которым совсем ничего не простили. Я с ними встретился в 1970 году в Мордовии. Считайте — это 1956-й, а что такое 25 лет, если он их заработал, скажем, в 1954-м? Были такие, хоть и совсем мало. Их всех потом собрали в Мордовии. И новых судили, и меня тоже судили позже — это всё была Мордовия. Вот так я весь этот механизм рассказал — думаю, что достаточно.
В.В.Овсиенко: Да, это очень важно.
А.М.Коробань: Это точно, потому что всё это на моих глазах было. Были такие, которых потом возвращали, очень редко — вот Сорока Степан, например, который сейчас где-то там на Ровненщине. Имел 25, отсидел 10 или 10 не досидел, вышел, что-то там ляпнул, что-то там тяпнул — и заставили досиживать 15 или 5. Вот такие ещё фокусы были. И случилось это после революции осенью 1956 года. Потому что что случилось? Я же в пединституте проучился год на третьем курсе, но потом прибавили год в том институте — раз, а во-вторых, моя жена устроилась в капеллу «Думка», но не было квартиры, а должен был родиться ребёнок. А в Дрогобыче её родной дом конфискован, чудесный двухэтажный дом, потому что они были немножко богаты. И решением Верховного суда СССР или УССР этот дом вернули, но местная власть никак не отдавала, потому что там уже был целый улей тех советских людей, так что никак не могли вернуть. Значит, родной дом там. И институт, где ещё год мне добавили учиться. Это заставило меня ехать в Дрогобыч, поэтому у меня диплом Дрогобычского пединститута имени Ивана Франко, где я год учился. Я приложил энергию, в Киев ездил, чтобы всех тех выселили, только одна семья осталась и ещё долго жила, но потом по доброй воле и она ушла. И таким образом дом вернули. Жена моя долго устраивалась солисткой в Прикарпатский ансамбль. Я закончил там институт заочно. Но, поскольку я уже чувствовал большое отвращение к советским писателям — говорю это громко и могу объяснить это, — то украинскую литературу я изучать не хотел. Я вообще не хотел идти на педагогическую работу, потому что после виденного, пережитого я на это смотреть не мог. Я не мог представить, как я буду читать ученикам Головко, Тычину. Но жена снова настояла на этом. И выручил меня иностранный язык. Я пошёл в районо, там оказалось, что нужен преподаватель английского языка. Так я всю свою педпрактику — почти 10 лет — преподавал английский, немецкий и музыку и пение. Вот это меня выручило.
Но, ещё раз повторяю, я считал, что это только школа. Я всегда говорил, что мы прошли школу. Никита нас освободил, большое спасибо ему, но основы режима не изменились. Мы независимости не получили, все фокусы и все выкрутасы режима остались. И время показало, что Никита того и не собирался делать. Но хоть крестьянам сделал облегчение. Но сама должность генсека — она портила человека. Иногда приходили и неплохие люди, как вот Никита, но сама должность генсека была порочна... О национальном вопросе мы и не говорим — национальный вопрос Никита игнорировал. Я же говорю, что должность генсека была минимум на 80% порочна. Так о национальном я уже и не говорю — он договорился до того, что при коммунизме «все национальные различия должны стираться». Мы знаем, что это означало на практике и как делалось. Он решительно выступил против церкви. Я как учитель знаю, как нас, педагогов, заставляли. Но при мне дети могли колядовать — я не хочу вдаваться в подробности. А то заставляли учителей ходить по селу и разгонять вертепы. Такое было при Никите. Валили те фигуры в Западной Украине, закрывали церкви — такая была церковная линия.
Но и материально он не вырос. Дошло до того, что начались те севообороты, травополье, вырубали кусты, чтобы побольше было земли. То есть всё то, с чем я призывал бороться, всё потом подтвердилось. Мне приходилось убеждать многих людей, многих друзей. Во-первых, люди вышли из неволи надломленные. Я отсидел шесть лет, а были и те, кто отсидел десять тяжёлых лет и был морально надломлен. Во-вторых, они считали, что этот режим неизменен и неодолим никогда — так, как при немцах. Многие из тех, кто пошёл на предательство того Советского Союза, считали, что немцы пришли надолго, поэтому остаётся только приспосабливаться, а советская власть если и вернётся, то, может, через 15-20 лет. Я многих старался убеждать. И эта переписка меня подводила, хотя я уже знал конспирацию. Я всё-таки начинал действовать ещё при немцах, в сорок третьем, а потом в пятидесятых, хотя в конспирации я тогда не разбирался. И эти письма уже начали меня выдавать.
Вот я, например, писал хорошему парню, национально сознательный был, но служил в немецкой полиции. И поэт был хороший. Я писал ему в село под псевдонимами, писал на его родственников или под другой фамилией. Но ведь кругом сексоты сидели. И там заподозрили: какой-то полицай, а его столько знают. А потом выяснится, что это один и тот же пишет.
Я написал первый труд по социологии, а с 1957 года начал писать историю Украины. Называлась «К вопросу о национальной независимости Украины». Я просидел три года над этим произведением. Перелопатил Грушевского. Хочу сказать, что в академических библиотеках Грушевский был, иногда и Донцова можно было взять, но надо было туда пройти. Вот видите, что значит диплом. Спасибо маме и моей жене. Потому что я хотел идти рабочим. Но когда приходишь в библиотеку с дипломом педагога, то пожалуйста. А попробуй простым рабочим! Я проникал в такие вещи, о которых потом ещё расскажу. Кроме того, я попал в западные области... Ещё раз повторяю, что бывает человек отсидит 25 лет — и зачем оно мне? Я завязал переписку только с пятью. В Западной Украине я понаходил такое, чего здесь никогда не нашёл бы. На чердаках мне люди находили Винниченко. У меня до сих пор лежит его «Возрождение нации». Так что всё складывалось к тому, что я должен был бороться.
Но беда, что некоторые друзья, а главное — моя жена... Она только что родила и сказала: «Только через мой труп». Она уже устроилась в ансамбль... Я не хочу вдаваться в детали, но она в какой-то мере стала мешать мне в этой борьбе. Она оставалась патриоткой Украины, но я не мог увязать патриотизм с карьеризмом. Поэтому я должен был её оставить и переехал на Киевщину.
В.В.Овсиенко: Когда Вы переехали?
А.М.Коробань: В 1959 году. Но что, такой-сякой, сделал — я заманил с собой одну молодую девочку, мою ученицу вечерней школы, Звир Ольгу Яковлевну. Она согласилась стать машинисткой. Я приехал на Киевщину в Бородянский район — это было осенью 1959 года. Я уже мог работать учителем — немецкий язык, английский плюс музыка и пение — всё в порядке, советский учитель. Но у меня дома была прекрасная немецкая машинка «Эрика», обитый ватой ящик, чтобы ни звука не было слышно. Я писал, а она печатала. Мы дошли до того, что устроились на квартире у матери третьего секретаря райкома партии. Знаете, там не так легко было с теми квартирами, то одно, то другое. Есть село Дружное, Бородянский район, там я преподавал, а в Клавдиево мы поселились. Вот тут через дверь мать третьего секретаря райкома партии, а вот тут она печатает. Я эту работу закончил. Три года над ней сидел — «К вопросу о национальной независимости Украины».
Я очень большое внимание уделил Киевской Руси, её языку, потому что Советский Союз был окутан этой братской дурацкой антинаучной теорией, что три народа пошли из одной колыбели, были какие-то русичи, какой-то такой себе нейтральный русский народ. Это глупо, даже такие русские, как, например, Николай Погодин, не могли согласиться с той глупостью, потому что как это вдруг возникла такая большая разница? За каких-то 100-200-300 лет не могла возникнуть такая разница. Даже Белинский признавал разницу между типичным русским и типичным украинцем. Погодин признал, что такого не могло случиться, так он извращал, говорил, что мы пришли откуда-то из-за Карпат. Вот это мне надо было показать. Эта работа выявляла фундамент нашей нации.
И вот 8 декабря 1960 года среди бела дня появляется «бобик», меня забирают прямо из школы. Это село Дружное, Бородянский район. Приехали на «бобике» прямо под школу, а у меня был урок английского языка, да ещё и контрольная шла. Выхожу с урока, вижу — стоит «бобик» и они идут. Такие в гражданских пальто, где-то их было три или четыре человека плюс шофёр. Один наш земляк васильковский — Нероденко Василий Васильевич, один — обязательно русский и ещё один — да, их трое было и шофёр. Обязательно один русский, он осуществляет контроль. Чистый русский, видно за километр. А украинцев тоже видно за километр. Сразу подходят ко мне: «Вы знаете, кто мы такие?» — «Нет, не догадываюсь». Вынимает документы — КГБ. «Придётся Вас побеспокоить». Я говорю: «Так у меня урок, я пойду отпущу учеников». — «В общем, нежелательно». — «Так как же так? Урок же идёт». — «Хорошо, идите заканчивайте урок». Я пошёл на урок. Надо отдать должное: всё-таки это уже не сталинские времена, придерживались этикета — ни один кагэбэшник на урок не полез. Привезли инспектора районо. И попробуй ты за пол-урока что-то детям сказать, когда тут сидит инспектор районо, которого я знаю.
Тогда этот русский мне заявил: «Говорите, Андрей Михайлович, что у вас есть нелегального». Говорю: «А ничего!»
А был у меня Шабан Евгений, с которым я заканчивал в Дрогобыче пединститут и считал, что это будет мой большой друг и помощник. Он мне некоторые подпольные книжки доставал, приезжал сюда на Киевщину. Но когда его взяли за задницу, грубо выражаясь, то у него, как и у многих, извините, зад оказался очень слабеньким. Он сразу сдался, сразу. А какая глупость была? Вот он приезжает к нам. В комнате эта девушка (она потом стала моей женой), он и я. Говорит: «А ну, какие вы подпольщики — где мы прячем нашу подпольную литературу?» А мы жили в маленькой комнате в селе у хозяев. Искал-искал, но не нашёл. «Ха-ха! А вот, за картиной — вынимаем картину и раскрываем. Прямо за подкладкой — попробуй ты догадаться! Там доска, а потом сзади идёт фанера — так вот за той фанерой. Вот оно!»
А теперь приходят эти друзья: «Что у вас есть?» — «Ничего нет». И они сразу берут эту картину и вынимают, берут зеркало — и вынимают. Вот вам и Шабан-патриот!
Единственное, что они не нашли — это этажерочка, слепленная мной. Всё гладко, никто не мог бы поверить, что под той этажерочкой была статья «Язык Киевской Руси». Это очень ценный, большой, сложный труд. А всё остальное позабирали. Везут меня в Киев, и её везут, эту же девушку. Я сказал, что она моя жена, мы ещё не расписаны, а всё печатал я.
И что вы думаете — либеральные времена! Правда, они со мной морочились почти целую ночь. Было и такое, что тот русский взял линейку: «Ну, говно ты такое!» Взял линейку и так ею по столу: «Ну, говно такое, ты будешь признаваться, в конце концов, или нет?» Вот это был единственный отрывок старых времён. А так — это уже не то. Они даже такое говорили: «Вот что тебя заставляло, сегодня с этой политикой так, а послезавтра иначе». У них чувствовался определённый слом. Это были уже не те ястребы. «И такая молодая жена — да если бы у меня была такая молодая жена, я бы жил вот так!» Но закончилось тем, что меня отпустили. Я говорю, что это был ультралиберальный период — начало декабря 1962 года, когда Никита ещё был в зените — это ещё далеко до 1964 года, когда он закончился. Никита был в зените, он поклялся перед миром, что, не дай Бог, «всё, никаких политических». Это было что-то исключительное, чтобы после такого разоблачения меня отпустили...
Мне сказали, что отпустят, но при условии, что я напишу такое обещание, что больше политикой никогда заниматься не буду. Тогда я могу вернуться на работу. Но чтобы у них лежал такой документ. Я коротко описал, что к чему. Они забрали этот мой труд. Я говорил, что поступаю в аспирантуру по литературе, а готовясь к аспирантуре, немного свернул не туда — читал Грушевского, ещё что-то. И девушка что-то там писала, но ничего такого…
Но что они делают дальше? Я не знаю, то ли я уже так вырос в их глазах, то ли это была какая-то их психологическая процедура, потому что после этого они меня везут в областное КГБ, к генералу Тихонову. Он в полной генеральской форме явился передо мной в большом кабинете. И 3-4 высоких кагэбэшника. Это всё было на Розы Люксембург — не на Владимирской. Там было областное управление КГБ. Ещё в пятидесятых годах там полно сидело. 3-4 высоких кагэбэшника, все в гражданском, и одного взяли якобы для экспертизы или для дискуссии — профессор из университета. Это же новая история, и я выступаю перед ними как человек науки. Генерал, прекрасно зная, что я всё-таки не примирюсь, вызвал моего отца. Вошёл мой отец, приехал из Крыма в командировку... Он уже вернулся, отсидев девять с хвостиком лет, его уже к тому времени реабилитировал Одесский военный округ. Он приезжает в командировку, его берут за шиворот и тащат в МГБ. Отец: «Что такое?» — «Да вот, сынок Ваш шутит». Отец, когда уже меня выпустили, говорил: «Ну что ты себе думаешь?» Но я знал, что не примирюсь, мне надо выиграть момент, а что там будет и как там будет — посмотрим. Я секунду подумал, успокоился и понял, что сейчас мне надо смотреть в глаза генералу и сказать: «Всё, не буду». И они меня выпустили. Я выхожу, а мне говорят: «Мамаша просит. Вот что вы за человек!»
Я начинаю поступать в аспирантуру, то есть продолжаю игру на полном серьёзе. Я не поступил, потому что слабенько подготовился. Украинский — слабенько, марксизм — на пятёрку. Но у них уже была своя кандидатура. Вы знаете, как это делается — они подтасовали и по марксизму поставили «четыре». Немецкий я блестяще сдал, что они даже не опомнились, как поставили «пятёрку». Но я не прошёл. Но я сделал такой ход конём. Я ездил к ним — раз не посадили, так отдайте же мне те бумажки, записи. «Ваше произведение, ваш труд не дадим». И всё. «А раз вы поступаете в аспирантуру, то мы вам можем вернуть некоторые ваши конспекты». Пересмотрели — там Плеханов был, ещё что-то.
Я уже устал жить в селе, где, как один дядька говорил, как в 1938 году пришли средь бела дня и забрали учителя. Так знаете, какой фейерверк! Я говорю, что буду во Львове поступать в аспирантуру, раз я здесь не прошёл. «Ну, так езжайте». Я знал, что и там уже всё обложено. Единственное, почему я пошёл — там же недалеко та моя жена с ребёнком, хотел встретиться. Но мне надо было выиграть время. Там в Дружне был хороший дядя Кваша, у которого я жил на квартире. Приходит в один прекрасный день и говорит: «Детки, может у вас есть что-то такое, то спрячьте». А через некоторое время приходит: «Ну, детки, вы же спрятали? Может, у вас водочка какая-то есть, вы гоните, так дайте я лучше спрячу». Выпить, наверное, хотел.
Только потом дядька сказал: приходили — и: отпирай комнату. Так что пока меня взяли в декабре, то они уже всё перерыли и всё сфотографировали — и машинку, и то, что я писал. Вот вам и чужой человек. Спасибо за то, что намекнул, и мы два месяца прятались, но сколько же можно? И тогда нас накрыли. Это всё осень 1960 года — до ареста. А потом один признался с усмешечкой: «А вы меня не видели?» Это уполномоченный нашего района. Говорю: «Нет». — «Ну то, видно, я неплохо работал». То есть ходил, сукин сын, где-то там по селу шатался, и заставлял этого дядьку... Теперь я сообразил: стоп, я же таки снова стану на путь борьбы. Но уже поеду к тестю. Ещё он не был мне тестем, отец этой девушки, но он меня полюбил. Думаю: тестя вы уже не заставите отпереть комнату.
С 1961 по 1965 год — это у меня как у Пушкина была такая продуктивная Болдинская осень. Во-первых, я притих. Во-вторых, в 1961 году я поступил в селе Броница в школу на работу преподавателем немецкого и английского. А учитель музыки и пения там был свой постоянный. Но я и рисование там преподавал два года, потому что я это могу. Кстати, я же и портреты делал — Верхоляка, Семенюка, Ивана Кандыбы, Николая Коца, ещё с лагеря, потихоньку. В школе я работаю эти четыре года на полную отдачу. Я действительно увлекался работой. Немецкий и английский, и танцы, и спортсмен я был неплохой — так я действительно всё детям отдавал. Я так работал! Кроме того, это послужило хорошей ширмой. А ещё я поступаю в аспирантуру, по крайней мере делаю вид, что поступаю — ездил во Львов, был там такой Бурячок… И по конспектам, которые у меня сохранились и которые мне вернули, по труду «Язык Киевской Руси», который они не нашли, я реставрирую труд «К вопросу о национальной независимости». Только тогда он был большой, что-то страниц на четыреста, а я восстанавливаю где-то страниц на триста.
Дальше, я сажусь и пишу большой очерк «Шевченко и Украина», где пишу, что хотя Шевченко ставят памятники, но с советской точки зрения он был бы ультрабандеровец, потому что он если сомневался там насчёт Бога, в некоторых социальных вопросах, но что он постоянно оставался патриотом — тут я могу привести его переписку, дневники и так далее.
Написав этот труд, сажусь за основной экономический труд, который имел такое название: «Основы марксизма и сущность большевизма». Тут я вернулся к тому, с чего начал — к социологии и экономике. Потому что все мы, украинцы, немного романтики — нас больше интересует история, литература, писатели, казачество, но экономикой мы, к сожалению, мало интересуемся. Я это понимал и ездил по тем сёлам, которые хвалила советская пресса, что там у них успех — а я ездил и видел, что там совсем не так, как они врали. Ездил в горы. Нашёл село возле Скалы Довбуша — забыл сейчас название — изучал, как там живут. Я вот год писал, но не закончил. Но немножко уточнил Дзюбу.
Но что меня губило — что и эта вторая жена, Звир Ольга, говорила: у тебя вот есть такие знания, у тебя такая голова (с женской точки зрения) — не лезь в ту борьбу! Занимайся наукой — время придёт. Она добилась, что ей пообещали квартиру в Трускавце, прописку, — а меня всё время подмывала живая борьба. Кроме науки — борьба: вот партию организовать — в приговоре это есть. И это меня в конечном итоге погубило. Я много ездил, переписывался, а труды о Шевченко, об Украине закопал в землю у своего тестя.
В 1966 году я в последний раз устроился работать — в Великой Бугаевке, немецкий язык и музыка и пение.
В.В.Овсиенко: Это где?
А.М.Коробань: Это уже Киевщина, недалеко от Василькова. Я понял, что такое Донбасс, и в 1966 году я бросаю свою учительскую работу (я неплохо работал, за меня директор держался, как вошь за тулуп), оставляю школу и еду в Донбасс. Это август 1966 года. Устраиваюсь носильщиком-откатчиком в шахтоуправлении имени Кирова, посёлок Ханжонково — это недалеко от Макеевки. Там крутопадающие пласты. Там я несколько месяцев, лазая на четвереньках, изучал не только шахтёрский труд, но и социальные, политические, национальные вопросы. Я был среди шахтёров и видел, как их обманывают. Но ведь шахтёрами были не только украинцы. Подходит такой русский-шахтёр (мы так возле вагонки стоим): «О, это что за какой-то тёмный колхозник или какой-то бандёра?» И он мучился в шахте, но его сделали для меня врагом, я для него «бандёра». Я и теперь им говорю: «Ребята, чего же вы тогда молчали? Все язвы, которые мы сейчас имеем, начинались тогда». — «Ну, тогда немножко было лучше. И боялись».
Я несколько месяцев там поработал, написал и о них. Должен был уже окончательно распрощаться с Западом и переехал в Киев. Устроился сначала заведующим клубом. Ага, вот что важно — КГБ шахтёрского края уже что-то заподозрило. Что я туда ездил, то родня, то квартира — это ещё так-сяк, но раз я уже покинул школу и попросился в шахту, то они с осени 1966 года начали за мной следить. Милиция вызывает: «А кто? Ну, вроде женат. А как у вас с алиментами?». Но поскольку у меня уже был огромный опыт, то им понадобилось ещё три года. А ещё перед шахтой, в 1965 году, я объехал всю Прибалтику. Вот в Жуляны — начал с Литвы и закончил Ленинградом, но ещё оставался вне их внимания. А после шахты я устроился заведующим клубом — там недалеко есть село Петрушки. Тут я написал труд «Пропаганда и агитация в системе русского псевдосоциализма, или просто большевизма» и начал писать программный труд — уже для партии, преамбулу. Национальный вопрос там тоже был.
А потом я сумел переехать в Киев — это долго рассказывать. Даже квартиру нашёл и устроился работать переводчиком — ну, немножечко по протекции моего дяди. У меня родственники были, два дяди — члены партии, один из них подполковник, преподавал в танковом училище, а второй был секретарь Украинского филиала Всесоюзного Общества рационализаторов и изобретателей. И не просто секретарь — это второе лицо после председателя. Он мне подсказал про это бюро. А до того я работал формовщиком в литейном цеху на «Ленкузне», был с рабочим классом. А тогда устроился переводчиком. Хватило всего одного слова по протекции, я пришёл, и мне сразу дали переводить.
Я был успешным переводчиком. В моей жизни было два момента, когда я делал какие-то успехи, в отношении которых можно было поверить в какую-то небесную силу. Вот приехала делегация из ГДР, 6 человек, по подъёму сельского хозяйства — это вечная морока. А это бюро занималось механизацией животноводческих ферм на уровне Европы. Мы пробовали догонять. Я уже несколько лет не работал учителем, а поработал три месяца в совершенно чужой отрасли — животноводческие фермы — и у меня получилось блестяще. Начальник Ткачук сердится, говорит: «В сентябре мы с ответным визитом поедем в Германию и возьмём тебя». Тут я скажу, что взять меня — это обошлось бы в три раза дешевле, чем нанять переводчика.
Но 3 сентября находят мои работы у Евгения Пронюка.
В.В.Овсиенко: 1969 года?
А.М.Коробань: Да. Мы с Пронюком уже познакомились и партию планировали. Программу я писал, в основном.
В.Кипиани: А как называлась партия?
А.М.Коробань: Она должна была называться — я пошёл по традициям — «Национально-освободительная партия пролетариата Украины». Пролетариата — это обязательно. Хотя некоторые и сомневались насчёт пролетариата, говорили, что основное — интеллигенция, но я говорил, что без рабочего класса мы ничего не сделаем — я стоял на этом и стоять буду. Я и сегодня так говорю: пока мы не возьмём шахтёров Червонограда, до тех пор ничего не выйдет. Теперь уже депутат Черняк правильно говорит, примерно так же и я. Рабочий или не может, или уж как возьмётся, то держится. Я писал программный документ, дал Пронюку, чтобы это был своего рода коллективный труд. У него был маленький опыт отношений с КГБ, но всё-таки не та школа, что у меня. Он дотянул до того, что в Институте философии, где он работал, его заподозрили. Надо было это сделать за месяц-два, а он чуть ли не год рыщет. А когда он поехал в отпуск, то там нашли, прочитали. А они уже видели, что я к нему приходил, за мной тоже следили. А потом подсунули и будто ненароком обнаружили. Знаете, как это делается, когда перебирают книги: «О, а что это такое?» Так как вот у меня с тем пальто: «Что это такое?»
В.В.Овсиенко: Так это у него на работе обнаружили?
А.М.Коробань: На работе. Он меня предупредил через одного человека — там была такая хорошая девушка, Людмила Завийская. Я специально устроил её туда, чтобы иметь связь. Секретаршей там работала. Она принесла мне записку от Пронюка: «Половину Вашим почерком, а половину моим». И я сразу сбежал в Васильков. А они и туда прилетают за мной. Я прыгаю с крыши и убегаю. Они меня поймать не смогли — вот вам большой опыт подпольщика. Вот так иду по Киеву — идёт молодой человек. Таких миллион. В зелёном костюме, пиджачок вот так, идёт себе куда-то под вечер, на свидание, в кино или в театр. Таких миллионы. Я поворачиваю налево, будто в больницу мне надо — он идёт. Я поворачиваю налево и ещё на него смотрю — он отворачивает голову. Всё! Он, конец. Как он ни крутился, как ни вертелся — уже ничего не вышло. Они меняться начали. Но я уже не пошёл на подпольную квартиру к Головченко. Убегаю возле метро «Большевик» — там были большие заросли бурьяна, я в те заросли. А они сюда-туда — нету.
В.В.Овсиенко: А как всё-таки они Вас арестовали?
А.М.Коробань: Арестовали просто. В Василькове я сбежал. Я ещё встретился с Иваном Дзюбой. Через эту Завийскую Любу передал Пронюку список своих произведений: что я написал, на сколько страниц. Он дал тот список Дзюбе, а тот Гончару Ивану. И один из тех списков со временем попал в КГБ. Это дало им ключ, они стали искать произведения. Один назывался «Основы марксизма». Его не нашли, но о нём допрашивали меня. Говорю, что я его переделал, я использовал его для преамбулы программы, а чтобы не иметь лишнего, то я его сжёг. И они с этим соглашаются.
Я восемь дней прятался, убегал, они не могли меня нигде поймать. Был такой эпизод, что я сажусь в электричку, и он садится. Гражданский, простой, даже в рабочей одежде. Я не иду в электричку сразу, а выдерживаю, пока все сядут, и того держу под присмотром, кого заподозрил. Двери уже должны закрываться. И он в это время посмотрел на меня. Он сел, а я уже не сел.
У меня уже был бинокль, деньги, адрес где-то на Тянь-Шане… Но за эти восемь дней, пока я прятался, я ещё одно произведение написал, но никому не отдал, потому что уже не виделся ни с Дзюбой, ни с кем. Этого произведения не было в том списке.
Но на меня уже начали давить, чтобы я сдался. Дзюба в том числе. Тем временем нашли оснастку для печатной машинки, потому что мы собирались делать печатную машинку. Сумели украсть шрифт. Понимаете, у меня была банка шрифта!
Я уже к тому времени женился, маленький ребёнок был. Жена расплакалась, её родственник, Митчин Василий: «Ты негодяй, да у тебя же и жена, и семья — иди и покайся!» У нас и револьвер был. Хозяин его — Олекса Миколишин из Вишнёвого. Кольт-радом, польской марки. Этот Митчин Василий специально приезжал из Дрогобыча в Вишнёвое, как мастер, чтобы починить его. Что-то там немножко заедало. Он забирал револьвер в Дрогобыч и починил. Я его отдал Миколишину. Оружие для подпольной работы — это святое дело… Я не хозяин того револьвера, я только привёз его и отдал. А они считают, что у меня есть пистолет. И меня окружает целая команда в Бабьем Яру. Вижу, милиция, кагэбэшники, там машина, там на мотоциклах... Я их сразу узнал. Идёт молодой человек, такой как и все, ждёт троллейбуса. Я иду и на него не оглядываюсь. Раз оглянулся, второй оглянулся, а на третий раз я уже вижу, что он машет кому-то рукой — мол, перехватывай, потому что мы пошли туда с той Людой — перехватывай. А, перехватывай? Я — раз! — и в кусты. Они крутились-вертелись, а я спокойно с другого конца Бабьего Яра вышел и снова сбежал.
Но под давлением всех — да и сам думаю: «Ну где ж ты их перехитришь?» — я одиннадцатого числа сам пришёл. 11 сентября. С третьего числа, когда Пронюк мне сообщил, восемь дней за мной гонялись. Я мог бы куда-то уехать. Но я пришёл, потому что Дзюба и все остальные настояли.
В.В.Овсиенко: А куда Вы пришли?
А.М.Коробань: А пришёл на Розы Люксембург. Там уже тюрьмы не было, но было...
В.В.Овсиенко: Областное управление КГБ.
А.М.Коробань: Следователи уже побывали у меня дома, в Василькове перерыли, и на этой киевской квартире, где мы жили. Они оставили мне телефон, и я по телефону веду разговор. Главный мой следователь Коваль Николай Андреевич — можете записать его историческое имя. Ведём торг. Он говорит: «Да Андрей Михайлович, ничего вам не будет, да приходите». Я говорю: «Да позвольте, я ещё подумаю немножко, у меня ещё есть сомнения. Я вам завтра скажу». Завтра снова звоню — «Ну, Андрей Михайлович, ну вы просто издеваетесь надо мной. Ну давайте, ну что вы, ну поговорим». Я говорю: «Николай Андреевич! А может у меня какое-то наследство есть?» А я же написал этот последний труд и вызвал братьев Головченко — один был Владимир, а второй, уже забыл как, — аж из Тростянца. Он приехал, в кустах сидел там, где детская железная дорога, я ему отдал этот труд, написанный за эти восемь дней. Когда я всё это сделал, тогда оделся красиво, в костюм, и являюсь к Николаю Андреевичу Ковалю.
В.Кипиани: Это одиннадцатого...
А.М.Коробань: 11 сентября 1969 года. Вот такое моё путешествие в Германию, которое в бюро обещали. Как только я пришёл, он начал мне что-то вяло-вяло говорить: «Что вас волнует, что-то волнует...» Мялся, мялся, а потом говорит: «Знаете, Андрей Михайлович, у меня есть сведения, что у вас есть оружие. Позвольте вас обыскать». О!
Суд был в конце мая, это уже семидесятого года. Представляете, восемь месяцев следствия! Я пришёл 11 сентября — без нескольких дней 8 месяцев. 66 допросов, более 20 всевозможных следственных процедур, 6 очных ставок. Для экспертиз я писал на украинском языке, на русском, на машинке печатал, какие-то морды должен был узнавать... Такая тягомотина. Следователь выходил из себя. Я не набиваю себе цену, как это некоторые зэки делают. Мне хватит и того, что пережил. Сталинский тюремный режим не давал спать. Не дай Бог, если где-то вот так склонишься. Часто ночью вызывали — это было обычно. Отец говорил, что его так измучили, что он подписал и за националистов, и то, что и не снилось — потому что его довели до того, что он готов был и смертный приговор подписать, лишь бы только дали поспать.
Меня во время первого следствия несколько раз вызывали ночью, но это не было так тяжело, потому что там дело было копеечное — только один труд, но никакого подполья, борьбы — нас было только два человека и всё было в зачаточном состоянии.
Второе — физзарядку не разрешали делать, прогулок было мало, минут по двадцать, не больше. А передачи разрешались. Когда увидели, что много людей в центре города собирается около одиннадцати тридцати, передачи запретили, стали принимать деньгами. Ничего не писать, абсолютно. Ни малейшего клочка бумаги. Ничего царапающего, хотя я находил и царапал. Ремешки снимали, пуговицы отрезали. Вот это было при Сталине.
А при этих, в 1969 году, — спи днём, хоть опухни, зарядкой я столько занимался, что надзиратели-женщины называли меня спортсменом. Писать — я исписал горы. Следователь с самого начала мне сказал: «Не можете сказать — пиши». Дал мне ручку, дал бумагу. Передачи были, ларёк. Хватало. С моей подпольнической точки зрения, я очень удивлялся, что люди, не познав всего этого, уже раскалывались. Что их пугало? Ну если бы набили морду, посадили в карцер — и не выдержал. Но тут следователь больше выходил из терпения, чем я. Следователи все аккуратные. Уже и при Сталине, когда я сел, бить не разрешалось. Разрешали как исключение и в присутствии врача. Это уже в 50-е годы, когда я сел. В карцер могли бросить — режим был, и карцер было очень просто заработать. А теперь и карцер было трудно заработать. Нас было пять или шесть человек на всю тюрьму, а раньше это были сотни. И если тогда следователь, сопляк такой, даже профессоров посылал на три буквы, то теперь уже не так: «Андрей Михайлович». Только что давили морально — что вам будет хуже, вы плохо сделаете. Иногда часы тратили на это. А я только слушал.
С моей точки зрения, непростительны эти покаяния, непростительны.
В конце мая дали мне адвоката — хуже быть не могло — Руденко Василий Иванович. Скажу честно, что я всё дело помнил, сам себя лучше защищал, чем адвокат. Я каждый пункт знал. Была у меня и «незаконная переписка». Какие это могут быть незаконные методы переписки? И это пришлось опровергать — использование чужих фамилий. Я, скажем, прохожу в общежитие Донецкого пединститута, там вот такие маленькие ниши по алфавиту, где лежат письма студентам. Вот я прихожу и беру своё письмо. На такую-то букву. Это трудно было мне инкриминировать, хотя и старались. Но там главное было не это, а люди — что «он использовал мою фамилию».
Это мне было непонятно. А самое страшное — когда «валят» внаглую да ещё и стараются близких людей подставить, чтобы себя спасти. Когда родственников, любимых людей хотят подставить вместо себя — это вызывает такое возмущение, что следователь уже тебе становится ближе, чем твои вчерашние коллеги. А следователь в таком случае уже так старается! Когда человек попадает в неволю, то он психологически подавлен, переживает и думает, что у него единственная радость — друзья. Вот они-то спасут меня. А когда друзья оказываются такими брутами, так нагло тебя выдают, то в душе происходит переворот, друзья уже становятся страшными врагами, а следователь чуть ли не другом — уже приходишь и хочешь ему сказать: «Николай Андреевич, а на самом-то деле было не так! Ах, они мерзавцы, ах они негодяи! Было вон как!» Тут-то и начинается сыпаться — так сыпались целые подпольные конгломерации. Я это понял. Я в камере читал «Двадцать лет спустя» — хорошая книжка. Я не мог читать — через каждые десять минут вставал, у меня пот выступал на ладонях, но я сказал: «Нет, не могу я мстить, иначе я и себе отомщу. Вот выйду на волю — плюну в морду!» Ну, приходил — и не плевал.
В.В.Овсиенко: Значит, приговор был первого июня?
А.М.Коробань: Да, 1 июня 1970 года. Таким образом, я и себя выручил, что заработал шесть лет и три — ссылки, и выручил всех. Во всяком случае, при брежневском режиме на предательство я не пошёл и ни на кого не плюнул, хотя некоторые стали большими чинами. Одному только Головченко я признался. Он руховец. Я ему говорю: «Вы меня не узнаёте?» — «У меня плохая память». — «Ну, я же такой-то и такой-то. А вот я на Вашем месте и не признавался бы, потому что у меня было бы три года, а благодаря Вам я получил шесть». И всё. И он уже где-то исчез. Вот единственное, что было.
Вообще у меня была такая привычка. Если оказывались предатели или какие-то там запроданцы — я уже с ними никогда не встречался, разве что случайно.
Ага, что у меня ещё случилось — не хочу я называть этого человека. Ой-ой-ой, это я снова свидетельствую больше в честь следователей, чем нашего брата. Уже меня осудили, я уже срок получил — но ведь тянется дело с револьвером. Тот же выдал. Я всё по политической линии спас. Но остался револьвер, а у этого чудака ещё есть парабеллум. И вот я жду как свидетель уже — я же возил револьвер. Я против того, что мне пришили, очень протестовал. «Ну вы же имели пистолет! Ну перевезли, это не ваш — но ведь вы везли из Дрогобыча в Жуляны тот пистолет». — «Так это же не мой, я отдал хозяину, да и будьте здоровы». — «А надо было прийти к нам». Вот вам и братцы, и у меня тоже 222-я статья...
Ждёт какой-то свидетель — и того же из Западной Украины тянут, Митчина. А дело о пистолете уже перешло в уголовное, хотя Миколишин сидит в КГБ.
В.В.Овсиенко: Где-то с год он был под следствием.
А.М.Коробань: А чего ж КГБ? Вот уже ведёт следствие Берестовский. У меня их было три — Берестовский, Коваль и Слобожанюк.
В.В.Овсиенко: Знаю Леонида Берестовского. Он моё дело 1973 года начинал. И того Слобожанюка знаю.
А.М.Коробань: Вот, видите, не совру. А председательствовал Коваль. Так вот, берёт дело Берестовский. Я радуюсь, думаю: слава Богу, ведь у меня один капитальный труд, этот по экономике — «Марксизм и сущность большевизма», — он остался на свободе. Ну, понимаете, если у художника неудачная картинка — порви и сожги. Но ведь это труд, над которым я долго сидел, может, всю жизнь посвятил. Если тот труд прочитать, то и тогда было ясно, что та система идёт к гибели, как бы она ни крутилась, потому что экономические условия такие, что она должна отмирать.
И вдруг он меня вызывает и говорит: «Вы знаете, этот труд, что Вы так прятали, — его нашли пионеры в Жулянах. Нашли под корчем закопанным». Нашли пионеры-следопыты, принесли директору школы, из школы он попал куда-то в Святошино, а из Святошино в КГБ. Я говорю Берестовскому: «Не может быть. Вы меня берёте на пушку». А он приносит и кладёт мне на стол — мой труд. Он из двух частей состоял. В первой части я проанализировал основы марксизма, потому что я, может, наивно, но в кое-что верил. Хотя я считаю, что настоящий политик-профессионал никогда ничего не отбросит. Марксизм? Позвольте, я его сначала изучу. Я найду там что-то даже смешное, а кое-что и полезное, которое и по сей день ещё живёт и что-то даёт нам. Во всяком случае, Маркс и Энгельс — об этом, может, и Симоненко не знает, — столько сказали против России и против русских… Чего только стоит его труд «Внешняя политика русского царизма». А «Традиционная политика русского царизма»? А вот лежит в Академии и не печатается в полном собрании его «Секретная дипломатия XVIII века». Он же там Петра I разбил в пух и прах.
Первая часть моя была с анализом марксизма. Она к ним не попала и до сих пор. А вторая часть — это уже о Советском Союзе. Когда он принёс, я не знаю, что со мной случилось. Я впал в такой раж, что я ему перевернул весь кабинет, этому Берестовскому — так я был ошеломлён, что тот столик, прикованный железяками, оказался у меня в руках. Я ещё такой сильный был тогда, да ещё и азарт, экстаз. Я отбросил тот столик, перевернул там всё. Тот бедный Берестовский так за голову схватился, сигналом вызвал прапорщиков. Прапорщики отвели меня — не в карцер. Только живот у меня разболелся от нервов.
И что? Он приписывал этот труд Миколишину, что мы его писали вместе. И если бы не я, то Миколишин пошёл бы по 62-й статье. Мы действительно обсуждали какие-то идеи, в чём он признался на очной ставке. Тогда вызвали того главного следователя Коваля, который уже отошёл от дела. Коваль так посмотрел на Берестовского… Вышла такая трагикомедия, и Миколишин пошёл только по статье 222, «хранение оружия».
Так что, видите, следствие было тяжёлое, сложное и должно было бы отбить охоту навсегда, а всё-таки вера и желание независимости остались.
Меня привозили на суд, Митчин приезжал, я сколько мог смягчил дело Миколишину (он там какую-то ерунду отсидел, и на том дело закончилось). А меня уже повезли туда.
В.В.Овсиенко: Куда?
А.М.Коробань: В 19-й лагерь, Мордовия.
В.В.Овсиенко: И я там был.
А.М.Коробань: Помню, когда я туда прибыл. Я приехал туда где-то числа девятого — помню, среда была, — 9 сентября, уже 1970 года. 11 сентября 1969 посадили, а 9 сентября 1970 года, в среду, как помню, привезли меня на 19-й.
Как услышали зэки, что приехал киевский, что второй раз, так начали бежать ко мне. Одни — чтобы поддержать, другие — чтобы доносить. Такие, как Иван Покровский из УПА — пришли и предостерегли. Да если я уж приехал из Киева, чёрт возьми, дал прочитать свой приговор, то они за голову хватались: «Боже, какой у Вас приговор — Вам ещё и мало дали». Раз я уж такой, то скажи: того и того остерегайся. А потом приходит тот, который доносит, и то же самое начинает. Они меня дезориентировали, что я уже не знал, на кого ориентироваться. Но в конечном итоге всё прояснилось. Я говорю: ребята, я уже прошёл большую школу, учить меня уже сильно не надо.
В.В.Овсиенко: А с кем Вы там общались?
А.М.Коробань: Там были, например, Якубяк Василий, который вот умер — из УПА, 25-летник. Мирослав Симчич. Кидюк, также из повстанцев, Сорока Степан. Зеленчук — это из тех, что покаялись. Козачок — это тоже из тех, что покаялись. Но я им говорил: ребята, послушайте сюда — вы герои, если смогли столько отсидеть, когда раскаялись негодяи со сроками 3-4-5 лет. А вы отсидели 25 — так какое же может быть сравнение? Я говорю: на каждой вашей хате надо большую мемориальную доску повесить, что здесь жил такой-то. Но ведь, говорю, вы меня очень дёргаете, а я политик, я хочу немножечко познакомиться с теми людьми, которые каялись или ещё не покаялись, или каются — что их заставило, какая там биография, где он бывал. А они — не дай Бог, чтобы я так делал. Они так резко разделялись, до смешного, такие рамки ставили, что ты не должен с теми общаться. Это когда я уже сел во второй раз. Потому что первый раз я всё-таки был пацан, грубо говоря, и много чего пропустил. Изучал английский и всё такое, а вот о подполье и борьбе много чего не расспросил. А в этот раз я пришёл — я уже каждым делом интересовался. Я хотел узнать, как эти люди горели, почему эти каялись, а эти не каялись. Я уже много записывал, я гору тетрадей привёз из тюрьмы.
Я Зеленчуку говорил, что прощаю таким, как он. Имея 25 — есть за что покаяться. Он начинал ещё при Польше, он страдал при поляках, он при немцах страдал, он жизни не видел! А на того, что за 5-6 лет покаялся, — я на него и смотреть не хочу. Так что я не могу так враждебно смотреть, как вы друг на друга смотрите.
В.В.Овсиенко: Не всё время Вы были в этом 19-м...
А.М.Коробань: Да, а потом нас — помню, как сегодня, — 9 июля 1972 года загрузили в вагоны и трое суток по той жаре везли на Урал. Потому что вентиляция не работала, или они её специально не включали, чтобы какие-то звуки или сигналы не передавали. Так везли, что Микитюк, мой коллега ещё по 50-м годам, по Лымье — умер в дороге. Ему, как и Симчичу, вернули 25-летний срок. Мы познакомились ещё тогда, в Лымье. Жена его умерла, он своих двоих детей оставил на какую-то нашу зэковскую женщину, патриотку из УПА, а ему добавили срок и привезли в Мордовию. А потом грузят больного диабетом человека, и он где-то за Камой-рекой умирает в вагоне. Его голого вынесли из вагона, потому что жара была, и мы все голые были. Мы так мучились, что один человек и умер. А тот врач, который ехал с нами, купался в озере, сукин сын.
В.В.Овсиенко: В каком Вы лагере там были?
А.М.Коробань: Сразу нас перебросили на 35-й, станция Всехсвятская, посёлок Центральный. Там я три года был.
В.В.Овсиенко: А во Всехсвятской с кем Вы были?
А.М.Коробань: Чисто политического характера — Иван Светличный, которого привезли позже, Валера Марченко (вот жертва — Валерий Марченко), Пронюка потом привезли, Антонюк Зиновий, Кандыба. С Кандыбой мы раньше были, а теперь мы с Кандыбой были в разных лагерях. Там встретились. Гурный Роман, слесарь — пролетарий. А я его на три головы выше ставил, чем тех интеллигентов — за 15 лет сколько ему предлагали покаяться. Дяк Михаил — это из Украинского Национального Фронта. Он там раком заболел, его освободили потом. Очень мои стихи хвалил. Он ещё немножко прожил на воле, писал, чтобы я ему присылал свои стихи, мы переписывались. Он уже от политики отошёл.
Был ещё там Дяк Володька. Я сильно подозреваю, что он был... [Пан А. Коробань стучит по столу]. Понимаете меня? Есть сильное подозрение по всем данным, а главное — я ему говорю: «Володя, вот приговор...» У меня был приговор, а ещё был обвинительный акт. Обвинительный акт шире приговора, потому что я кое-что на суде отбросил. Из обвинительного акта чувствуется, что работа была шире. Говорю: «Володя, меня скоро заберут, вот я прячу акт в библиотеке за картину». Через несколько дней приходят, будто обыск делать, и достают из-за картины... Володька Дяк тогда бежит: вот, не успел спрятать, и кто бы мог подумать, что будет обыск!
Я физически был здоров, на такой работе ишачил, и знания были. Работал грузчиком — Буковский Володька некоторое время даже был начальником склада, а я его рабочим. Да я себе за принцип ставил, что никакого начальства. У меня была отдельная комнатка. Подходит Огурцов и говорит: «У вас отдельная комнатка. Когда будем работать в одну смену с Вами, мы придём». Я никогда не поверил бы: они слушали западные радиопередачи! Огурцов настолько верил мне, хоть мы с ним и не сходились в национальном вопросе, но в вопросе общедемократических реформ, в вопросах борьбы и по знанию языка — мы сходились.
А.М.Коробань: А что он говорил «передадим»?
А.М.Коробань: Что в моей комнате передачу передать на Запад.
В.В.Овсиенко: Как передать?
А.М.Коробань: Он говорит: «Это маленький аппарат — я буду говорить, а там будут записывать». Вот что! Нам там всюду заглядывали и не могли ничего найти. А он приходит и говорит: «Я зайду в вашу комнату».
В.Кипиани: Так это был какой-то радиопередатчик?
А.М.Коробань: Да, такой мизерный. Менты нам в задницы заглядывали, извините, всё переворачивали, искали даже в носках, а найти не могли. И случилась ошибка — когда Буковского забрали, то стала там завскладом какая-то вольная бабёшка, которая ушла в отпуск. А начальник цеха Азаров Николай Васильевич так меня уважал — вольный, совершенно вольный человек… Меня уважали и за внешность, и за знания, и за силу. Я там ещё в футбол играл, все мне удивлялись. Вот надзиратель Паськов нашёл у меня рубашку гражданскую — и не составил акт. Другой бы требовал, чтобы её тут сожгли или чтобы выдали квитанцию, что она есть на складе, чтобы выдали, когда я буду освобождаться. А я сказал: «К чёрту, чтобы я с вами начал нервы портить из-за какой-то никчёмной рубашки». Даже это ценили. А у нас на этом набивали себе политический капитал: устроить скандал, до прокурора довести, что вот мне рубашку не дают. Я уже этим не занимался. Я знал, что выйду на волю и снова чем-то буду заниматься, так чтобы мной меньше интересовались.
Я уже собирался выезжать за границу. А если выезжать, то мне не надо было иметь неприятностей с режимом. Я же потом на еврейке женился, но всё равно за границу меня не пустили, хотя уже всё было готово. А Кандыба вот хотел выезжать, шумел-шумел, а его посадили на прикол — и всё. Поэтому я считал, что это школа, чем лучше я их тут обдурю… Достаточно того, что меня арестовали — я уже и этого не хотел себе простить, что они всё-таки меня нашли — где-то я растяпа, грубо говоря, хоть и большой подпольщик. Так что я уже не буду так делать, чтобы какой-то сержант тут меня поймал на мелочи. Принесли Саше Назаренко поздравительную открыточку, а тот Паськов нашёл и забрал. Назаренко ударил Паськова по руке. Ударил по руке — пять суток карцера. С одной стороны, это вроде бы героизм, а с другой стороны... А у меня вот такая книжка за поясом — и никто не находит. Я их носил десятками — и не находили. Вот так вот в курточку — и никто не мог и подумать. А если бы нашёл и вытащил, то я бы уже по руке не ударил, потому что я уже не школьник. Так и за ту рубашку. И они меня за то и сами уважали.
До анекдотов доходило. Прислала мне сестра колбасу аж с Чукотки — та сестричка несчастная, которая и без отца, и без мамы. Присылает колбасу. Вызывает Лиза, которая посылки выдаёт. А с разрешения хозяина — Василий знает, что это такое, с разрешения хозяина, — так она и птичье молоко выдаст. Она меня вызывает и говорит: «Вам выслали колбаску — что же делать, Андрей?» Я говорю: «Лиза, милая, ну думайте сами, что делать». — «Ну хорошо, я вам буду давать по кусочку». Вы слышите: «давать по кусочку». — «Приходите». Я пришёл. «Только же никому не признавайтесь и не давайте!» Ну как я мог не дать Бесарабу? Бесараб, бедолага, 25 лет имеет... Ну как же я мог не дать Бесарабу, не дать ещё кому-то? Это ясно. Пришёл раз — она дала мне кусочек. Пришёл второй раз, третий раз, на четвёртый прихожу — а её нет. Где Лиза, где Лиза — нет Лизы. Так тот четвёртый кусочек и пропал, заплесневел. Встречаю её потом: «Коробань, почему же Вы не пришли за тем четвёртым кусочком — Вы что, забыли?» Говорю: «Лиза милая, это Вы забыли». Вот такие анекдотические моменты, которые дополняли картину нашей жизни.
Пришёл завскладом и говорит: «Андрей Михайлович, Вы помогли даже этой дуре разобраться в документации. А с этими тачками Вы так гоняете, что я не знаю. Побудьте начальником склада, пока она будет в отпуске». Вот за две отсидки я был за месяц до освобождения каким-то завскладом. Меня переводят на дневную смену, только в светлый день, когда полно надзирателей. И в это время приходит ко мне Огурцов — ну буквально накануне. Я говорю: «Где же вы были — я столько там работал, больше года, а завтра я уже не могу, как бы я ни хотел». А днём нельзя.
В.В.Овсиенко: А какую Вы там работу делали?
А.М.Коробань: Там был серьёзный завод, который производил метчики, фрезы. Сначала мы делали какие-то там цепи для сельскохозяйственных машин, а потом это закрыли. А я был, в основном, грузчиком, потому что я был невнимательным, я палец себе разбил, потому что думал только о науках.
В.В.Овсиенко: У станка надо быть внимательным.
А.М.Коробань: Да, а мне как упал патрон на палец, то после этого я пришёл в себя и стал грузчиком. Тут я моментально всё гонял, тут у меня на некоторое время была комнатка, где я мог сидеть. Вот почему Буковский погорел? Никаких сборищ, никаких чаепитий. Если кого-то надо, я сам позову. Приходил Огурцов, приходил и Паськов, приходили другие. А этот парень погорел на чём? Потому что собирается целая компания на чаепитие. Тогда выгоняли — и ставили стукача. А ко мне пришёл Огурцов: мы будем передавать. Так надо же было хоть неделю назад...
А когда я вышел, то сделал ставку только на выезд — я знал, что я с этим строем не примирюсь.
В.В.Овсиенко: Интересно, как Вас освобождали — прямо оттуда или завезли куда-то?
А.М.Коробань: А сначала был долгий этап в Сибирь.
В.В.Овсиенко: Ссылка?
А.М.Коробань: Да, ещё три года — я прошёл Свердловск, Новосибирск, Томск...
В.В.Овсиенко: А когда Вас взяли на этап?
А.М.Коробань: Дёрнули меня 5 сентября 1975 года. Меня посадили в 1969-м, плюс шесть лет — в 1975-м. И ещё плюс три года ссылки.
Так этот Азаров дал мне свой адрес на Волге.
В.В.Овсиенко: Как долго Вы были в дороге? И куда Вас завезли?
А.М.Коробань: Я был готов. Но ещё вот о политике. Я всё говорю, что политика — это наука, и дилетантам туда дороги нет. Вот вызывают меня перед этапом, пересматривают вещи — нет книжки «Лекарственные растения». А я же еду на Урал, там тоже есть лекарственные растения. Попробуйте достать её там в глуши, когда она и на воле ценилась, эта книжка. Другой поднял бы шум. Но я смотрю, что та цензорша — такая Галина с Кубани, фамилия украинская, — она, видимо, забрала книжку себе. Она знает, что я не буду скандалить. А был там ещё кагэбэшник такой светловолосый, интересная такая фамилия, Утиро. Он вызвал меня поговорить. Такой формальный разговор. Я догадался, что книжку могла взять только цензорша. А у меня там конспектов масса. И поздравления на день ангела или день рождения — они не разрешались. А у меня их целая гора накопилась.
В.В.Овсиенко: «Отчуждение в любой форме» не разрешается. Дарение открытки — это тоже «отчуждение».
А.М.Коробань: Она забирает эту книжку, а зато все эти открыточки (все или не все, но большинство), все те книжечки отдаёт. Так что ж, я буду из-за этой книжки поднимать дурацкий шум? Я выйду на волю и книжку куплю, но ведь мне ценны эти мои друзья, которых я, может, больше и не увижу. Если бы я поднял шум из-за книжки, то книжку бы вернули, но всё остальное вычистили бы, даже бельё поменяли бы. Он, Паськов, говорил: «Я бы вам и бельё поменял, но выходной день, к сожалению». А то и бельё содрали бы, и бушлат поменяли бы на новый, чтобы там не было что-то зашито.
Я поехал в Сибирь...
В.В.Овсиенко: А куда Вы приехали?
А.М.Коробань: Это столица селькупов — Каргасок. Есть такая маленькая народность монгольского происхождения — селькупы. Их русские грубо называли «остяки», так что они больше известны как остяки. Хотя «остяк» по-ихнему — собака. И я так сначала на них говорил, но мне объяснили, что остяк — это как наш хохол или ещё и хуже, а они — селькупы. И вот их столица — тот Каргасок. Это Томская область. Томск — это примерно 600 км к северу от Новосибирска, а Каргасок — ещё 600 км к северу от Томска. Это, скажем, на уровне Ленинграда, но далеко на восток. Там довольно суровый климат, морозы доходили до 47 градусов. А лето так ничего было.
Я как-то удачно прилетел — нас самолётом привезли, потому что кораблики по Оби уже перестали ходить. Там наступает зима — и остаётся единственное — самолёт, эти бипланы, если погода. Никакого другого сообщения нет. Река Обь, но кораблики уже перестали ходить. 1 октября нас привезли туда самолётиком и выпустили. Я сразу как-то умудрился тут же, возле дома культуры, устроиться кочегаром в котельную. Не знаю, стоит ли о Сибири так долго рассказывать. Я там отбыл неполных три года...
В.Кипиани: Вы там раз в неделю или в месяц ходили на подписку?
А.М.Коробань: Раз в месяц. Кстати, комендант был селькуповец. Забыл его фамилию, а в лицо узнал бы и сегодня.
В.Кипиани: Обыски были у вас там?
А.М.Коробань: Нет, не было обысков. Ссылка уже шла в рабочий стаж, потому что в лагерях всё пропадало. Я претендовал на работу учителем, но где там — кагэбэшник вызвал и сказал, что нет. Документа никакого не было, паспорта не давали, но зато ты имел право голосовать, идти на парад и кричать «Да здравствует!..» Такое было. Я этого, конечно, не делал — на выборы не ходил, и никто меня об этом и не спрашивал. А что было важно — что через одиннадцать месяцев уже можно было приехать домой в отпуск.
В.В.Овсиенко: И Вам это удалось?
А.М.Коробань: Да, через одиннадцать месяцев, но по маршрутному листу. Без паспорта, было лишь удостоверение и маршрутный листок, где был записан маршрут, от которого нельзя было отклоняться, и должен был тогда-то и тогда-то вернуться. А не вернулся — какая причина? Если нет причины, то год тюрьмы. Такое было.
В.Кипиани: Вы говорили, что проезжали Томскую область, Новосибирск…
А.М.Коробань: Это по этапу — это всё тюрьмы пересыльные. Свердловск, Новосибирск, Томск. В Томске нас уже посадили на самолёт. Привезли на аэродром, то там были надзиратели, но мы уже без конвоя были, не было там куда бежать или убегать. Разве что выпил пива бутылку, но не за свои деньги. У меня их не было. Там ехали уголовники. Я был один, а их было 5-6. Вот у них деньги были.
В.Кипиани: И когда же Вы выехали из ссылки?
А.М.Коробань: Из ссылки? Меня туда везли 26 дней. 5 или 6 дней я считался заключённым. А вот после 11 сентября я должен был быть уже на воле. Но я же ещё был в пересыльных тюрьмах. И эти 19 дней засчитываются день за три. Поэтому я освободился из ссылки не 11 сентября, а 17 июля. Это столько набежало — день за три. У меня даже в паспорте стоит эта дата — 17 июля 1978 года.
Я работал кочегаром в центральном Доме культуры.
В.В.Овсиенко: А в том посёлке сколько населения?
А.М.Коробань: Там было семь или восемь тысяч, где-то так. Но этот район России-матушки бедный. Этот район Томской области — по территории это наша Киевская, Житомирская и если ещё не кусочек Волынской области. И на столько население, как в нашем Василькове — 37 тысяч. Представьте себе: один Васильков на Киевскую и Житомирскую области.
Так что я умудрился? Бухгалтер Дома культуры, соседка по квартире, сразу почувствовала, что ей повезло, потому что она женщина-одиночка. Она была хорошая женщина, я ей всё о себе рассказал, что я из лагеря, что знаю английский. Она переспросила об английском: это правда или я её разыгрываю. «Вот у меня сын такой разгильдяй, так не хочет учиться, особенно английский». Эта бухгалтерша и посоветовала мне быть художником в клубе. А за ту котельную скажу, что я там вёдрами носил в морозы воду — такая котельная. Это всё наше разгильдяйство. Вот вам Сибирь, столько тысяч народу, столько там леса оседает и гниёт, когда вода спадает. Тридцать семь коров сгорело… А считался животноводческий район — тридцать семь коров сгорело на ферме, потому что все двери завалили навозом и не думали о том, что может быть пожар. Кинулись — завалены двери. И так кругом. И пьяницы. И эта котельная — Боже, сколько там замерзало при мне! Я таскал воду на коромысле вёдрами в 40 градусов, заливал котёл. Замерзали и размораживали там после меня три или четыре раза.
Я стал художником в кинотеатре. Надо отдать должное — там был директор, не вспомню уже фамилию, на «С». Рисовать я умел, но буквы у меня не получались так как надо, так что они немножко были недовольны. Но зато я всегда на месте. А до меня там были художники из уголовных. Они там такие вещи вытворяли, такие пьянки, такие драки! Бывало, что исчезали где-то на целую неделю, и уборщицы должны были писать хоть как-нибудь, что такой-то фильм. Я рисую те буквы не так, но главное — я всегда на месте, никаких компаний и никаких пьянок.
Но об этом пронюхал идеологический отдел партии. Был там такой, он мне приветливо улыбался, когда встречались, а потом давай давить на этого директора. Но тот директор отстоял меня, сказал, что, в конце концов, он хозяин клуба и каждый день там всё нормально. Только когда начался тот дурацкий съезд партии в 1976 году, он пришёл и говорит: «Слушай, Андрей Михайлович, в чём дело? Вот секретарь по идеологической работе партии – почему он на меня жмёт, чтобы я Вас выжил?» Вот ни один наш хохол не признался бы – а этот спросил. А я говорю: «Это тянется по старой привычке ещё со времён Сталина: я критиковал его». Он подумал-подумал, но меня отстоял. А потом я научился хорошо делать шрифты. А потом сам покинул клуб и ушёл в сторожа. Бросил потому, что меня заставляли на сене работать – сначала для совхозов, а потом и для работников. Были там такие, у которых были коровы, я им косил. А я жил у хозяйки, которой нужно было на десять месяцев запасать сена на заливных лугах. Она одна, и я молоко пью. Так что я должен был для неё косить. Поэтому я бросил клуб, пошёл в сторожа, а там сутки отбыл, а трое дома. И я косил по полтора гектара, потому что нужно было запасаться сеном.
В.В.Овсиенко: А после освобождения?
А.М.Коробань: После освобождения я поставил себе одну цель: с этим режимом я не примирюсь никогда, но садиться и ещё раз стать их жертвой – это уже слишком. Поэтому я сразу настроился на выезд за границу.
В.В.Овсиенко: А где Вы остановились?
А.М.Коробань: Остановился я в родном Василькове. Устроился по немного смешной случайности художником в районную художественную мастерскую в Василькове. Но там плохо платили, поэтому мне пришлось перейти в проводники почтовых вагонов. Я в мастерской проработал месяцев восемь или девять. А проводником почтовых вагонов ездил в Симферополь, в Харьков. В Харькове встречал Кравцива, может, вы знаете.
В.В.Овсиенко: Кравцива Игоря знаю, я с ним в Мордовии был.
А.М.Коробань: Дошло до КГБ – и меня с вагонов снимают, ставят на железнодорожный почтамт сортировщиком. Там я три смены ишачил, бросал те посылки, чтобы потом иметь три дня дома. На вагонах зарабатывал немного больше. Но я поставил цель: выезд. А как выехать? Тут подворачивается одна еврейка, Шафран Броня, у которой уже был вызов из Израиля. Но у неё денег не было, она – мать-одиночка, с девочкой. Ей нужен мужик, у которого были бы деньги и который хочет уехать. Ну, я такой.
Вот я с ней и сошёлся, мы расписались – фиктивный брак. И начали устраивать наши дела. Отец мой, когда я написал, что буду уезжать, так испугался! Мой родной отец! Во-первых, к нему вернулась вся его слава. Он был только кандидатом в партию, но после того, как он ни за что ни про что отбыл девять лет с хвостиком, а потом был реабилитирован, его просили в партию, а он сказал: нет, друзья, вот в партию я не вернусь. Он стал более набожным, это типично для таких людей. Его полностью реабилитировали, так что его стали просить: ты же был кандидатом, так что имеешь полное право. Он снискал большую славу в партизанском движении и подполье, имел награды. Он чуть не возглавил Комитет ветеранов-партизан – и вдруг сын во второй раз в заключении! Так он меня стал проклинать. Он мне пишет: «Я тебя готов проклясть...» Он в Сибири вынужден был жениться на одной даме – Смагиной Валентине Павловне. Она отцу сочувствовала из-за этой партизанщины, помогла ему кое-чем, она ему и квартиру отстояла. Такая боевая баба, бездетная. Она нас ещё и приласкает, но: вы же националисты! И по сей день так. А тут, на партизанщине, они сошлись. И на украинский язык она согласна, в Уманщину они ездили. Наверное, она отца немного прижала, раз он мне пишет чуть ли не проклятия. Он взял и написал протест в васильковский ОВИР. Понимаете, я с той еврейкой расписался, а тут приходит письмо, и начальница ОВИРа: «Вот, позвольте, вот что отец пишет: „Что ему нужно, он негодяй, он не хочет, что он придумал…“», – а в письме он чуть ли не отрекается от меня. «Куда, в какой Израиль?» Израиль же был тогда проклят в СССР. «Какой Израиль? Я знать ничего не знаю – не давать ему разрешения, и всё!» Спасибо, что она мне это прочитала, а не положила в документы тайно. Я это письмо у неё вот так – раз! – и вырвал, а у неё только кусочек остался. Это письмо у меня до сих пор хранится. И она ничего никому… А могла бы и уголовное дело завести…
В.Кипиани: Так это на года полтора-два-три…
А.М.Коробань: Тогда я пишу, что это подделка, что мои родители давно разошлись, что мой отец Воронин, сталинградец-россиянин…
В.В.Овсиенко: Так с выездом ничего и не вышло?
А.М.Коробань: …что у меня отчим Воронин, русский, лётчик, погиб на войне, а отец умер в Симферополе, мы давно разошлись.
Та еврейка уже переписалась на мою фамилию, ей прислали второй вызов из Израиля. Мы думали до Италии доехать, а там у меня была широкая дорога.
В.В.Овсиенко: В каком году это происходило?
А.М.Коробань: Это всё было в 1978–79 годах, где-то до начала 1980-го. А потом та Лариса из ОВИРа говорит: «Вернули ваше дело, и без документов. Если возвращают документы, то ещё есть какая-то надежда, а если и документов ваших не отдали, то это уже всё». Я ещё добивался – и в Москву ездил, в областном отделе надоедал, что я там никакой агитации не буду разводить, что я вернусь.
Приближалась Олимпиада 1980 года. Приходит мне в Васильков конверт – красивый конверт, почерк красивый, а обратный адрес – до востребования на Киев-179. Это перевалочный пункт, даже не почта. Открываю – а там нарисованы череп и кости. И это накануне Олимпиады.
Мало того – они устроили нам скандал во Львове в одном ресторанчике. Я приехал с дочерью Оксаной прощаться (она училась в Ивано-Франковске). А мне по дороге устраивают скандал и сажают меня на 10 суток. А свой чемодан я же положил во Львове в камеру хранения. Через 10 дней прибегаю – нет моего чемодана. Этот чемодан, который я положил на День пограничника в конце мая во Львове в камеру-автомат, шифр от которой только я знал, получил только через месяц в своём Василькове в райотделе милиции. Открывают – всё цело? Всё цело. Такой вот был выезд. А главное – вызывают и говорят: «Андрей Михайлович, приближается Олимпиада – за пределы Киева, за пределы Киевской области!»
В.В.Овсиенко: Чтобы выехал или чтобы не выезжал?
А.М.Коробань: Чтобы выехал даже за пределы области. Спасибо, какими-то деньжатами мне друзья помогли, так я с этими деньжатами побывал в Сумской области, возле Тростянца, в Харькове у Кравцива, там и ночевал, бывал на Донбассе...
В.В.Овсиенко: Это чтобы Вы им Олимпиаду не сорвали?
А.М.Коробань: Да. У Шевченко – был такой замечательный учитель-физик, – я у него побывал, потом к Клименко Феде в Днепропетровск поехал. Мы с ним сидели в Мордовии.
Я дальше добивался выезда. Мне сказали: «Андрей Михайлович, вы очень назойливый. Помните: мы вас не выпустим. Хоть вы и говорите, что вернётесь, но мы знаем, что когда вы уедете, то мы получим там ещё одного хитрого и умного врага». Сколько я денег потратил на это, на адвокатов…
Я устроился в Василькове в котельную – это работа сезонная. Но меня вызывает участковый милиционер и говорит: «Вы что-то очень долго не устраиваетесь на работу – я должен на Вас завести дело». За что – за тунеядство. Говорю: «Как тунеядство? Я уже в котельную устроился». – «Ну, я проверю. А за что ж Вы это сидели, интересно?» Я рассказал. Не смогли меня посадить за тунеядство, потому что мне дали документ, что я уже работаю.
Я познакомился с машинисткой Евгенией Михайловной Гойдак. Случайно. Сказал ей: «Я еду в творческую командировку, набирать сюжет». Напечатала она мне стихи, потихоньку завязались отношения. Хоть она на много лет моложе, но бывшие политзаключённые – они хорошо сохранились. Ни пьяниц среди нас нет, и курит мало кто. Так, Василий, или нет? Короче говоря, мы познакомились в июне 1980 года, а через год мы с ней поженились. 11 июля 1981 года мы расписались. А потом, 29 ноября, она мне подарила сына Руслана. Сейчас он студент педагогического колледжа имени Нечуя-Левицкого в Богуславе. Он на музыкальном факультете. Ему 18 лет. А мне через каких-то два с половиной месяца будет семьдесят.
Полный запрет на профессию – никакого преподавания, и даже завклубом. Сторожем или по котельным. Два сезона я работал в Василькове, а как родился ребёнок, я одно лето работал на заводе холодильников в Василькове. Осенью 1982 года перешёл в котельную в «Киевметрострое» – это на улице Светлогорской, 25. Есть там такая солидная организация, производство железобетонных изделий для нашего метро. В той котельной, никому не признаваясь, не делая из себя афишу, я проработал 12 лет. Дай Бог памяти... Да, с 1982 года. Два сезона я работал то художником, то проводником, то в котельной, а тут 12 лет – не делая из себя никакой афиши, не обращая на себя внимания. Начальство на меня не дулось, я сидел в котельной, много работал с книгами, с газетами, писал, особенно в ночную смену. Переписывался с заграницей, с Галей Горбач… Кстати, после моего ареста где-то года два обо мне гудели по радио. Пока я сидел в неволе – ничего, а когда вышел на ссылку – меня находили из Франции, из Италии, из Германии. В Сибирь начали приходить посылочки – то то, то сё, то книги. Присылали кое-что и из одежды, и очень сочувствовали, когда я собирался уехать, очень хотели, чтобы я приехал. Так продолжалось, пока не началась независимость. А как началась независимость, то уже, ребята, устраивайтесь сами, потому что пошли расходы на партии, на ещё там что-то.
В.В.Овсиенко: Итак, Вы работали вплоть до?..
А.М.Коробань: До 1994 года, когда я начал баллотироваться в Крыму. Это мой родной Крым, тут речь шла о принципе – потому что я не националист-бандеровец, а крымчанин. Это город Симферополь, Киевский избирательный округ, осень 1994 года. Выиграл хитрый Лев Миримский. Я взял где-то второе или третье место. Есть моя программа, есть биография. Я ездил к Бойчишину, мне Рух печатал листовки, в Збараже мне напечатали целую гору... А выиграл хитрый еврей-бизнесмен Лев Миримский. Тогда начальство начало сильно на меня дуться, особенно инженер Федченко.
[Конец дорожки]
А.М.Коробань: Мы начали организовывать Общество политзаключённых в 1989 году. Политическая жизнь уже началась, но ещё такая подспудная, такая несмелая – будто первые подснежники пошли. Мы организовали Общество – это было в июне.
В.В.Овсиенко: На Львовской площади в Киеве, 3 июня.
А.М.Коробань: Да, нас не пустили в Дом художника, там кагэбэшники крутились. Мы говорили, а Николай Горбаль записывал на диктофон.
В.В.Овсиенко: В каких-то партиях Вы были?
А.М.Коробань: Ни в одной, кроме Руха. И из Руха вышел.
Как только я устроился в 1982 году на работу в котельную, я сразу начал писать большой труд под таким названием «Наблюдения и немного размышлений». Страниц на сто. Я почти без анализа, без критики дал картину производства – что делается на том «Холодильнике», что делается на той «Ленкузне», что делалось на шахтах, что делается в метро – брак, кражи, что хочешь. Зацепил аккуратненько национальный вопрос. Говорю, что оно так всё вроде бы хорошо, а я, например, стою у окошка инструменталки, а подходит женщина (это на васильковском «Холодильнике»), и я бы никогда не подумал, потому что, кажется, простая женщина – подходит и говорит: «Маруся, ну выдай этому человеку в первую очередь, ведь он так красиво говорит по-украински!» Про те маты написал. Говорю, может бы, интеллигенция пришла на наши заводы, но какой же серьёзный отец пошлёт свою девушку работать, чтобы слушала те маты. Такие вот картинки, почти без резюме, чтобы умные люди, прочитав, поняли. Просто наблюдения. И что я ещё сделал – добавил цитат с пленума ЦК.
Я писал долго – пока написал черновик, пока переписал, – что уже и Брежнев умер, пришёл Андропов. Я начал в октябре 1982 года, а подал в декабре 1983 года. Там в ЦК переполошились, звонят на нашу работу: «Почему такой человек, с такими знаниями и с такой специальностью у вас работает в какой-то котельной?» А я написал наш адрес. Меня вызвал некий Фёдоров в ЦК КПУ, мы с ним часа два говорили. Он слушал-слушал, а потом говорит: «Да, много безобразий. Вы хорошо написали, но что сделаешь – без этого нельзя – как мы ни стараемся, нельзя. Понимаете, Вы кое-что тут и по мелочи собрали, а мелочи всегда будут. А вот Вы национальный вопрос затрагиваете – так я Вам скажу, что в деревне более националистические настроения, чем в городе, в Западной Украине больше, чем на Востоке. В общем, всё хорошо, но национального вопроса у нас нет. Но если по мелочи, то в деревне чуть больше, на Западе Украины больше. В общем, спасибо, что Вы постарались, дали картину». Я только попросил, что поскольку я живу в Василькове и мне там придётся работать, то чтобы мне не устраивали скандала. Я просто дал картину, а не замечание начальству. То есть я дал понять, что как ни пиши, как ни жалуйся, а оно так есть. И пока не будет каких-то кардинальных изменений, так оно и будет. И, говорю, если я так всё понимаю, то переводите меня из котельной. – «Нет, это мы не можем».
Но они передали в райком в Васильков, меня вызывают в дирекцию завода «Холодильник»: посмотрите, что пишет, да ещё и бывший зэк! Я ещё ничего не знаю, иду, а начальник отдела кадров возле кладбища в Василькове красит забор, какой-то там субботник: «А, ты писал! Тебе, видно, мало давали?» Я говорю: «Я что – какую-то ложь написал?» И как я ни старался – нет: «Вот ты привык всю жизнь писать, и про нас такое написал...» Этим и закончилось. Это всё, что было в 1983 году. Всё затихло.
Ну, Валерия я, конечно, проводил, когда он умер.
В.В.Овсиенко: Вы были на похоронах Валерия Марченко?
А.М.Коробань: Был, да.
В.Кипиани: У меня конкретный вопрос: Вы реабилитированы?
А.М.Коробань: Это началось где-то в 1990 году, ещё даже не был провозглашён суверенитет. У меня и адвокат был. Он писал и в Москву. Это растянулось где-то на два или два с половиной года. Первая реабилитация и на пенсию повлияла, ведь я пять лет работал на Севере.
В 1989 году мы создали Общество. Это уже была серьёзная заявка. А почти через год, в конце мая 1990-го, меня вызывают в Москву – как жертву репрессий, как борца. Был там какой-то международный конгресс жертв политических репрессий. Вот я поехал в Москву, а осенью 1990 года в Ленинград. Я неплохо выступил в Москве, так они и в Ленинград передали.
В.В.Овсиенко: А публикации у Вас какие-то есть?
А.М.Коробань: Обо мне немножко есть. Писала «Народная газета», писала недавно еврейская республиканская газета...
В.В.Овсиенко: У Вас есть вырезки из тех газет?
А.М.Коробань: Есть. «Еврейские вести» дали сокращённо, потому что я написал большую мою биографию, что связано с евреями, потому что много евреев в Василькове, и в лагерях.
В.В.Овсиенко: Если бы иметь те вырезки, чтобы скопировать.
А.М.Коробань: Я дам. Вот районная газета, она даже мои патриотические стихи публиковала.
В.В.Овсиенко: Нужны биографические материалы.
А.М.Коробань: Четыре номера. Такое название: «1938–1998. Шестьдесят лет моей жизни». А евреи сокращённо напечатали. В Тернополе печатали некоторые мои статьи. Крымская газета во время избирательной кампании напечатала против меня: «Ах, какой мерзавец, негодяй! Он защищает татар. И даже если татары морду побьют, то он всё равно будет их защищать. Понимаете, какой он такой-сякой!» Это против меня. Но они мне этим только рекламу сделали в Симферополе.
Может, это пригодится? Это снимки с 1938 года, начиная с детского сада. Это меня, ребёнка, выставили с цветами встречать кандидатов в депутаты Верховного Совета УССР – это июнь 1938 года. Вот я, пацан, восемь лет, приглашаю их в детский сад – а они не пришли! С этого момента у меня уже были сомнения. В детсад не пришли…
В.В.Овсиенко: Хорошо. Я Вас благодарю.