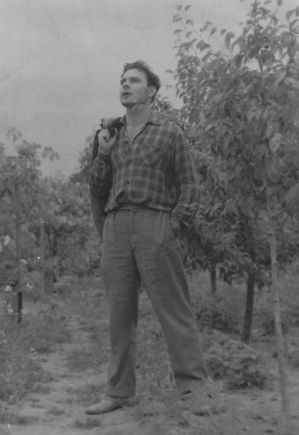Интервью ЗАВОЙСКОГО Владимира Николаевича
В.В.Овсиенко. 27 мая 1999 года ведём беседу с паном Владимиром Завойским. Записывает Василий Овсиенко в его квартире на...
В.Н.Завойский: Проспект Воздухофлотский, дом 51, квартира 17. Я, Завойский Владимир Николаевич, родился 3 марта 1932 года в Киеве. Как полагается, окончил школу. Родители мои из села Дзвонковое – есть такое чудесное село в Васильковском районе. Оно известно своей красотой, было дачным. Знаменитый, или печально известный – как сказать? – Корнейчук написал пьесу «Приезжайте в Дзвонковое». Вот мои отец и мать (показывает снимки). У матери не было образования, а отец окончил Киевский университет – тогда он назывался Институт народного образования. Отец погиб на фронте в начале войны, я его мало знаю.
После школы я поступил в тот же университет, но на геологический факультет. Там я встретился с Петром Бойко, который долгое время работал диктором на радио. Он как-то так притянулся ко мне, наверное, из-за того, что чувствовал мои симпатии к украинству. И я с ним любил говорить на украинском языке, но каких-то таких планов на развитие украинского дела у меня не было. Я очень скептически смотрел на это и вообще не верил уже, что из этого может что-то получиться. Я, как и все хохлы, любил песни, язык, но дальше я не пытался идти. Но Пётр Бойко спорил со мной и убеждал, что ещё не всё потеряно. Но я оставался при своём мнении до тех пор, пока не окончил университет. После того, как отработал – было «положено» отработать два года после университета, где пошлют, – я вернулся в Киев и увидел объявление…
В.О.: Подождите, в каких годах Вы учились?
В.З.: Я поступил в 1952-м, окончил в 1957-м, два года работал в Киевском геологическом тресте на Полесье. Ещё во время работы, с Полесья, я уже чувствовал, что в Киеве происходит что-то такое интересное. И я натыкаюсь на объявление, что молодые поэты собираются на берегу Днепра – это там, возле стадиона «Динамо». Там есть такая раковина, там когда-то часто бывали симфонические концерты. Я решил туда пойти. А этот вечер молодых поэтов был посвящён какой-то юбилейной дате Леси Украинки – я уже не помню какой. Пришёл – вижу, собрались люди, но нам не дают возможности открыть этот вечер: то какой-то администрации нет, то ещё что-то – и так тянется, тянется... В конце концов все поняли, что нечего ждать, решили провести этот вечер буквально на аллее. Молодые поэты становились на скамейки и читали свои стихи.
Кого я там запомнил? Я почему-то запомнил там Ирину Жиленко, которая выступала со своей гражданской лирикой. Алла Горская, кажется, была там, и Эраст Биняшевский был – это уж я точно знаю. Это уж я впоследствии убедился, потому что сначала я совершенно не знал, что это за люди, что это за молодёжь – я уже потом восстановил, кого я там видел.
В.О.: А то был юбилей Леси Украинки – это, наверное, её день рождения, 25 февраля – это зима была? Или, может, день её смерти, 1 августа?
В.З.: Это было, по крайней мере, лето, тепло... Год, наверное, пятьдесят девятый. Нет, даже раньше – пятьдесят восьмой год. На этом вечере читали стихи Леси Украинки. А молодые поэты читали свои стихи. Поскольку наизусть они их не помнили, а уже начало смеркаться, то кто-то додумался: вытащил газету (у всех были в руках газеты), поджёг её, чтобы подсвечивать поэту. Тогда все догадались, зажгли газеты, и оно как-то так получилось очень торжественно и символично, что это действительно запылал тот Лесин огонь. По крайней мере, для меня.
На меня этот вечер произвёл решающее, можно сказать, впечатление. Я увидел, что есть единомышленники, что я, оказывается, не один вот это думаю о независимой Украине и обо всех этих проблемах, а есть ещё люди. Это меня удивило, потому что я думал, что уже абсолютно всё истреблено.
На этом же вечере Эраст Биняшевский объявил, что возник Клуб творческой молодёжи, и он приглашает участвовать в его работе, кто желает. После окончания вечера я подошёл к нему и говорю, что я не очень творческий человек, но если там есть какая-то работа – что-то красить, какие-то объявления делать – эта техническая работа, то я вам буду помогать. Он мне тогда сказал: «Это неважно, творческий Вы или не творческий человек – нам всякие нужны». И с того началось, я стал посещать Клуб творческой молодёжи, слушал лекции Михаила Брайчевского в этом клубе.
В.О.: А где клуб собирался?
В.З.: Такого постоянного, устоявшегося места у него не было. Я как-то ни разу не видел и руководства этого клуба, хотя знал, что там Лесь Танюк был одним из основателей, Алла Горская, потом ещё кого бы я так вспомнил... К сожалению, я забыл.
В.О.: Сверстюк, Светличный, Иван Дзюба туда ходили.
В.З.: Да, Сверстюк, Светличный. Но я в их компанию как-то не попадал. Лекции Брайчевского проходили в Октябрьском дворце. Там была такая небольшая комнатка, собиралось человек десять слушателей. Мне было очень интересно его слушать. А потом я прослышал – у меня расширились знакомства – и познакомился с Борисом. Кажется, его фамилия Рябокляч. Оказывается, он организатор – не творческий, а администратор хора «Жайворонок». Он меня пригласил: «Приходи, будем петь». Ну, я это дело люблю, так что меня недолго пришлось уговаривать.
Пришёл я. Уже ближе познакомился с Эрастом Биняшевским. Я немного непоследовательно рассказываю… События шли параллельно, поэтому мне трудно их выровнять. Сначала расскажу немножечко об Эрасте. Как только мы познакомились – а приближался юбилей Тараса Григорьевича Шевченко, к нему все тщательно готовились – Биняшевский мне предложил такую идею. Вот нам из Кос-Арала пришлют побеги той ивы, которую посадил Тарас Григорьевич, а мы её распространим по всей Украине – понятно для чего. Но нужны адреса людей, которые бы согласились посадить эти побеги. Так вот ты, мол, собирай такие адреса. Это меня очень насторожило, я ему сразу сказал: «Так это же опасная вещь – собирать сведения о людях». Я же знал, чувствовал, хоть всей той машины не знал и был очень наивным в этих вопросах, но сразу почувствовал, что это нехорошо пахнет. Короче говоря, я отказался, сказал, что это действительно может быть опасно.
Позже он мне жаловался, что вот его оттёрли от Клуба творческой молодёжи, а он один из его основателей. Жаловался, что он не имеет возможности занять там видное место. Мне эти жалобы тоже очень не понравились. В конце концов, – я так думал – разве имеет значение, какую ты должность в этом Клубе занимаешь? Главное, чтобы дело делалось. Эти эпизоды я рассказываю, потому что немножко позже мы ещё вернёмся к Биняшевскому.
А теперь, опять же, о хоре «Жайворонок». Пришёл я на хор. Художественным руководителем там был такой небольшого роста человечек – Ионыч его все называли. О нём очень тепло вспоминала Надейка Светличная. Хор был сильный – где-то человек семьдесят с очень хорошими голосами, молодёжь – это, в основном, были студенты, но были и рабочие, всякие люди. Меня сразу приняли в этот хор. Я пару репетиций посетил и почувствовал, что этот хор подвергся какому-то очень глубокому расколу. Я в этом впоследствии убедился. Но поскольку первым моим знакомым был Борис Рябокляч, то я уже от него всё слышу и с ним общаюсь. Мы подружились. В конце концов этот раскол открылся, я увидел, что хор распадается. В тот период я познакомился с Сашком Мартыненко, мы с ним очень подружились. Я его привлёк в этот хор, и мы с ним решили как-то спасти хор. Каким образом? Мы ездили по общежитиям, искали хористов, просили их приходить, потому что такое случилось. Все, кого мы просили, были очень против Бориса Рябокляча. И хор фактически распался.
В.О.: Так быстро? Вы туда пришли где-то в пятьдесят восьмом...
В.З.: Да, это случилось за месяц. Я пришёл, когда он уже был фактически в процессе развала. Я решил как-то возродить этот хор, взял на себя эту тяжёлую ношу, даже не подозревая, насколько это в те времена было трудно. Но я рассуждал по классической схеме: если не я, то кто же? Тем более, что я почувствовал: это на то время достаточно сильный инструмент, чтобы хоть как-то привлекать людей к Украине. И мы с Сашком Мартыненко принялись искать желающих петь в хоре. Какая-то часть хора всё-таки осталась, и мы решили его пополнить.
Это было немножечко позже, а сначала я хочу вспомнить ещё один эпизод, очень неприятный. Как-то Борис говорит мне: «Вот пойдём на Шёлковый комбинат». Этот художественный руководитель Ионыч и там имел хор, работал с девушками этого комбината. «Пойдём, там их будет заслушивать комиссия». И он как-то всё время настраивал меня против этого Ионыча. Одним из аргументов, который для меня не был весомым, но почему-то с точки зрения Бориса был негативным аргументом против Ионыча, было то, что он еврей. Ну, еврей, но ведь руководит украинским хором!
Приходим мы на тот хор. Собралось с десяток девушек с хорошими голосами. Они, кстати, ходили и на «Жайворонок». Был и солист этого небольшого ансамбля. Пришла комиссия. Я совершенно не знал этих людей, кто они и что они. Попросили спеть песни. Солист спел. Я почувствовал, что всё это делается с какой-то провокационной целью, чтобы дискредитировать Ионыча. Но отмечу, что девушки пели добросовестно, и этот солист тоже. После этого начались высказывания этого солиста о низком уровне художественного руководства. Я понял, что здесь с совершенно другой стороны делается подкоп против этого Ионыча. На него очень гнетущее впечатление произвело то, что мы присутствовали. Так мы его совсем потеряли как руководителя. Я немного возлагал надежды на него, когда думал реорганизовать хор. Но он был пожилой человек, и, видно, на него это так гнетуще повлияло, что он уже решил не возвращаться в «Жайворонок».
Перед нами встала проблема найти руководителя хора, найти концертмейстера и привлечь людей. Давай с Сашком Мартыненко мотаться по общежитиям. Я тут поднял свои знакомства в Киеве, и мы нашли замечательного человека. Фамилия его Полюх. Он руководил хором в Институте иностранных языков. Я уже не помню, как я с ним встретился, как я на него вышел, но мы решили с ним встретиться в Ботаническом саду. Мы с ним встретились вместе с Борисом, чтобы обсудить вопросы построения хора. Говорили там о всяком, и вдруг Борис спрашивает: «А вы не еврей?» Это было настолько неуместно, что я чуть сквозь землю не провалился, но как-то промолчал, потому что Борис для меня был большим авторитетом, а я только что пришёл и там с месяц покрутился – ничего не знаю, ни отношений, абсолютно ничего. Полюх сказал, что нет, он не еврей, у него далёкие родственники – чехи. Но, несмотря на такой грубый вопрос, он всё же не отказался принять участие в руководстве нашим хором.
Потом я нашёл концертмейстера. Хочу специально отметить – это студентка первого курса фортепианного факультета консерватории Оля Лифоренко – талантливая девушка, тогда ещё такая миниатюрная молодая девочка. Она очень добросовестно ходила на все репетиции, была безотказная, хоть ей это было не просто, потому что она тогда училась в Консерватории и свободного времени у неё было в обрез. Сейчас она работает в Консерватории, воспитала немалую плеяду пианистов, причём выдающихся. У неё двенадцать дипломантов довольно престижных конкурсов. Таким образом мы сбили ядро. Как потом оказалось, Полюх – замечательный дирижёр. Он был человек высокой культуры, высокой музыкальной культуры, сам имел незаурядный голос и очень чётко дирижировал хором, требовал от хористов высокой культуры пения.
Сначала я думал, что мы создадим что-то такое творческое. В мои функции входило пополнение хористами, назначение времени репетиций, обеспечение помещения, организация выступлений и т.д.
Мы немножко уже начали подниматься, на ноги становиться, но я начал чувствовать какую-то такую глухую стену. Возможно, моя ошибка была в том, что мы не часто организовывали концерты, не пытались популяризировать свой хоровой коллектив. Основной функцией нашего хора я считал не творческие достижения, а просветительскую работу среди хористов, преобладала пропагандистская, агитационная атмосфера. Мы раскрывали людям глаза, мы вели интенсивную пропаганду. Приносили туда литературу, распространяли её, раздавали хористам.
В.О.: Какую литературу? Что тогда ходило по рукам?
В.З.: Ясно, национального, просветительского характера.
В.О.: В каком виде – это были машинописи?
В.З.: Машинописи, конечно. Во-первых, стихи молодых поэтов – Ивана Драча, Бориса Мамайсура, Мыколы Холодного и всей этой плеяды. Во-вторых, тексты, в которых приводились данные о преступлениях НКВД. Я читал там поэзию Леси Украинки. Свою роль я видел именно в этом. Очень скоро мы начали чувствовать, что наша деятельность не очень нравится официальной власти. Нас начали вытеснять, не давать помещения. Приходим, например, в назначенное время, а обещанного на сегодня помещения нет – значит, срывается репетиция. А если нет уверенности в регулярной работе хора, то постепенно терялся интерес к нему и люди начали расходиться. Мы ещё некоторое время в Доме учёных снимали помещение, но нам отказали и там. Приходилось искать всё новые помещения для репетиций и наконец уже небольшой коллектив энтузиастов оказался аж на Подоле, там был клуб пищевиков.
Ещё хочу отметить, что Надейка Светличная регулярно ходила на наш хор, очень регулярно. У неё был прекрасный слух и голос, и пела она хорошо.
В конце концов я увидел, что хор разваливается. Полюх ушёл. Он, как человек искусства, надеялся, что сделает что-то из этого хора, а когда увидел, что это не получается, то отошёл.
Я ещё забыл упомянуть фамилию Вадима Смогителя. Вадим Смогитель сначала, до Полюха, руководил остатками хора, а потом и он ушёл, потому что его за это в консерватории начали притеснять. Тогда мы уже пригласили Полюха. Но со Смогителем мы ещё долгое время поддерживали отношения.
Я увидел, что фактически хора как такового нет, тем более что и мне было трудно им заниматься. Я на то время учился в аспирантуре, надо было срочно готовить диссертационную работу. Тем более, что на дела хора мною было потрачено почти два года.
В то время начались диспуты в университете по национальным вопросам, хористы и я в том числе начали посещать те диспуты.
Чтобы хоть как-то сохранить те певческие кадры, я остаток хора передал Нероденко Володе. Он долго руководил ансамблем в университете – а как же этот ансамбль назывался?
В.О.: Может, «Веснянка»?
В.З.: «Веснянка».
В.О.: Так «Веснянку» уже и я застал.
В.З.: В ту «Веснянку» влились те кадры из нашего хора, которые действительно любили пение. Там их особо никто и не преследовал.
Вот я Вам рассказал о периоде упадка хора «Жайворонок». Я чувствую, что не хватило у меня административного таланта его поддерживать. Этот же хор основали члены Клуба творческой молодёжи. Они дважды ездили по Украине с этим хором и имели очень сильное влияние на слушателей в деле пробуждения национального сознания. Но уже при моём участии в нём мы так ни разу, по разным причинам, не выбрались в такое путешествие, чтобы идти от села до села и петь. А первые экспедиции были именно такие, и это придавало очень большого энтузиазма тому хору. То был подъём, а в мой период это уже был упадок. Возможно, я в этом в какой-то мере виноват. Но ведь говорю, что на каждом шагу чувствовались палки в колёсах со стороны официальной власти.
В.О.: А всё-таки вы концерты давали, или только для себя пели?
В.З.: Моя основная ошибка была та, что мы не выходили на широкую публику. Мы давали концерты, нас хвалили, но не для широкой публики. Возможно, у меня было обострённое чувство самокритичности, я чувствовал, что наш хор недостаточно квалифицирован, чтобы выйти на сцену. Помню, к нам приходил композитор Владимир Верменич и очень предлагал нам свою песню, чтобы мы её разучили. Но как-то не склеилось – возможно, из-за того, что он слишком активно предлагал. Я во всём в то время был максималистом. По моему убеждению, песня должна сама найти своего исполнителя, певцам не надо, чтобы композитор её очень пропагандировал. Возможно, и из-за этого у нас с ним не склеилось. Это была одна из моих ошибок, конечно.
В.О.: А что вы пели? Проводили ли вы, скажем, колядки, щедрования, пели ли купальские песни?
В.З.: Мы пели лемковские песни, потому что в нашем хоре были девушки из Западной Украины, да и первая моя жена была из лемков. Был у нас классический репертуар шевченковских песен.
После упадка нашего хора сразу начались аресты...
В.О.: Так это уже 1965 год?
В.З.: Где-то так. После распада нашего хора прошло года два, и тут знамя поднял со своим хором «Гомин»…
В.О.: Леопольд Ященко. С какого года «Гомин» начал собираться?
В.З.: Не могу вспомнить, потому что я тогда вообще отошёл от этого. Василий ходил туда, он мне рассказывал об этом хоре. Он приглашал меня, но у меня семейные обстоятельства так складывались, что я никак не мог туда пойти.
В.О.: Хор Ященко – это уже 1969 год. А аресты 1965 года – это 26 августа и далее. Иван Светличный был арестован 31 сентября. Это вас никак не коснулось?
В.З.: Я был свидетелем. Вот я сейчас немножко расскажу об этом. Но сначала о «Гомине». У Ященко ситуация сложилась немножечко по-другому. Может, из-за его энергичности. Тогда уже начали собираться вечера, потому что до этого же такого не было. Он активно начал принимать участие в этих вечерах, среди широкой публики. Мы же как-то замкнулись в себе и вели пропаганду и агитацию в своём коллективе хористов. Это фактически нас и погубило.
Что касается арестов, я хочу вспомнить один эпизод. Именно тогда вышел фильм «Тени забытых предков». Проходил просмотр этого фильма в кинотеатре...
В.О.: «Украина», 4 сентября 1965 года.
В.З.: Да, свидетелей там было немало, наверное, и вы об этом слышали не раз, но я свои впечатления хочу рассказать.
В.О.: Пожалуйста, вот как это вы расскажете, потому что люди по-разному рассказывают.
В.З.: Я опоздал на этот просмотр и сел в последнем ряду. Как раз надо мной были рубки, из которых наблюдают за залом и откуда пускают картину. На сцене было немало людей, но ситуация уже была наэлектризована. И вообще во всём городе так было. Я уже знал, что у некоторых прошли обыски. На сцене сидит Юрий Ильенко (кинооператор фильма. – В.О.), возможно, и Сергей Параджанов (режиссёр фильма. – В.О.) был, но я этого не зафиксировал. Актёры были. И вот поднимается из зала Иван Дзюба с букетом цветов, подходит к актёрам и дарит им цветы. Потом поворачивается к микрофону и начинает говорить, что, к сожалению, мы думали, что уже времена репрессий прошли, но сейчас мы убедились, что всё возвращается, что во Львове произошла серия арестов, и в Киеве также. Не успел он это сказать, как вскочили – не помню, но, кажется, из первых рядов – двое таких здоровенных парней, подошли к Дзюбе и давай его отталкивать со сцены. Он говорит, а они его отталкивают. Не то чтобы предлагают ему сойти, а буквально вот так сталкивают. И самым грубым образом вытолкали его за пределы сцены.
Тогда вскакивает, как я помню, Василь Стус и на весь зал кричит: «Я протестую!» Его сразу схватили и заставили сесть. Я понял, что на этом просмотре больше кагэбэшников, чем зрителей. Поднимается второй – я его видел раньше, но не был с ним знаком, к сожалению, не могу вспомнить его фамилию. Он выскочил и крикнул: «Кто протестует – встаньте!» Не все, а где-то половина зала встала, откуда стало понятно, кто есть кто. Слышу над собой страшный мат и: «Гаси свет! Пускай фильм!» Свет погас и начали демонстрировать фильм.
В.О.: А Черновол там тоже выскакивал?
В.З.: Я не помню. Несколько человек выскочило в разных местах зала, пока не погас свет, но я не зафиксировал.* Я тогда вообще мало кого знал, и Черновола тоже, поэтому не мог запомнить.
В.О.: А Стуса?
В.З.: Стуса я знал. Познакомился с ним у Аллы Горской, в её художественной студии. К ней приходили Иван Светличный, Борис Мамайсур, Евгений Сверстюк, Надежда Светличная и ещё много известных людей. Кстати, Алла не владела украинским языком, но очень хотела научиться, и Надежда Светличная давала ей уроки украинского языка. Там была очень бурная жизнь. Иван Светличный читал там лекции по эстетике. Стус тогда в аспирантуре учился. Он поразил меня остротой ума, много рассказывал о судьбе нашей культуры и обосновывал бытование нашей культуры, говорил об эстетических аспектах поэзии. Я собирался записывать его рассказы, но, к сожалению, не сделал этого.
В.О.: Его 20 сентября, после этого события, исключили из аспирантуры.
В.З.: Я не знал этого. Вы упомянули о Вячеславе Черноволе. С Черноволом мы как-то познакомились. Уже не помню, при каких обстоятельствах это случилось, но я его часто встречал на литературных вечерах, там мы и общались. Персонально нас никто не знакомил. Помню такой эпизод. Сижу я в Публичной библиотеке, вышел отдохнуть. И встречаю там за лестницей Черновола. А именно тогда вышла работа Ивана Дзюбы «Интернационализм или русификация?», она уже начала «расползаться» среди людей. Я о ней уже слышал, но до меня она ещё не дошла. Подбегает ко мне Черновол и говорит: «Ты читал „Интернационализм или русификацию?“» Я так вяло говорю, что уже знаю, что такая работа есть, но до меня ещё не дошла, поэтому не читал. «Пойдём, я тебе дам!» Оказывается, он сидит в «Публичке» и читает её. Я же был чем-то очень занят – ведь в аспирантуре учился. Может, мне как раз надо было срочно какие-то документы готовить, не помню – и я говорю: «Да ты знаешь, она до меня дойдёт, не волнуйся, я её прочитаю». Он как вспыхнул: «Да ты что?! Такую работу?! Да это предательство – не читать такой труд!» Я почему это вспомнил – он был очень вспыльчивый, что мне не очень понравилось. Позже, конечно, пришла эта работа и ко мне, я участвовал в её распространении, один экземпляр у меня и до сих пор хранится.
В.О.: В каком виде вы её видели и как вы её распространяли? Это была машинопись или фотокопия?
В.З.: Нет, у меня хранится какой-то пятый или шестой печатный экземпляр машинописи. Это вот такой том.
В.О.: Переплетённый?
В.З.: Переплетённый, я там даже фотографию Ивана Дзюбы сохранил. Там же и Надейка Светличная, все они там молодые. Я храню этот том, хотя там уже практически ничего прочитать нельзя, потому что оно со временем портится, да ещё и экземпляр такой – наверное, из последних... Это такой эпизодик с Черноволом.
Ещё о Евгении Пронюке хочу рассказать.
В.О.: Он окончил университет в 1962 году.
В.З.: Этого я не знаю. Знаю только, что он философ был, философский факультет окончил. Он намного моложе меня. Я с ним познакомился через Сашка Мартыненко. Они вместе очень интенсивно распространяли литературу. Причём Сашко Мартыненко тогда жил у меня. Сначала он ходил на хор, но потом плюнул на это дело и лишь иногда приходил и так свысока: чем это вы тут занимаетесь – вот мы делаем дела! Они с Пронюком пришли ко мне именно по поводу распространения литературы. Дело в том, что у меня на то время было всё для фотокопирования: увеличитель, фотоаппарат, как говорится, всё было «на мази» для быстрого тиражирования.
В.О.: Так вы делали?
В.З.: Да. Мы с Пронюком договорились, что он будет приносить литературу, а я её буду штамповать. И действительно, он приносил немало литературы.
В.О.: А что именно приносил?
В.З.: Некогда было читать – такой был поток литературы.
В.О.: Некогда и читать было?
В.З.: Да. А литература, ясно же, нелегальная. Я поздно вечером получал, а уже утром ему отдаю. Так продолжалось не очень долго – начались аресты, и его, как говорится, привлекли к ответственности. И меня тоже, но меня позже, когда арестовали Сашка Мартыненко, Ивана Светличного, Николая Гриня и других. По этому делу я был как свидетель. Начали таскать меня. Я хочу один эпизодик рассказать, связанный с Пронюком.
Судили тогда Николая Гриня. Суд проходил возле Софийской площади.
В.О.: Это Владимирская, 15, областной суд.
В.З.: Сидим мы в комнате свидетелей. Там человек 10–12 находилось. Туда же пришёл и Пронюк, его вызвали. Он пришёл с кипой бумаг, разложился, как у себя в кабинете (причём всё это – философская литература, не имевшая никакого отношения к событиям сегодняшнего дня). Он статью пишет или что-то такое. Я удивился его хладнокровию и спокойствию. В это время ко мне подсаживается надзиратель, который следит, чтобы свидетели не общались друг с другом.
В.О.: Там ещё и надзиратель был?
В.З.: Да. Причём, этот надзиратель мне хорошо знаком, потому что он обыск у меня в квартире делал.
В.О.: Свой человек!
В.З.: Да, свой человек. Этот человек подсаживается ко мне и так будто бы по-дружески показывает на Пронюка и говорит: «Вот по кому тюрьма плачет». Я молчу. Он ещё как-то пытался заговорить со мной, но я молчу себе. Потом меня вызывают. Надо пройти длинным коридором в зал суда. Этот кагэбэшник меня выводит в коридор. Только что вроде бы мило со мной говорил, как вдруг перед тем, как открыть дверь и пустить в комнату суда, он на меня матом: «Ты же, такой-сякой, говори всю правду, нечего выкручиваться!»
В.О.: Это психологическая обработка – русским матом? Как хорёк кур обрабатывает, чтобы они ошалели?
В.З.: Да. И пустил меня в комнату. Там меня спрашивали о литературе, которая была привезена из Америки. Была такая книжечка «На багряном коне революции», где приводились документальные данные о количестве уничтоженных творческих людей, главным образом писателей и поэтов. Но, судя по тому, как неуверенно судья сказал название этой книги, я почувствовал, что у него нет достоверных сведений о том, что она у меня была. Поэтому я сказал, что я не знаю такой книги, не слышал, и они не стали придираться.
Ещё я хотел вернуться к фигуре Биняшевского. Такая колоритная фигура. Он всегда был очень импозантно одет, с таким галстуком вышитым... – Вы его, наверное, видели? Мы всё время с ним сталкивались. Но, начиная с того первого эпизода, о котором я рассказал ранее, у меня к нему было недоверие. Кстати, он также ходил на наш хор, он тоже любил петь, так что у нас собиралась на хоре весёлая компания, но я старался держаться от него в стороне. Кстати, Алла Горская была также почему-то очень против него настроена. Позже я начал анализировать события того периода, связанные с ним.
В.О.: Да, я его видел, но это уже в последние годы. Он где-то года два назад умер, да?
В.З.: Что умер, я даже не знаю – может и умер.
Он всегда окружал себя молодёжью и говорил мне, что неправильно назвали «Клуб творческой молодёжи», надо было назвать «Творческий клуб молодёжи». Я с этим согласился. А он после арестов издал свою книгу «Украинские писанки» (Биняшевский Эраст. Украинские писанки. – К.: Искусство, 1968. – 91 с.). Я был этим очень удивлён. Почему? Потому что я знал его выступления. Он поражал всех тем, что всегда очень смело говорил много таких вещей, о которых никто из нас себе не позволял говорить. Мы же чувствовали ситуацию и знали, что такие выступления нам не простит власть. А его не трогали. Мало того, ему дали возможность выпустить такую книгу, причём очень хорошее издание. Мы с ним частенько говорили. И ещё такая мелочь: он приходил на репетиции хора и в частных беседах со мной рассказывал, что часто бывал за границей, рассказывал, какая жизнь там, какая здесь. Вот я думал: как это так можно? Тогда за границу далеко не каждый мог поехать!
Такой ещё эпизодик помню. Мы пришли с ним в магазин, хотели купить там пластинки украинских песен. Он взял одну пластинку – не помню, какую он там выбрал, – и, как положено, прослушивать начал. Один раз прослушал, потом просит: «Ещё раз поставьте». – Продавщица ему ещё раз поставила, потом ещё раз. Он стоит и слушает. А уже образовалась очередь, так она заметила ему, что, мол, пора бы и честь знать. Он как напустился на неё: «Что вы зажимаете украинскую песню!» – и отчитывать! Бедная женщина уже не знает, где деться. А он себе вот такие вещи позволял на каждом шагу. И ничего… Это меня очень настораживало.
Он имел какое-то отношение к Институту биологии. У меня были там знакомые люди, и я знал, что они его очень боялись и не принимали.
В.О.: Иван Русин тоже говорит, что Биняшевский везде фигурировал, а вот в делах он не фигурировал.
В.З.: Да. Мало того, получилось так, что когда начались аресты, у многих находили литературу. Меня от ареста спасло то, что у меня почти ничего не нашли. Повезло!
В.О.: А у вас тоже был обыск?
В.З.: Дважды. Они-то чувствовали, знали, что у меня что-то есть, но я, благодаря своей интуиции, вовремя избегал – точнее сказать, не избегал, а успевал спрятать или уничтожить. Как-то чувствовал, что у меня должно произойти, и выносил из дома.
О Биняшевском. У многих находили литературу, и когда уже очень припирали, то часто говорили, это им дал Биняшевский. То есть все ему не доверяли. Потому что такой компромат на него… Кстати, и я согрешил, что-то против него сказал, потому что у меня всё-таки кое-что нашли, мелочи.
В.О.: Интересно, что всё-таки?
В.З.: Книгу, которая их очень волновала. Они спрашивали, где я её взял, – это книга Софии Русовой. Они очень почему-то охотились за ней. И стихи Симоненко у меня нашли – это же тоже было запрещено, Боже упаси… И, несмотря на то, что все вот так валили на него, его «не привлекали». Я слишком много внимания ему уделяю – возможно, он этого и не стоит, но это была странная личность. Уже когда независимость настала – помните, 500-летие казачества отмечалось? Встречаемся мы там, в Запорожье. Он всё такой же подтянутый, всё такой же очень опрятный. Мы приехали и уже несколько дней в палатках жили, обратно ехали уже грязные, а он – как с иголочки одет. Я подумал, если он действительно где-то там служил стукачом, зачем ему понадобилось ехать в Запорожье, времена же изменились. Я так и не понял его. А может он всё же хотел как-то реабилитироваться в глазах тех многих людей, которые его в чём-то подозревали?
Он для меня остался загадкой.
Теперь хочу воспользоваться случаем и вспомнить другого человека, которого я глубоко уважал, постоянно вспоминаю его с теплотой и болью. Это Сашко Мартыненко. Он очень много делал для пробуждения национального сознания людей, распространения просветительской литературы. Он был настоящим украинским патриотом и его же, по сути, за это осудили...
В.О.: Три года лагерей строгого режима, осуждён 25 марта 1966 года.
В.З.: Логинов, следователь, который вёл его дело и меня допрашивал, как-то так дерзко заявил: «Что, мальчики, захотели незалежной Украины?» Даже не подозревает, что он говорит. Сашку Мартыненко в воспоминаниях о «шестидесятниках» уделено мало внимания, а он скромно, не бросаясь в глаза, проводил большую работу, такую как бы черновую, но очень важную. На мой взгляд, он как-то мало известен, незаслуженно.
В.О.: Это зависит от людей, которые его знали. Он сам уже не расскажет.
В.З.: Он уже не расскажет – он умер.
В.О.: Когда он умер?
В.З.: Да, он уже лежал в Октябрьской больнице, у него с поджелудочной железой был непорядок, он уже последние дни доживал, страшные боли терпел, он был в страшном состоянии. Его жена всё время возле него находилась, так он её гнал от себя, чтобы она бегала на все митинги: «Нечего возле меня сидеть – беги на митинги, и чтобы приходила и рассказывала, что там происходит». Такой он пылкий был – страшно. Так он и не увидел независимости, не дожил несколько месяцев.
В.О.: Он самиздат распространял?
В.З.: Да, главным образом, распространение самиздата.
В.О.: 1935 года рождения.
В.З.: И его брат Леонид тоже сидел. Причём этого брата осудили за то, что он кому-то давал читать стихи Александра Олеся, осудили его ещё несовершеннолетнего. Он был в заключении значительно раньше – наверное, в пятидесятых годах. Когда Сашко Мартыненко отсидел в лагерях и вернулся, ему в Киеве не дали возможности работать. Он геофизик, причём незаурядный, талантливый был геофизик. Он вынужден был в Полтаву поехать. Такой там был надзор, что он, бедный, задыхался. И вынужден был вместе со своей семьёй уехать в Тазовский, это Тюменская область.
В.О.: Там есть река Таз, которая впадает в Обскую губу.
В.З.: Да-да, вот он туда и уехал, там работал. А вернулся оттуда больным...
В.О.: После 1965 года вы участвовали в распространении самиздата?
В.З.: Нет, после этих судов я уже не участвовал практически ни в чём, не проявлял фактически никакой активности.
В.О.: Вас уже кагэбэшники больше не трогали? Или чувствовались их следы? Ведь вы уже были записаны в их святцах…
В.З.: Да, я постоянно чувствовал слежку за собой. Это меня всё время смешило, потому что я чувствовал, что они меня переоценивают. Они думали, что я имею какое-то очень сильное влияние, что я, может, какую-то группу имею и очень активно действую. Хотя этого на самом деле, по крайней мере после арестов, не было.
В.О.: А где вы работали?
В.З.: Я работал и работаю в Институте геофизики. Как-то вызывают меня в первый отдел, а именно тогда начался разгром Хельсинкской группы.
В.О.: Это уже вторая половина семидесятых годов.
В.З.: Да-да, и им было очень интересно знать, участвую ли я в этой Группе. Вызывают меня в первый отдел, заводят в какую-то такую комнату, что я и не знал, что такая там есть, хотя и работал два десятка лет в институте. Там сидит молодой человек. Посадили меня. «Вы живёте на Саксаганского?» – «Да». – «Там случилось убийство, и мы подозреваем некоторых людей. Вот у нас есть фотографии людей – Вы не знаете никого из них?» И даёт мне такую из плексигласа сделанную рамку, там с обеих сторон плексиглас, а между ним ряд фотографий. Я взял, а он говорит: «Посмотрите, не узнаете ли Вы людей?» Я сразу понял, в чём дело, но думаю, что если отказываться, то этим самым я дам ему повод думать, что я понял, в чём дело. Я так взял эту рамку, будто ничего не подозревая, посмотрел: «Нет, никого не знаю». – «Ну, посмотрите с другой стороны». Перевернул, посмотрел и говорю, что никого не знаю. «Хорошо, дайте мне». Я возвращаю ему, он берёт её за края и ставит на шкаф. Таким мягким образом у меня взяли отпечатки пальцев. Их это очень интересовало, потому что они знали, что я раньше распространял литературу, так они думали, что я и до сих пор этим занимаюсь. Но у меня, повторяю, тогда ничего не нашли, хотя и подозревали меня.
Хочу вернуться к событиям шестидесятых годов.
Когда в нашем Институте геофизики было собрание, на котором разбирали моё дело, то кагэбэшники весь институт созвали... Между прочим, об этом собрании стоит рассказать. Это по поводу Николая Гриня. Тогда как раз и Сашка Мартыненко судили, и Гриня, и Ивана Русина. Меня сначала вызвали к директору, и давай кагэбэшники мне разнос устраивать. Сказали так: «У Завойского есть полный состав преступления». Эту фразу сказали, а вот почему они меня не арестовывают, не сказали. Я так подумал, что, очевидно, у них фактических данных не было. Как-никак, а всё-таки уже в шестидесятых годах они пытались хоть что-то такое документальное найти, а не просто так осуждали, как в тридцатых. Спрашивают у моей руководительницы, у Крутиховской Зинаиды Александровны – она была моя руководительница в аспирантуре: «Как вы относитесь к тому, что он говорит на украинском?» А я принципиально на работе и везде разговаривал на украинском. Многие удивлялись, потому что когда я поступил в институт, я говорил на русском языке, а тут: «Видите ли, Завойский начал задаваться, стал в позу...» А Зинаида Александровна говорит: «А мне даже нравится, что он говорит по-украински». Я добавляю, что иначе не могу – у нас дома царит украинский язык, это мой родной язык. Они почувствовали, что перебрали, что это уже фактически посягательство на право говорить на украинском языке. И тогда они как взбесились, как стали меня ругать, бранить! На этом скандале первое заседание в кабинете директора завершилось. Мне сказали: «Через пятнадцать минут придёте на собрание института».
Прихожу я на собрание – зал полный! Сел я в заднем ряду. Началось «разбирательство». Этот кагэбэшник выступил и начал говорить об угрозе буржуазного национализма и уже не помню о чём. Потом вызывают Гриня, чтобы он каялся публично – для них это было самое важное. Гринь пытался говорить что-то в своё оправдание. Я его абсолютно не осуждаю. Мы с Гринем работали и сейчас работаем вместе.
Дошла очередь до меня. Парторг спрашивает: «Где Завойский?» А я сижу. «Завойский, идите сюда!» Я сижу не поднимаюсь, хоть немного, думаю, вас подразню. А он как взбесится да как гаркнет, начал ругаться, потому что он такой крикливый был. Тогда я с последнего ряда поплёлся к трибуне. Вышел, стал и меня онемело – ну не могу сказать абсолютно ничего! Единственное, что я выдавил из себя – это два слова: «Я не националист». И всё, молчание воцарилось. Они увидели, что у них ничего не выйдет, что я оправдываться не собираюсь. «Идите, садитесь!»
И.Н.Иващенко: Но он тебе ещё один вопрос задал: «Чего бы вы хотели?» – «Ну, я бы хотел, чтобы на улицах Киева звучала украинская речь».
В.З.: Этого я уже не помню.
В.О.: А когда это было – скоро после тех судов 1965–66 годов?
В.З.: Это было как раз во время следствия.
В.О.: Так Гриня уже выпустили?
В.З.: Он в гораздо худшем положении был – у него много что нашли. Я не знаю, как бы я себя повёл при таких обстоятельствах, при таком «обилии фактического материала».
В.О.: Написано: «Осуждён на три года, но, учитывая полное признание вины и публичное выступление…» А, так это оно и было, это выступление. «...с покаянием и осуждением единомышленников, Верховный Суд УССР заменил наказание на условное. После выхода из тюрьмы восстановлен на прежней работе, но уже младшим научным сотрудником». Это из книги Черновола «Горе от ума».
В.З.: Да. Следует сказать, что никто из присутствующих в зале не выступил против Гриня. Я сейчас немножко продолжу. После того, как мне разрешили сесть на место, выступает – кто бы вы думали? Выступает наш знаменитый учёный Белодед.
В.О.: О, Иван Константинович!
В.З.: Иван Константинович Белодед. И что же он начинает говорить? «Вот, видите, – говорит академик Белодед, – вот, видите, нашлись защитники украинского языка! Нашлись! Да они же и сами двух слов связать не могут по-украински, а ещё болтают о том, что надо, чтобы украинский язык звучал...» и так далее. Наступила тишина. В это время из зала раздаётся голос Юры Хорунжего, который тогда работал вместе с нами, и мы с ним дружили: «Вы зря так говорите. Завойский очень хорошо говорит на украинском языке!» Я себе подумал, слушая этого Белодеда: «Это же надо – скатиться до того, что академик ездит с кагэбэшниками по таким собраниям...» Он таки подлец чрезвычайный. Я не могу дождаться, когда же сбросят его бюст из помещения Академии Наук. Уже не раз меня так подмывало отбить ему нос, но очень уж людное место!
В.О.: Это был официальный идеолог русификации, «двуязычия».
В.З.: Был на него в «Перце» чрезвычайно острый и очень хороший памфлет, но, к сожалению, я не сохранил его.
В.О.: Когда? Тогда?
В.З.: Да, именно в тот период. Там его фамилия не называлась, но из контекста однозначно было понятно, что это Белодед. Ну, очень острый и комичный такой памфлет!
В.О.: Тогда ходило такое: «Ой казала баба діду: „Я поїду к Білодіду, двоязику вивчу мову і вернусь до тебе знову“».
А семьдесят второй год не затронул вас никаким образом?
В.З.: Никак, только проверили, что я ничем «противозаконным» не занимался, взяв отпечатки пальцев.
В.О.: А вы это связывали с Хельсинкской группой? Это уже были 1976–77 годы.
В.З.: Даты я, к сожалению, не фиксировал. Но я знал, что такие группы уже существуют и что начались аресты. Но я ни в одной группе не был, а им было интересно узнать.
В.О.: Радио «Свобода» слушали постоянно или так, эпизодически?
В.З.: Ну, как когда. Конечно, я слушал, но нерегулярно.
Помню такой эпизодик. Как-то я заперся в ванной и включил на всю громкость «Немецкую волну». Это я рассказываю эпизодик, связанный с тем, как за мной следили. А уже поздний вечер, я задумал вынести мусор в мусоропровод. Выхожу, а радио оставил на всю громкость. И это как-то неожиданно было для того, кто там стоял, – прислонился какой-то молодой человек к моей стене и слушает. Я не знаю, кто это был.
Ещё эпизод. Мне надо было с товарищем-сотрудником поехать в служебную командировку в Нежин. Там в геофизической экспедиции мы должны были отчитываться за нашу совместную работу. Мы собирались поехать на электричке и договорились на определённое время встретиться на вокзале. Но на ту электричку я опоздал и решил поехать на следующей. Электричка пустая, будний день – там, может, два-три человека сидит в вагоне. До Нежина ехать почти три часа, и я решил позавтракать. Разложился, потому что никого же нет, вытащил бутерброд. А именно тогда громили Хельсинкскую группу. Не помню, по какому поводу – то ли выбросить какую-то бумажку – неожиданно я встал и вышел в тамбур. Сразу же возвращаюсь назад – и сталкиваюсь с человеком, который сидел рядом со мной – такой невзрачный дядечка с газеткой под мышкой. Мы с ним грудь в грудь столкнулись. Я пришёл на своё место, и он вернулся и сел на своё место. Мне стало понятно, что за мной следят – они, наверное, думали, что у меня с кем-то запланирована встреча на какой-то станции, поэтому я нарочно опоздал на предыдущую электричку, чтобы ехать без сотрудника, а одному.
Мало того, я официально не оформил командировку и поехал за свой счёт. Три рубля на билет не такие большие деньги. И то, что я выехал будто бы нелегально и даже в институте не сообщил, видно, тоже вызвало подозрение.
Эти мои рассуждения оправдались. Приезжаю в Нежин, выхожу. А я не знал адреса организации, куда мне надо было, и на перроне сразу давай расспрашивать, где эта экспедиция. Там толпа такая. Я спросил женщину. А этот человек подошёл, сзади меня встал и слушает. Я оглянулся и так красноречиво посмотрел на него – что, мол, ты здесь делаешь? Мы уже будто бы знакомы. Он тогда – шмыг! – повернулся, заскочил обратно в вагон и давай выглядывать из окна, будто кого-то ищет. Я же пошёл себе в экспедицию. К тому времени я уже имел нюх на этих кагэбэшников и сразу увидел, что меня уже передали другому «товарищу». И не ошибся. Возвращаемся мы в тот же день назад в Киев. Вместе с нами ехать в Киев львовяне. Они тоже представляли свою работу в Нежине, там мы с ними и познакомились.
Едем в Киев в одном купе, разговариваем о том, о сём. Вдруг вваливается в это купе пьяненький мужчина. Посидел минуты две, послушал наш разговор и как попёр на тех львовян, что они бандеровцы, что «надо уничтожать». Я сразу понял, что это провокация, но львовяне, я думаю, этого не подозревали. Промолчать мне – это же некрасиво перед львовянами. Я решил всё-таки защитить их – давай спорить, что, мол, такого рода ваши разговоры только разъединяют наш народ, а нам надо сплачиваться. Такой вот эпизод.
Вообще всё это незначительные эпизоды, я рассказал их, чтобы подчеркнуть общую атмосферу того времени.
В.О.: Да, это характеристика той эпохи.
В.З.: Много таких комичных случаев было с той слежкой. Я всё-таки расскажу ещё о двух.
Пошёл как-то в кинотеатр «Киев» на площади Толстого. Там два зала. Начался фильм. А тогда фильм начинался с киножурнала. И эти киножурналы были до того отвратительны, что я их не мог терпеть и выходил на это время из зала. Итак, выхожу я из зала, как сразу за мной выскакивает молодой человек. Они все были настолько похожи друг на друга, эти кагэбэшники, что я сразу узнал. Я начал прохаживаться по залу, а билетёрша, когда он так быстро-быстро выскочил за мной, бросилась к нему: «Вам что, плохо?» А он: «Ой, у меня голова болит, так голова болит!» – «Так вам, может быть?..» – «Не надо, мать». Он постоял, пока она его успокаивала. Когда фильм начался, я зашёл в зал, и он зашёл.
Ещё следует рассказать о таком эпизоде. Когда снова начались аресты, я встретился с одним знакомым из университета. Мы сели возле памятника Шевченко на лавочке и обмениваемся новостями. А возле нас уже расхаживает… Потом этот кагэбэшник отошёл в сторону и поговорил с другим. А я всё это вижу, слежу. Мы распрощались с парнем, я пошёл себе домой. А мне домой надо было идти от университета по той улице, где когда-то трамвай № 8 ходил. Надо вниз, с улицы Толстого, спускаться на Саксаганского. Я иду, а там параллельно с трамвайными путями посадили кусты. Я дохожу уже до следующей улицы, перекрёстной...
В.О.: Тарасовская или Паньковская.
В.З.: Одна из этих улиц. Там прямо с неё вход в Ботанический сад. На перекрёстке подходит ко мне такая старенькая бабушка и говорит: «Помогите мне перейти на ту сторону, в Ботанический сад».
Я взял её под руку и веду. И только я миновал кусты, как мы столкнулись с этим кагэбэшником, которому меня передали. Он так смутился – для него это была полная неожиданность! Потому что он шёл за кустами и следил за мной, а что я поверну в его сторону – этого предвидеть было нельзя. Если бы не попалась эта старенькая бабушка, то этого и не случилось бы.
Таких эпизодов можно рассказывать много. Я чувствовал, что они всё время за мной следили.
Хочу вспомнить более весомое событие – когда приближался юбилей Шевченко, 150 лет со дня рождения. Велась интенсивная, шумная подготовка. От Аллы Горской я узнал, что будет сделан витраж в университете.
В.О.: Это 1964 год?
В.З.: Кажется, да. Я работал на ул. Репина, там тогда находился наш институт. Оттуда мне было удобно пешком ходить домой на обед. Шевченковский праздник длился несколько дней. Перед памятником Шевченко тысячи людей. Я прохожу и думаю: дай заскочу в университет и посмотрю, что там делается с этим витражом, потому что он уже был почти готов. Прихожу и вижу, что стоят высокие стремянки. Витраж ещё целый, на арке сверху надпись... Вы не видели?
В.О.: Я видел фотографию.
В.З.: Там женщина так склонилась Тарасу на грудь, а сверху надпись: «Возвеличу малих рабів отих німих… Я на сторожі коло їх поставлю слово». Да, как раз эти слова выписаны. Лезет на эти стремянки какой-то народ и давай разбирать этот витраж. Говорят: мы его сохраним. Но вижу, они его так разбирают, что пытаются разбить – то у них упадёт стекло, то... Звон, полно стекла, Алла бегает возле них, кричит, ругается с ними, чуть в драку не лезет. Там ещё поприходили… Людмила Семыкина пришла, художница и подруга Аллы, ещё люди. Такое советское лицемерие – тысячи людей как будто приветствуют Тараса Григорьевича, а тут рядом такое творится! Все возмущаются – что же это делается? Надо позвать власть, чтобы защитила. Решили обратиться к тогдашнему министру культуры – я не помню кого...
В.О.: Ректором Киевского университета тогда был академик Швец, Иван Трофимович. Он себя называл Швец. Максим Рыльский насмехался: «В украинском языке есть три слова с твёрдым «ц» в конце: бац, поц и Швец»».
В.З.: Швец, да.
В.О.: А министром культуры тогда кто был?
В.З.: Или по вопросам идеологии какой-то там… Я, к сожалению, забыл фамилию, но это изрядная сволочь.
В.О.: Не Скаба ли? (Андрей Данилович Скаба, 12.12 1905 – 26.06.1986. Историк, академик АН УССР с 1967 г. С 1959 – министр высшего и среднего специального образования УССР, с 1968 – кандидат в члены Президиума (с 1966 – Политбюро) и секретарь ЦК КПУ, 1968–1973 – директор Института Истории АН УССР. – В.О.).
В.З.: Скаба, правильно. Приезжает этот Скаба – шапка-пыжик, здесь смушка висит, рубашка украинская. Все бросились к нему с жалобами: как же это можно такое произведение искусства уничтожать? А он молча, послушал-послушал, а потом как набросился, как стал ругаться, причём так грубо, эту Аллу Горскую довёл чуть ли не до... Ну, они фактически на моих глазах разбили витраж.
В.О.: Это было в марте, именно в шевченковские дни. Кто-то рассказывал, что в ночь на девятое марта. А вы говорите, это было днём?
В.З.: Днём, разбирали днём. Что-то такое о ночи рассказывали, что его то ли достраивали, то ли доразбирали ночью. Но это было буквально на моих глазах. Я тогда так и не пошёл обедать. Тогда расправлялись со всем этим бесцеремонно.
Помню ещё один эпизод. На улице Прорезной, которая выходит на Крещатик – первый угловой дом. Там размещались профсоюзы или что-то такое, а за ними открыли кафе. Кажется, «Хрещатый яр». Симпатичное кафе, там молодёжь собиралась. Сделали там ремонт, и один молодой художник сделал очень красивую стенную роспись. Там с первого на второй этаж ведёт спиральная лестница. И он все те стены таким спиральным образом масляными красками расписал, причём так, что на первом этаже, помню, девушки танцуют, обстановка старинная, может, черняховская или ещё древнее культура, они там резвятся среди прекрасной девственной природы. По мере того, как по спирали поднимаешься на второй этаж – изображены этапы развития Украины в виде то определённых сооружений, храмов, то портретов выдающихся людей. И с самого верха – портрет Грушевского, потом, помню, портрет Ивана Драча и ещё кого-то из современников. И что вы думаете? Не успела высохнуть краска (а эта же картина много квадратных метров занимала), как её выдолбили вместе со штукатуркой – не то, что замазали, чтобы можно было потом реставрировать, а буквально долотом выдолбили вместе со штукатуркой. Я, к сожалению, не помню фамилии этого художника. Думалось, что она всплывёт в памяти.
В.О.: А годы перестройки как вы встретили? Поверили ли Горбачёву, «перестройке»? Какие настроения были в обществе? Потому что я же тогда был вне общества. Меня только в августе 1988 года освободили.
В.З.: Что касается меня, то я скептически смотрел на все эти потуги как-то реанимировать СССР, хотя Горбачёв всё же вызывал какую-то симпатию своей толерантностью, по крайней мере внешне. Но я никаких иллюзий относительно настоящей демократизации не имел.
В.О.: В какой-то организации вы были? В Украинский культурологический клуб вы ходили?
В.З.: Нет, я не ходил. Он там на Подоле был.
В.О.: Он в разных местах бывал, но потом обосновался у Дмитрия Федорова на Олеговской, 10.
В.З.: Я там не бывал. Но снова появилась надежда на возрождение Украинского государства. Я организовал у нас в институте группу Руха, нас там было человек двенадцать. Впоследствии я от этого отошёл, потому что я не политик, принадлежать к какой-либо партии и подчиняться партийной дисциплине не в моём характере. Для этого нужно талант иметь. Моё участие сводилось, в основном, к тому, что я ходил на демонстрации, рисовал и носил плакаты. Я участвовал в событиях под лозунгом: «Если не я, то кто же?» И как только почувствовал, что там без меня обойдутся, я отошёл. Сейчас я даже не в Рухе, беспартийный.
В.О.: Ну, это нормально, но когда наступают какие-то решающие события, то многие люди выходят и принимают в них участие.
В.З.: Да. Сейчас очень нужно участие интеллигенции в строительстве нашего государства. Я это осознаю. Я научные статьи печатаю на украинском языке в журнале Института геофизики, где работаю. Он в Академгородке.
В.О.: Вы говорили, что диссертацию писали. Вы её защитили?
В.З.: Диссертация называлась «Происхождение остаточной намагниченности пород железо-кремнистой формации». Это основной источник нашего богатства – железо. Я очень благодарен руководителю отдела Крутиховской Зинаиде Александровне и директору Института Субботину Серафиму Ивановичу, по сути они меня защитили после тех показательных собраний с кагэбэшниками. Меня могли запросто уволить, потому что тогда столько аспирантов повыгоняли в других институтах. Я чувствовал, что Зинаида Александровна хорошо меня понимает, хотя она об этом мне никогда не говорила. Она была беспартийная.
В.О.: Немного было людей, которые могли удержаться от партийности и занимать какие-то должности. скажем, Михаил Стельмах не вступал в партию и был депутатом Верховного Совета. Власти нужно было и такое.
В.З.: А вообще политика такая проводилась… Взять хотя бы наш институт. Все ведущие должности занимали люди, присланные из Москвы, из России. И сама Крутиховская Зинаида Александровна, и директор института Субботин Серафим Иванович, Лебедев и другие. За исключением Лебедева, все они очень хорошие люди. И получалось так, что этим же они обезоруживали нас.
В.О.: Но они люди другой культуры, другой нации.
В.З.: И они проводили политику, нужную СССР, их все хвалили, и это было ещё хуже для нас.
В.О.: То есть украинцев держали где-то там внизу.
В.З.: Я, может, ещё что-то вспомню.
В.О.: Я очень вам благодарен. Рассказ ваш очень интересный. Не знаю, когда дойдут руки до него, чтобы переписать, это может быть затяжное дело. А как будет переписано, то мы вам принесём текст. И тот текст, возможно, станет для вас толчком, чтобы вы сели и написали более широкие воспоминания. Потому что написанный текст имеет свою ценность и свою специфику.
В.З.: Конечно, если что-то вспомню... К сожалению, у меня очень плохая память. Бурная была моя жизнь. Во-первых, молодой, а во-вторых, я не был ещё обременён семьёй, у меня на квартире много интересных людей бывало, часто кто-то из них жил у меня. Я давал приют молодым поэтам, они приезжали в Киев, а жить негде. Часто – очень талантливые ребята.
В.О.: А кто бывал?
В.З.: Мне нравился один очень талантливый парень Володя, фамилию его не запомнил. Очень талантливый, но бедный поэт, из бедной семьи, еле поступил в университет, и, видно, его выгнали. Потом, Корбут бывал у меня, Мамайсур – может, слышали?
В.О.: Может, Виктор Кордун? Борис Мамайсур...
В.З.: Да, Виктор Кордун, Борис Мамайсур жил у меня.
В.О.: Кажется, Бориса уже нет в живых?
В.З.: Мне давно сказали, что он умер. Я этому не удивился, потому что он же был очень болен эпилепсией. Он, бедный, так тяжело страдал от этой эпилепсии, что после припадка буквально разваливался.
В.О.: Теперь вышла его книжечка с предисловием Ивана Дзюбы. У меня есть. (Борис Мамайсур, Второй исток. – К.: Сфера, 1997. – 172 с.). Тогда автор ещё жил в Хмельницком.
В.З.: Это замечательно, я очень рад. Он у меня некоторое время жил. Он был высокий такой, бедненький, из села Воронькова. Его встречали кагэбэшники, нагло забирали у него стихи, в сумку лазили.
В.О.: Вы говорите, из Воронькова – это под Киевом? Это знаменитое село.
В.З.: Да. Он человек кристальной души.
В.О.: Я помню фотографию от 5 июня 1965 года у Евгения Концевича в Житомире, так его там почему-то нет, но он ездил тогда на тридцатилетие Евгения.
В.З.: Возможно. Там был интересный эпизод с Концевичем. Я там не бывал, но мне детально рассказывали.
В.О.: А какое впечатление на общество произвели события с тем альбомом? Я знаю ту историю из рассказов Надежды Светличной, Валерия Шевчука, да и самого Евгения. Я у него теперь довольно часто бываю.
В.З.: Мне Надейка Светличная рассказывала про этот скандал. Резонанс тогда был, конечно. Мне рассказывали, как это смешно вышло. Но я хочу ещё про Мамайсура сказать. Когда я немножечко к поэзии приобщился – я писать стихи не умею, но люблю поэзию, – я частенько заходил к Ивану Светличному, у него собирались молодые поэты. Он оценил талант Мамайсура. Иван был очень симпатичный человек… Союз писателей решил собрать молодых поэтов в Ирпене, в Доме писателя организовали школу поэзии. Пригласили туда и Мамайсура.
В.О.: Это организовывали Владимир Пьянов и Абрам Кацнельсон?
В.З.: Кацнельсона я не знал, а Пьянова помню. Видно, под их эгидой съехались туда молодые поэты. Я был очень рад, что Мамайсур туда поедет, потому что там как-никак будет нормальное питание. Он же жил, как беспризорный. А там поспать есть где, да и отдохнуть можно – курортная зона, и всё это бесплатно. Мы радовались, что наконец он хоть месяц побудет в нормальных условиях.
Я прознал, что там Пьянов будет проводить с молодыми поэтами занятия, и решил поехать посмотреть и послушать, что там за занятия и какие там ребята собрались.
Приехали мы. Кто-то ещё со мной поехал, не помню кто. Может, и Иван. Приезжаем – такой светлый зал, собралось много людей, праздничное настроение у всех. Кто читает стихи, кто разбирает стихи. И вот выступил Пьянов. За ним выступает Мамайсур – и как попёр на этого Пьянова… В чём он его обвинял? В «фальши советской», в том, что он фактически служит партии, а не искусству. Он такого там наговорил, что, конечно, его сразу выгнали, бедного, не дали там отдохнуть. Такой он был человек – бескомпромиссный. Ну, казалось бы, помолчи хоть здесь – и хоть поживёшь немножечко. Нет, не смог.
Это было ещё до арестов. Мамайсур был такой же, как и Григор Тютюнник. Кстати, я и с ним знаком.
В.О.: А Холодного вы знали?
В.З.: Знал Холодного. Мыкола Холодный у меня ассоциируется с Николаем Плахотнюком. Я его тоже очень любил – Плахотнюк такой славный парень. А к Холодному у меня двойственное отношение. Он отталкивал людей своими выбрыками. Поэтому я с ним не общался. Он был очень высокого мнения о себе, не знаю, насколько это было оправданно. Не знаю, где он сейчас.
В.О.: Он живёт в Остре и время от времени появляется в Киеве. Где-то в 1992 году устроил вечер в Союзе писателей с очень правильным названием: «Я умер в 1972 году».
В.З.: Это точно!
В.О.: Арест и покаяние – это действительно была его смерть. А дальше – это уже прозябание. Он время от времени выступает в прессе с очень грубыми, вульгарными вещами. Я должен был однажды огрызнуться, потому что зацепил он Василя Стуса, Владимира Забаштанского, Григора Тютюнника и ещё кого-то. Особенно покойного Стуса, и это меня задело так, что я не сдержался. Холодный выступил в журнале «Киев», так «Киев» и мою реплику опубликовал, очень крутую. («Вкраїнську оббрехав Голгофу…» // Київ. – 1995. – № 11–12. – С. 8–9.). Я думаю, как мне после этого с тем Мыколой сесть и поговорить о его судьбе – он же наговорит всяких гадостей.
В.З.: А что я хочу сказать о Николае Плахотнюке. Он тогда ещё был студентом медицинского института и организовал вечер – была годовщина со дня смерти Симоненко.
В.О.: Нет, это скоро после смерти Симоненко было несколько вечеров его памяти.
В.З.: Это был посвящённый Симоненко вечер. Набилось людей в мединституте, где Николай учился и был организатором этого вечера! Туда сошлись молодые поэты. Вечер был блестящий, но он вышел за рамки официоза. И бедный Плахотнюк долго страдал после этого, его чуть не выгнали. А может и выгнали. Во всяком случае, я знаю, что его судили.
В.О.: Да, его в семьдесят втором упрятали в психушку.
В.З.: Это чтобы дискредитировать его, как это они умеют. Я долго не виделся с ним. А в эти годы я езжу в метро и время от времени вижу очень похожее лицо. Но ведь я его студентом помню, так он был такой худенький, как палочка, – а это такой довольно тучный человек, и я не решался спросить, он это или нет.
В.О.: Я с Николаем в хороших отношениях, мы часто встречаемся. А вот никак он не даётся записаться – всё откладывает, откладывает... А тут ещё эта беда с Черноволом случилась. Валентина Черновол – это жена Николая, Богданчик у них есть, уже в четвёртом классе. Так я теперь не трогаю их – пусть немного беда пройдёт. И Валентину надо записать – она много делала, много самиздата распространяла. Она училась в университете на два курса раньше меня. Я догадывался, что у неё есть самиздат. Но у меня был свой канал.
В.З.: И вот мы друг на друга смотрим – наконец я всё-таки решился, подошёл к нему (или он ко мне подошёл), мы разговорились. Оказывается, это же Плахотнюк, я его еле узнал, но мы так приятно поболтали.
Всякого бывало, и я рад, что у меня такая жизнь.
В.О.: Что причастны к каким-то событиям. Знаете, когда было шестьдесят лет Евгению Концевичу, я организовывал поездку к нему. Целый автобус людей поехало. Если он родился в 1935-м, то это было в 1995-м. Там Черновол сказал такую вещь: мы – счастливые люди, да мы ещё, говорит, Сталина помним; да мы раз вышли на бой с этим режимом в шестидесятые – начале семидесятых годов, мы отсидели, и мы ещё увидели независимость! А сколько поколений бились, боролись за свободу, а не дождались её – а мы всё-таки её увидели.
В.З.: Особенно яркий пример – это с Сашком Мартыненко. Он буквально дни не дожил до Независимости. А Стус…
В.О.: Оксана Яковлевна Мешко была на перезахоронении Стуса, Литвина и Тихого, а сколько она выходила на эти митинги – и надо же, 2 января 1991 года умерла, немного не дожила.
Очень спасибо, была очень хорошая беседа.
В.З.: Главное, я считал, рассказать о хоре «Жайворонок». Я слушал передачу со «Свободы», так о начале рассказали, а о конце ничего, потому что тот упадок был непривлекателен. К сожалению, вышло так, что я причастен к этому. А второе – хотелось вспомнить о Сашке Мартыненко, отметить, что он много делал. И об Оле Тхоренко.
В.О.: Вы говорили о Полюхе, но, кажется, не называли его имени.
В.З.: Игорь, кажется.
В.З.: Сейчас уже больше не вспомню интересных эпизодов, так что не будем тратить плёнку. Выключайте.
В.О.: Спасибо Вам.
В.Овсиенко, Харьковская правозащитная группа. Отредактировал 11–13.03.2009 г. Исправления вдовы Иващенко Ирины Николаевны внесены 10.11.2010.
Снимок 60-х годов.