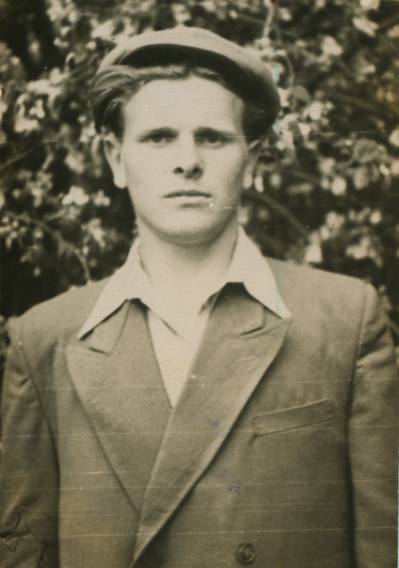
Житомир
Издательство «Рута»
2016
Дорогой бессмыслицы
Этот рассказ для тех, кто смог хотя бы на миг подняться над собой, как рыба над водой.
Автор
Уже очень давно меня свергли с Олимпа. Я спускаюсь всё ниже и ниже — от большого костра, выхватывавшего из темноты всё окружающее, осталось дотлевающее пепелище.
Нет, я не стал счастливым Сизифом, ибо ещё жива память о моём пребывании на вершине, о приговоре к бессмыслице. Но я спустился к людям так близко, что взялся написать людям. А кому же ещё?! Не деревьям же в лесу, хотя какая между ними разница — только и всего, что люди могут передвигаться. (Наверное, я всё-таки чем-то заразился, раз уж взялся писать).
Жизнь — это непрерывное течение. Мой рассказ о жизни также будет непрерывным.
Не помню, но согласно метрике я родился 13 декабря («на Андрея». Собирались назвать Андреем, но баба Настя была против — видимо, из-за какого-то Андрея) в селе Рогачёв Барановского района Житомирской области. Как и все, прибыл в этот мир не по своей воле — так было угодно природе, а может — Богу. И не помню, как я воспринял этот мир, своё появление в нём: протестом или принятием — кричал, плакал или смеялся, знаю лишь из рассказа отца, что когда меня крестили, то крёстный — отцовский брат Александр — держал мои руки, потому что я бил попа по лицу. А почему бил — тоже не помню. Возможно, тот поп был большим грешником, а возможно, я не хотел принимать крещение.
Мои родители: отец Бабич Алексей Саввич, родом из Рогачёва. Когда в Рогачёве появился и откуда взялся первый «Бабич» — Бабич Игнат с женой Еленой — неизвестно. Известно лишь, что у Бабича Игната, который положил начало роду Бабичей в селе, было шестеро детей, что его старший сын Филипп женился в 1804 году в 21-летнем возрасте; что сын Игната Терешко (Терентий) проживал на хуторе (его хата стояла за церковью на расстоянии 350 м от автотрассы, тогда грунтовой дороги Барановка — Звягель). Что со временем там и другие крестьяне стали строить хаты, и таким образом по имени моего прапрадеда в селе возникла улица под названием «Терешкова». Хата Терешко стояла по левой стороне улицы. Во дворе Терешко жил и его сын Лукьян. А Лукьян передал уже своему сыну Савве, моему деду по отцу.
Сыновья Игната — Филипп, Михаил и Терешко — были крепостными, что подтверждают метрические книги 30–40-х годов XIX века. Когда были закрепощены — неизвестно.
Фамилия «Бабич» возникла давно. В XV веке пятеро князей (братьев) носили фамилию «Бабич». (Их отец, умерший в 1436 году, был «Баба»). Это были князья Гедиминовичи (Ольгердовичи): Друцкие (Н.М. Яковенко «Украинская шляхта»). Эта фамилия довольно распространена. Когда в 1962 году я был в заключении в лагере № 7 и там познакомился с казаком с Кубани по фамилии «Бабич», он мне рассказывал, что во время войны его воинское подразделение дислоцировалось в одном из сёл Югославии. Большинство жителей того села, как оказалось, носили фамилию «Бабич». Узнав, что и он «Бабич», стали угощать его, водя из хаты в хату и уверяя, что он их дальний родственник.
Мой дед Савва (умер в середине 30-х годов) в 1901 году женился на польке Насте Ягельской из с. Клименталь. Савве было 20 лет, а Насте — 17. Настя к тому времени уже была православной. Кроме моего отца Алексея (1904-1985), у них родились Александр (1902-1961), Наталка (в метрической книге Пелагия, 1908-1974), Мария (умерла от гангрены в 30-х годах, не достигнув совершеннолетия).
Где-то во второй половине 20-х годов отец женился на Елене Голуб. У них родилось двое сыновей — Василий (1928-2006) и Павел (1930-2002). В начале 30-х семья распалась. Василий остался с отцом (проживал с нами до 16-летнего возраста), а Павел с матерью. Уже после войны мать дала им фамилию второго мужа, погибшего на фронте, — Завальнюк. Так она поступила для того, чтобы получить на сыновей от государства хоть и мизерную, но всё же какую-то помощь. (Та помощь не спасла Василия от тюрьмы. В послевоенные голодные годы за мешок картошки с колхозного поля Василию пришлось побывать в заключении). Почему распалась семья? — Известно лишь, что из-за постоянных ссор (Елена водилась с комбедовцами). Из-за семейного конфликта отцу даже пришлось отсидеть где-то с полгода в Житомирской тюрьме. После того, как случился пожар (было подозрение, что хату кто-то поджёг), он с родителями выбрался с Терешковой улицы, построившись у болота, примерно посередине того расстояния, что между Прапором и Киковским посёлком, возникшим уже позже, перед войной. (Кстати, со временем на усадьбе Терешко построились Гончаруки. Выкапывая яму для погреба, нашли каменный молоток и острый нож из кремня). В 1934 или в 1935 году отец женился на моей матери Павлюк Марии Лукиничне из с. Киково, которая в то время жила на хуторе, рядом с позже образованным Киковским посёлком (теперь название «Украинское» (?!), будто окрестные сёла не украинские). Семью закрепостили — загнали в колхоз.
Род Павлюков в с. Киково уже в начале XIX века был довольно многочисленным. В отдельных метрических книгах указано, что такие-то Павлюки принадлежали такому-то помещику. Отсюда можно сделать вывод, что все Павлюки в с. Киково были закрепощены. Что-то в этом аспекте подтверждается и тем, что осталось в памяти моей матери от воспоминаний о тех давних временах.
Родословную по линии матери удалось установить лишь от прадеда Моисея, который умер в 1907 году в возрасте 65 лет, и его жены Прасковьи, у которых в 1887 г. и появился на свет мой дед по матери Лукаш (Лука).
В 1906 г. Лукаш женился на Евдокии Тимошенко. Обоим было по 19 лет. У них родились: Созонт (1907 г. — в 1928 г. был в живых. Судьба неизвестна), Мария (1912-1989 гг. — моя мать), Кондрат (1919-2003 гг.), Анна — моя крёстная (1922-1983 гг.), Василий (1923-1942 гг. — погиб в Орловской области в посёлке Железнёвка), Максим (1928-1977 гг.), Алексей (1930 г.р.), Христя (1932-1933 гг.).
Дед Лукаш, баба Евдокия и их старшие дети были очень певучими. На хуторе у деда Лукаша постоянно собиралась молодёжь. Дед Лукаш играл на сопилке, выбивал на бубне (которые сам и изготавливал). Молодёжь танцевала, пела. Это были 20-е годы. Вот и всё, что было радостного в жизни моей матери. (Из воспоминаний моего дяди Алексея о бабе Евдокии и деде Лукаше: я был с матерью в поле. Мать выбирала лён, вспотела, а тут пошёл дождь. Мать простудилась и слегла. Вокруг шеи у неё возникла большая опухоль. Отец возил её в Новоград в больницу, но это ничего не дало. Она умерла в 33-м или в 34-м году. Когда ей делали гроб, а это было летом, я играл обрезками досок. А ещё помню, мы, сидя на печи, от голода стучали головами о печь и кричали: «Хочу есть!». Сестра Христя лежала в колыбели и тоже кричала от того, что была голодна. А мать неподвижно лежала в постели. Где-то в то время умерла Христя. Наверное, это был 33-й год. А отец умер в 44-м году на Ивана Крестителя. …Я сидел у печки в шинели и будёновке. А это было, когда отступали немцы. Немецкие солдаты зашли в хату. Увидев меня, солдат сразу же направил на меня винтовку и крикнул: «Партизан!». Отец схватился за винтовку и отвёл ствол в сторону, выкрикивая при этом: «Мал! Мал! Дитё!» и стал меня раздевать. Солдаты ушли, но отец очень перенервничал. Вскоре, как-то вечером, вышел на улицу. Долго там не был. Вернулся в хату, прилёг, несколько раз как-то необычно выдохнул, и его не стало. Наверное, это был инфаркт).
Первым мужем моей матери был Наум Рыбак, родом из с. Киково. Жили на хуторе по левой стороне шоссе за Киково. У них родился сын Иван. В 1933-м — голод. Умирают от голода сын, муж, свёкор. В хате лежит опухшая мать — уже ожидая конца. Но приезжает отец — Лукаш — и забирает её к себе. Это и спасло мать от смерти. А голодная смерть многих тогда выкосила. (Каким-то чудом сохранился список умерших в 1933-м в соседнем селе Киянка, который находится в областном архиве. В этом небольшом селе с 6 января по 29 декабря 1933 г. умерло 199 человек разного возраста.) Мать редко рассказывала о том голоде. Наверное потому, что всё время приходилось думать, как выжить, как накормить детей. Периодически я слышал от неё о Михалке (младшем брате Наума), который проживал в с. Кануны. Мать, будучи в Новоград-Волынском на базаре, случайно с ним встречалась и рассказывала об этом дома.
Итак, уже после освобождения в 90-х годах я стал подумывать, что надо бы съездить в село Кануны и увидеть того Михалка, с которым мать когда-то общалась. Как-то раз, ожидая в Новограде автобус, разговорился с молодицами. Оказалось, что они из Канун. Стал спрашивать о Михаиле. Есть такой, говорят мне. По правде сказать, я уже и мало надеялся, что он ещё среди живых, ведь было уже лето 1998 года. Решаю: надо немедленно ехать.
Договорившись с дядей Кондратом о поездке, выезжаю на автомобиле в Новоград, беру дядю и, навестив могилы родственников на Киковском кладбище, поворачиваем в Кануны. Въезжаем в село. Его хата сразу же за мостиком. Заходим. Михаил лежит на кровати. Уже в таком состоянии, что и подняться не может. Подойдя, я говорю ему:
— Я сын Марии, с которой жил Ваш брат Наум.
— Как! Так разве ты не умер, ты жив?! — с удивлением говорит мне Михаил. Он почему-то подумал, что я — это тот Иванко из 33-го.
В 1939 г. в связи с ликвидацией хуторской системы родители перевезли хату и сарай в с. Рогачёв, построившись по Смолдыревской дороге, по правой стороне, на выезде из села.
У родителей нас, детей, было шестеро: Надя (1936-2011 г.), Саша (1937 г. — умер через полтора года), Николай (1942-2000 г.), Ольга (1945-2013 г.), Андрей (1949-2010 г.) и я — Сергей. Я мог бы и не появиться на свет. Это было где-то за месяца два до моего появления: мать пошла за водой и, набирая ведро воды длинной тычкой, перегнулась и полетела в колодец вниз головой (наверное, это я потянул её в колодец). Но ей удалось перевернуться и бултыхнуться в воду ногами. Колодец был выложен из камня и неглубоким. Цепляясь за камни, мать выбралась из колодца и пришла в хату по пояс мокрой.
Отцу в том же году пришлось немного повоевать. Он был мобилизован и принимал участие в войне с поляками. Как-то во время атаки пришлось попасть под пулемётный обстрел. Но вовремя залёг, и всё обошлось без последствий. Был и переводчиком (знал немного польский язык) при допросе пленных. А уже в начале 1944 г. (когда пришли советы) его снова мобилизовали и бросили на фронт. Долго не воевал, потому что в окопах под Шепетовкой отморозил пальцы на ноге; некоторые из тех, кто сидел, как и он, в окопах, замёрзли насмерть. Отца отправили в Тамбов в госпиталь, где ему ампутировали обмороженные пальцы. Был на фронте и Кондрат с Василием. (Кондрат побывал не только на фронте. Во второй половине 40-х годов, будучи голодным, что-то там украл из съестного и оказался в лагере Красноярского края. Помню: вечер, мать сидит у плиты, в которой полыхает огонь, и плачет, вспоминая Кондрата). Уже будучи в лагерях, я удивлялся: как они могли после того голодомора участвовать в той войне? Ведь, если взять отца, то когда приближался фронт, он мог посадить семью на воз (о чём я ему не раз говорил) и двигаться на Запад. Тем более, что как он, так и другие хорошо знали, что советы их мобилизуют, и если они не погибнут на фронте, то их снова будет ждать колхоз, НКВД.
Хочется здесь вспомнить и о семье отцовской сестры Наталки. Её муж Кирилл, как и мой отец, был мобилизован и погиб. Шестеро детей остались полусиротами. А в 1948-м или в 49-м году в селе вылавливают молодёжь (как и при немцах) и отправляют на Донбасс добывать уголь. Дочь Кирилла — Женю — выследили ночью (она скрывалась), схватили и увезли на Донбасс в шахту. Удивляли меня и немцы: знали же, что годные к мобилизации мужчины после их отступления будут советами мобилизованы и будут воевать против них. Выход был один: либо эти мужчины — будущее пополнение советской армии — перемещаются на Запад; либо, если будут пойманы на территории, которую предстояло оставить, будут уничтожены. А такая мера, без сомнения, была бы выгодна как немцам, так и тем, кому не хотелось быть мобилизованными и погибать на фронте за интересы тех, кто загнал их в колхоз, морил голодом, судил за колосок, расстреливал.
Отец придерживался нейтралитета — «моя хата с краю». Его не тянуло ни к советским партизанам, ни к службе немцам. А что касается борьбы с обоими оккупантами — за самостийную Украину — о рейдирующем у нас отряде УПА Деркача он слышал — то для него, как, видимо, и для всех в селе, это было чем-то далёким. К партизанам отец не шёл, но партизаны к нему пришли. Кто-то донёс партизанам, что у отца есть новый тулуп. Партизаны приходят к нам ночью и требуют отдать. Конечно, если бы тулуп висел в хате, то сняли бы и на том было бы всё. Но отец уже знал, что по ночам партизаны шастают по хатам, и поэтому хорошо его спрятал и говорил, что у него нет нового тулупа. Тогда выводят отца за хату к канаве. Партизан щёлкает затвором и говорит: «Тулуп или смерть!» Кроме пары тулупов, забрали и тёлку.
Имел отец дело и с теми, кто служил немцам. Как-то вызывают его к старосте села, управа которого была в бывшем сельсовете. Как только отец пришёл, староста даёт ему винтовку и говорит, указывая на мужчину, сидевшего на лавке:
— Поймали партизана, охраняй его.
А вскоре снова к отцу:
— Возьми-ка веник и подмети пол.
Отец ставит в угол винтовку, берёт веник и подметает. Увидев это, партизан бросается в двери, выскакивает на улицу и, вскочив в воз, запряжённый лошадьми, исчезает. О том героическом побеге партизана я не раз слышал в клубе при праздновании очередной даты советской победы. Фамилия того, кто подметал пол, не называлась. Без сомнения, хотя отец и не был в полиции, но если бы тот партизан знал отца и указал на него, то отец был бы не на фронте, а где-нибудь на Севере с полицаями. Но странно то, что этому партизану даже руки не были связаны. А потому возникает вопрос: не сам ли староста таким образом организовал побег того партизана?
И всё-таки отец не совсем придерживался принципа «моя хата с краю». Не знаю, при каких это было обстоятельствах, но, рискуя жизнью, он взялся помочь одной из двух или нескольких евреек, которым удалось спастись от расстрела. Я ещё в детстве слышал о том, что у нас пряталась еврейка. И когда в 1989 году давал интервью для бюллетеня «Страничка узника», то рассказал об этом эпизоде, но с некоторыми ошибками. Уже позже, будучи у брата Василия, поинтересовался событиями в селе во время войны и, в частности, той еврейкой, которая у нас пряталась. Вот что он мне рассказал: «Софья Абрамовна — моя учительница. Она у нас пряталась. Летом отсиживалась и в канаве, заросшей кустами. Я носил ей туда еду. Когда жгли хаты, она была в хате. Уверенности, что нас не будут жечь, не было. Нужно было вывести её из хаты. Вот тогда, когда ты смотрел, как горела хата (а было это тогда, когда немцы жгли хаты тех, на кого имели какую-то информацию об их связи с партизанами), отец с матерью, прикрывая собой Софью, перевели её в сарай. Софья была у нас ещё несколько месяцев, иногда выходила в село. Что с ней случилось — мне неизвестно. Она ушла и не вернулась. Наверное, полицаи поймали и расстреляли».
В селе Софья Абрамовна не появлялась. Значит, её жизнь где-то трагически оборвалась, как оборвалась для евреев села Рогачёв осенью 1941 года. Той осенью немцы собрали всех евреев (более 400 человек. И. Либерда «Село помнит»), вывезли в Каменнобродский лес и расстреляли. Спаслось лишь несколько человек. Кстати, была убита треть жителей села, а власть никогда не вспоминала о них. К их захоронениям относились так же, как и к захоронениям убитых голодом в 1932-33 годах. Как будто их и не было.
В селе евреи проживали компактно (в середине XIX века евреев в селе было больше, чем украинцев и поляков вместе взятых). И когда в 30-х годах в Рогачёве было создано три колхоза, то один из колхозов был еврейским под названием «Пятилетка». В этом колхозе было и некоторое количество украинцев. Помню рассказ жителя села о тех колхозах: «В еврейском колхозе было легче. Если женщина не успела испечь хлеб до выхода на работу, то председатель колхоза, зайдя в хату, говорит женщине: «Быстрее управься и выходи на работу». И уходит из хаты. А в нашем колхозе: зашёл, увидел, что женщина месит тесто, а в печи полыхает огонь, ничего не говоря, хватает ведро с водой и в печь».
В первых числах января 1944 года советское войско уже было в Рогачёве и на окраине села, со стороны Новоград-Волынского (та часть села называлась «Плетянка»), заняло оборону. Какой-то военный отряд прибыл и к нашей хате. Прибыв, разобрали северную стену большой комнаты, закатили туда пушку и из той пушки били по немецкому войску, которое двигалось колонной по шоссе со стороны Новограда-Волынского. Наткнувшись на засаду, немецкое войско, понеся потери в живой силе и технике, вынуждено было повернуть в поле и по заснеженному бездорожью двигаться в сторону Смолдырова.
Ещё долго, почти до конца 40-х годов, на левой обочине шоссе за селом стояли сожжённые немецкие грузовики. А павшие немецкие солдаты лежали в поле и канавах до самой весны. Когда снега уже не было, собрали подростков, кого-то из взрослых назначили бригадиром и направили эту бригаду собирать трупы. Брат Василий попал в ту бригаду. Как позже рассказывал мне, трупы стаскивали конём к двум бывшим силосным ямам, которые были в поле недалеко от шоссе сразу же за селом.
Случился тогда и комичный случай с их бригадиром: среди трупов был и труп большого коня-тяжеловоза. Вот притащили они того коня и никак не могли спихнуть в яму. Бригадир подошёл помочь. Стоя на краю ямы, взялся за хвост и потянул. И тут хвост, уже подгнивший, обрывается, и бригадир полетел в яму на трупы… (Это случилось тогда, когда советы после немецкой оккупации ещё не довели крестьян до полного обнищания — до голода. Если бы та лошадь погибла несколько позже, то она не лежала бы до весны. Крестьяне её съели бы).
Я помню себя ещё до исполнения четырёхлетнего возраста. Это, видимо, было уже в начале осени 43-го. Снега ещё не было. Как сейчас вижу: я стою у табуретки, на которой большая сковорода, наполненная жёлтыми шкварками, а в другой комнате стоят у окна люди и смотрят в окно. Люди встревожены. Эта встревоженность передалась и мне. И я, оставив сковороду с салом, иду в ту комнату и залезаю на лавку. Смотрю в окно и вижу: влево наискось через дорогу огромное пламя, а недалеко от того пламени кто-то стоит одетый во всё чёрное. Смотрю на пламя. Вижу и отца, который ходит по двору. Отец тоже какой-то встревоженный. Уже позже я узнал, что это горела хата, в которой тогда проживала семья Антонюков (в селе их прозывали «Качурами»).
Помню и то, как мы в метель едем полем на санях (гринджолах). Это уже зимой родители, опасаясь, что и нас могут сжечь, бежали из Рогачёва в Киковский посёлок. Это было моё первое созерцание из оставшегося в памяти окружающего меня мира и какая-то нечёткая реакция на него. Моё же первое осмысление мира и себя в нём — мои раздумья над жизнью — сложилось где-то в конце марта или в начале апреля 45-го.
Итак, хотя прошло столько лет, а перед глазами такое: я сижу недалеко от порога на завалинке, греясь на солнышке, которое то прячется, то выкатывается из небольших тёмных туч; смотрю на белые сугробы снега с проталинами и в очень подавленном состоянии думаю: вот и мать умрёт, и отец умрёт, и я умру. И такая неведомая до того грусть и безысходность охватили меня, что трудно передать. Не знаю, почему я тогда так над этим задумался. Но думаю, что причиной этой грусти была смерть бабы Насти (18 марта 1945 года). Помню её только больной. Она лежала в постели, а я приносил ей воду, подметал пол, всегда крутился возле неё, чтобы чем-то помочь. Помню и похороны. В хате полно людей. Я тоже держу свечку. Но на руку капнул расплавленный воск, и я её выпустил. Баба любила меня и всегда уделяла мне что-нибудь вкусненькое, что ей, больной, где-то доставали. Наверное, вот тогда я впервые осознал, что человека ждёт смерть.
Моё детство, как и почти всех детей села, проходило в такой нищете, что даже странно, как я и все в семье выжили в те голодные годы. Как приходила весна, то одним из моих занятий было ходить с сестрой Надеждой за реку Случь и искать на берегу реки щавель. И не всегда удавалось нарвать его достаточно, ведь много детей его срывали. Поэтому ходили и на поля рвать так называемый «заячий» щавель. Ватагой ребятишек делали набеги и на колхозный огород. А однажды поймал меня в горохе Рудь (занимал в колхозе какую-то должность) и раза два дал мне по мягкому месту ремнём, который держал в руке. Он кричал на меня, и это меня очень напугало. Было это в 46-м году. Горох — это было лакомство, особенно варёный. Бывало, уже в сумерках с Надеждой нарвём две торбочки, принесём домой, а мать тут же сварит в большой кастрюле, и мы всей семьёй лакомимся. И всё же с 47-го по 49-й нам было несколько легче, чем другим. Тогда отец заведовал небольшой фермой (в 30-х годах окончил какие-то там курсы ветеринарии), так я с меньшим братом Николаем пойдём на ферму, а какая-нибудь из доярок и молоком нас угостит.
Да, это было летом 47-го. Мы уже попили молока и идём с фермы домой. Животы у нас наполнены и идти тяжеловато, Николаю и вовсе тяжело, потому что он ещё совсем маленький и к тому же у него большой живот, а руки и ноги тонкие. Отдыхаем в садике, что у дороги, — это всё, что осталось от хутора Матвейчуков — и идём дальше. Мы часто ходили на ферму, чтобы и молока попить. А потом отец стал кладовщиком. Вот тогда у нас и хлеба, кажется, было вдоволь, потому что я уже мог вынести из хаты кусок хлеба и дать кому-нибудь из своих друзей. Где-то в 49-м году отца сняли с этой должности. Знаю, что будучи на этой должности, он как мог помогал другим. И выручал. Однажды одна женщина, работавшая в кладовой, взяла льняное волокно (получается — украла) и понесла домой. По дороге её перехватили и обнаружили у неё это волокно. Но, на её счастье, кто-то из односельчан был свидетелем этого события и сразу же сообщил об этом отцу. Зная о объяснениях женщины, отец вписывает её фамилию в список тех, кто брал волокно домой, и подделывает её подпись. Вскоре появились те, что её перехватили. Отец подтвердил сказанное женщиной и подал им журнал. Это и спасло ту женщину от возможной тюрьмы.
Выручало нас и то, что у матери был ткацкий станок, и она часто и по ночам, при каганце, ткала на заказ полотно и ряднину. Я же как мог помогал ей в этом — сучил цевки. Сучили и другие, но больше всего эту работу приходилось выполнять мне, потому что я знал, что мои цевки лучше тех, что сучили другие. Мать меня всегда хвалила.
А однажды приходят из сельсовета и говорят: платите налог. А платить нечем. Тогда снимают со станка сувой полотна, который мать только что выткала, и выходят с полотном из хаты. Кому-кому, а матери доставалось.
Аж жутко, как, бывало, вспомню. Это же колхозные нормы, огород, хата, которую надо содержать в приличном виде, домашнее хозяйство, дети; изготовление волокна из конопли, прядение на прялке ниток из этого волокна и шерсти, выткать и сшить одежду — от штанов до свитки. Страшно! В тюрьме легче. К тому же — добровольно, это же не в тюрьме. Можно же было бы куда-то бежать, — даже в тюрьму. Как можно было такое выдержать?! Не знаю. Но странно и то, что в такой нищете молодые люди сходились, даже справляли какие-то там свадьбы. Люди были в такой нищете, имели столько хлопот, но «изготавливали» новых людей, доставляя себе дополнительные хлопоты. (Уже позже, в лагере, вспоминая тот период и анализируя жизнь голытьбы вообще, пришёл к выводу: голытьба, которая рожает детей, не заслуживает сочувствия. Разве стоит сочувствовать голытьбе, которой нечем накормить своих детей?! И их детям?! Ведь, повзрослев, они повторят содеянное родителями. Лучше уж посочувствовать голодной собаке. Так что если перед тобой голодные женщина с ребёнком и сучка со щенком, то брось кусок хлеба собаке — у неё «голова меньше»).
Иногда родители вспоминали своё детство, молодость. Так в их воспоминаниях были печёные поросята и всякие яства. И лошади свои. Для меня это было как что-то нереальное. Вспоминали урывками и 33-й. Отец часто вспоминал, как он шёл из Рогачёва в Новоград-Волынский, а на обочине лежали трупы. Это были те, которые добирались до города, чтобы спастись, но не хватило сил. Некоторые из лежавших ещё подавали признаки жизни. Один из них поднял голову и попросил: «Дай стакан молока — пойду дальше». Хлеба и не просил, потому что знал, что его ни у кого нет. Но где же было отцу взять тот стакан молока...
В 1947 году я пошёл в школу. Сестра Надя привела меня в класс (небольшую комнату сельсовета), посадила за парту. Вот и перемена. Я беру тетрадь и — домой. Подумал, что это уже конец уроков. Букваря у меня не было. И не только у меня, у многих не было. Так что стал читать где-то под Новый год, когда мне достали старенький букварь. Учился кое-как. А вот сказками увлекался, с наслаждением погружаясь в тот выдуманный кем-то мир. Первой сказкой, которую я прочитал и которая была для меня лучшей из сказок, это сказка под названием «Катигорошек». Читал с удовольствием и пересказывал сказки малышам. Мне это было не трудно, потому что в первые годы после прочтения какой-нибудь сказки я мог пересказать её слово в слово. (Всё же должен сказать, что все те сказки, мифы вредны, потому что с детства в подсознание человека закладывается возможное существование всякой чертовщины). А позже уже читал произведения, которые приносила себе сестра. Ни родители, ни учителя особого внимания мне не уделяли — учится, ну и пусть себе учится. Так что хотя отец ещё до школы обнаружил, что я плохо вижу (наследственная близорукость — от матери), но как-то так вышло, что никто не поинтересовался, вижу ли я что-то на доске. Учителя, наверное, и не догадывались. Я же молчал и даже не знал сначала, что нужно пользоваться очками, ведь в первые годы обучения очки в классе никто не носил. Возможно, что и приобрести их в те годы не так-то было просто. Из-за этого мне постоянно приходилось заглядывать к соседу в тетрадь, потому что что там было написано на доске (особенно по математике) — не видел.
Это, думаю, в какой-то мере сказалось на моей успеваемости в овладении знаниями, на моём желании учиться. А вообще-то и не помню, чтобы у меня была тяга к овладению теми знаниями, которые могла дать школа. Запомнились мне те дети, что учились в 40-х годах: голодные (некоторые, бывало, отнимали у других куски хлеба), оборванные, босые. Ярко запомнился и такой случай. Зима 49-го или уже 50-го. Кто-то во время перемены сказал, что на дороге, недалеко от школы, лежит мёртвый мужчина. Мы выбегаем из класса и бежим посмотреть на него. Это было недалеко, поэтому мы сразу увидели неподалёку от могилы павшим солдатам, что в центре села, какое-то чёрное пятно на снегу. Подбегаем и рассматриваем с любопытством и каким-то страхом неизвестного нам мужчину, который с несколько согнутыми ногами, почти ниц, лежит полуприсыпанный снегом. Посмотрели и бежим назад, оставив на шоссе в снегу никому не нужного мёртвого человека.
И ещё такая картина из тех лет: весна, снег уже сошёл с огородов, сошёл и с колхозного поля, что недалеко от нашей хаты за канавой (на нём в прошлом году росла картошка), а на поле полно людей. В основном дети и подростки. Все с заступами — ищем в земле прошлогоднюю картошку. Картошка уже сгнила, но из неё ещё можно испечь что-то похожее на драники.
Всё же, несмотря на эту крайне нищую жизнь, я не слышал, чтобы кто-то в школе сетовал на эту нищету, обвинял власть в том, что творилось вокруг. Наоборот, зачитывались произведениями, в которых прославлялись ЧК, красная армия, их борьба с кулаками за установление колхозного строя. Так что и я, как все, зачитывался произведениями советских писак, в которых только большевики-коммунисты боролись за справедливость, были теми, с кого надо брать пример. Постепенно, благодаря школе, прочитанным произведениям, кинофильмам, которые в то время были редкостью для нас (зато большим счастьем было попасть в зрительный зал; смотрели и через окно), мы становились советскими патриотами и были готовы повторить подвиги тех детей-партизан, о которых мы читали в книгах и которых видели в кинофильмах. Так происходило зомбирование детей, а родители и рта боялись открыть, потому что откуда им было знать, что их ребёнок не расскажет об этом кому-то в школе. Помню, что уже где-то в четвёртом классе я доказывал родителям о преимуществах колхозного хозяйствования над частным, о котором они так часто вспоминали. Но это было в теории, потому что когда отрывался от орудий зомбирования, то впадал в некую раздвоенность, вызванную тем, что было наяву — нашей нищей жизнью.
Возможно, что и мои родители боялись, потому что открыто не обвиняли власть, лишь в завуалированной форме. А так как в те годы постоянно звучало «Да здравствует товарищ Сталин!», то отец, просмотрев какую-нибудь газету, очень часто повторял: «Хай живе, пасеться, на кублі несеться!»
Но несмотря на просоветскую настроенность, я, в отличие от других, почему-то не признавал коммунистической атрибутики. Я не мог нацепить на себя пионерский значок и галстук. Для меня это было чем-то неестественным, лишним. Лишь однажды, когда фотографировался весь класс, принесли галстук и учительница с учениками, обступив меня, почти силой надели мне его на шею. Таким образом меня сфотографировали в галстуке. Мне до сих пор непонятно, почему я так тогда сопротивлялся. Возможно, у меня с малых лет было отвращение ко всяким знакам отличия и символике, которые нужно было носить на себе.
Попутно хочу сказать, что никто не причинил такого вреда, как школа, писатели, кинематограф. Они привили негативное отношение к частному хозяйствованию, к тем, кто за них же боролся. Они же привили и любовь к чекистам, советской армии, любовь к столице Москве. И какой бы талант ни был у тех Гончаров, Довженко и у тех Королёвых (лучше было бы, если бы тот Королёв не вернулся с той Колымы), которыми гордятся так называемые советикус и недоумки, этот талант не даёт оснований снять с них вину. (После содеянного большевиками-оккупантами, никакого творческого сотрудничества с ними не могло быть. Поэтому и не приходится очень сокрушаться о том «расстрелянном возрождении»). И чем больше талант — тем больше причинённого вреда. Лучше бы того таланта у них не было. Лучше было бы, если бы они работали в колхозе, а не носили «дулю» в кармане, одновременно восхваляя в своих произведениях всё то, что нужно было проклинать. И, наверное, лучше было бы, если бы дети вообще не ходили в школу. Хотя это, конечно, был бы парадокс. И всё же если бы украинцы, как и цыгане, меньше ходили в школу, то, наверное, они как нация сохранились бы намного лучше. (Правду сказал Премьер-министр Индии Неру: «Интеллигенция, воспитанная оккупационной властью, является врагом собственного народа»).
В апреле 1951-го мы всей семьёй выехали по вербовке в Одесскую область. Кроме нас, из села выехало ещё несколько семей. Выехал и брат отца Александр с семьёй. Все искали лучшей жизни. Возможно, родители не выезжали бы, если бы колхоз выдал им хотя бы то, что они заработали на те трудодни, которые имели за прошлый год. Но не выдали. А тут ещё радужная картина той жизни, которая их ждала — со слов вербовщика. К тому же, власть тем, кто переезжал, оказывала значительную (по тем меркам) материальную помощь.
В конце апреля нас доставили грузовиком на станцию Дубровка. Где-то через сутки загрузились в вагоны. Это был поезд из десятка вагонов, заполненных завербованными. Ехали в товарняке. Вагоны были с двухъярусными нарами по бокам от дверей, а посредине буржуйка и небольшая дыра в полу — туалет. Сверху два маленьких окошка. Наверное, в тех вагонах возили заключённых на север, а тут уже использовали для перевозки переселенцев. Ехали несколько дней. На больших станциях долго простаивали. В такое время запасались водой и топливом для буржуйки. В основном это был уголь, который крали из вагонов, стоявших на станции. А на одной из станций — то ли Казатин, то ли Жмеринка — прошли через санпропускник, приняв душ. В вагоне было где-то до пяти семей, и поэтому было шумно, я бы сказал, даже весело, хотя у каждого была какая-то грусть в душе, потому что остались родные места, родственники и друзья, с которыми уже неизвестно когда встретишься. Я с Надеждой в основном сидели на верхних нарах у окошка, смотрели на проплывающие пейзажи и часто пели тоскливые песни: нам было жаль того, что осталось уже где-то там, вдали. (Кстати скажу и о том, что хотя все мы имели какие-то способности к пению, но Надя и Андрей выделялись своими голосами. Особенно Надя, которая очаровывала слушателей исполнением лирических песен. Она была из тех, кто при благоприятной судьбе становился известной певицей).
Наконец, конечная станция — Буялык. Идёт распределение семей по сёлам. А точнее, по колхозам. Приходит и за нами грузовик. Погрузив своё имущество, едем в село Павлинку Ивановского района. Приехав, мы поселились в добротном доме под оцинкованной жестью, заняли одну из двух больших комнат; кухня была общей. Этот дом до постройки новой школы был одним из школьных помещений. Родителям скоро выдали дополнительную помощь для переселенцев. Так что с хлебом уже не было никаких проблем. Родители сразу пошли на колхозные работы, а я с Надеждой и Николаем — в школу. Кроме нас и семьи отцовского брата Александра и семьи из села Острожок, в Павлинке проживало ещё несколько семей — переселенцев из Западной Украины, которые прибыли в село несколькими годами ранее. Старшие из тех переселенцев своей речью несколько отличались не только от местных людей, но и от нас. Фактически у нас, прибывших с Житомирщины, в языке не было заметных расхождений с местными, а потому мы чувствовали, что местное население воспринимает нас как своих. Мы должны были уже насовсем осесть в этом селе. Нам и огороды на окраине села сразу же выделили, и дома от края этих огородов стали строить. Строительство шло довольно успешно, потому что уже в августе дома были выстроены. Оставалось всё то, что было связано с деревянными работами. Те дома, конечно, не предоставлялись бесплатно, затраты на них нужно было бы возвращать.
Мы — дети, постепенно врастали в то чужое для нас степное село. А когда настало лето, то сразу же почувствовали ограниченность в летних развлечениях, потому что если в Рогачёве в такую пору бегали на речку, на пруд или даже барахтались в канаве, когда после дождя было достаточно воды, то здесь искупаться было негде. К тому же лето было более жарким, безоблачным. Пруда ещё не было, и хотя искупаться можно было бы в сельском пруду, что недалеко от полустанка Кошково, мы, ребятишки, почему-то добирались до Куяльницкого лимана, что на расстоянии около семи километров. Так что бывало ватагой с местными ребятами идём степной дорогой до лимана, искупаемся там в очень солёной воде и идём назад. Ничего приятного в тех походах не было. Запомнилось, как и брату Николаю хотелось примкнуть к нашей ватаге. Отговариваю его, объясняя, что ему, малышу, это будет не под силу, но он всё равно бежит за нами. Тогда мы, чтобы оторваться от него, бежим с такой скоростью, что ему за нами уже не угнаться. Увидев, что мы уже далеко от него, Николай останавливается. Жаль брата, ведь ему тоже хочется побарахтаться в воде, но как же его брать с собой?
Тем летом я едва не умер. Это было уже в августе. Мы играли в футбол. Вспотели. Я достаю из колодца ведро воды и выливаю на себя. Вскоре какое-то недомогание, которое полностью сваливает меня с ног. Я днями лежу в комнате. Периодически галлюцинации: мяч, какая-то другая вещь из нормальной перерастает в огромную, потом уменьшается до исчезновения. Время от времени теряю сознание. Наконец меня везут в больницу в село Севериновку. Температура за 40. Где-то больше недели лежал в больнице, а когда мать пришла навестить в очередной раз, то ей разрешили забрать меня из больницы. Я ещё чувствовал слабость, но хотелось домой, и я был очень рад, что меня отпускают из этого чужого для меня здания. Незадолго до захода солнца мы уже были в Павлинке.
В сентябре нас перевели в старую хату на несколько комнат. В одной из комнат проживали владельцы этой хаты — уже совсем старенькие дед и баба, которых сын скоро должен был забрать к себе в Одессу. И они вскоре уехали, оставив нам ту хату, которая уже отжила своё. Хата стояла недалеко от клуба. А за огородом была школа. Место было неплохое. К тому же и садик был. Обзавёлся я здесь и друзьями — Колюнькой и Марком. Хата Николая, которого почему-то все звали «Колюнькой», была рядом. Мы ходили друг к другу. А Надя дружила с сестрой Марка. Ходили и их матери (отцы погибли) к нам. Бывая у нас, кроме прочего, рассказывали и о том, как им жилось раньше в послевоенные годы. Запомнилось, что мать Марка, чтобы как-то прокормить детей, переехала из города в село, а мать Колюньки, работая возле зерна (видимо, на гармане — кагаты зерна в степи), насыпала в сапоги зерно и таким образом приносила его домой.
Родители почему-то не собирались ждать, когда им построят новую хату, хотя было видно, что через год-полтора хата будет готова для вселения. Уже весной 1952-го, разузнав о хате в селе Севериновка, отец едет в Рогачёв и продаёт хату. Вернувшись — покупает в Севериновке. Почему он так сделал, объяснить трудно. Ведь нас никто не выгонял, жить было где. И хата в Рогачёве не стояла пустой. И к тому же Севериновка была в то время менее удобным местом для проживания, потому что автобусы в то время не ходили и добраться до Одессы на расстояние 40 километров можно было только на попутной машине, и то когда хорошая дорога (дорога ещё была грунтовой). Или через Павлинку до полустанка Кошково, на котором останавливался пригородный поезд. А это уже более 12 км. От Павлинки же было половина этого расстояния. Зимой у нас, бывало, ночевали переселенцы из Рогачёва, которые проживали в Севериновке на хуторе. Поздно вечером добравшись в Павлинку с полустанка, кто-то из той семьи ночевал у нас, а на рассвете отправлялся на Севериновку, таща за собой санки или закинув на плечи узел с покупками. Возможно, что желание общаться с этой семьёй и ещё двумя, одна из которых проживала в Севериновке, а другая в Александровке, что недалеко от Севериновки, и было причиной переезда.
Из Павлинки мы выезжали, когда абрикосовые деревья были уже в цвету. Жилище, которое купил отец, было половиной большого дома под жестью, вторую половину занимала семья бригадира колхоза. Соответственно этим половинам примыкали и немалые огороды, разделённые пополам невысокой каменной стеной. В конце этих огородов росло с полдесятка огромных старых груш и молодые деревья. Всё это было огорожено метровой высоты стеной из камня, ракушечника, добываемого на Одесщине. А за этим домом стояла ещё одна хата, от которой до села было метров 250. В той хате проживали Юхименко, с которыми наша семья дружила. Так что мы были как на хуторе из двух хат — между Севериновкой, которая тянулась по котловану вдоль западного берега, и хутором из нескольких десятков хат, который тянулся под высоким восточным берегом когда-то давно, видимо, большой реки, впадавшей в Чёрное море, а со временем ставшей Куяльницким лиманом, который был в нескольких километрах от села. А к северу от нас, за мостиком над речкой Куяльник, которая, огибая хату Юхименко и огороды, впадала в лиман (летом пересыхала), тянулся где-то вдаль ещё молодой лес.
И снова родители в колхоз на работу, а мы, старшие дети, — в школу. Для нас, детей, в Севериновке были значительные преимущества. Здесь мы всё лето купались у мостика в небольшом водоёме и в лесу в значительно большем. И в лес часто ходили, играли в разные игры, в основном, как правило, «в войну». Ходили и на помощь матери полоть нормы. А зимой было где на коньках кататься. По сравнению с Павлинкой здесь было проще, возможно потому, что мы были как на хуторе.
Вот тогда среди забав и незначительных шалостей я допустил поступок, вспоминая который жалел, что так поступил. А случилось тогда такое... Половина купленного отцом дома принадлежала семье, которую несколько лет перед этим вывезли из Карпат. Думаю, что это была принудительная перевозка. Тот хозяин по фамилии Савицкий, поселившись в том доме, поставил, как, видимо, было принято в его местности, фигуру — большой крест (где-то более трёх метров высотой) с иконкой распятого Иисуса на кресте. Крест стоял недалеко от дома в огороде, который примыкал к дороге. Я никогда не видел, чтобы вот такой большой крест стоял у хаты. Для меня он был как что-то чужое, отжившее, то, чему не может быть места у хаты. Это действительно было как вызов всему, что объявляло религию опиумом для народа. И странным было то, что крест стоял, а власть не предпринимала никаких мер, чтобы его снести. Мне такое было не по нраву, и я говорил отцу, что надо бы его снести, но отец сказал: «Мы его не ставили и сносить не будем. Пусть стоит». У креста я со своими приятелями часто играл в распространённую тогда среди детей села забаву: ставился столбик примерно из пяти небольших камней, которые клались один на другой. Взяв пальцами за конец плоского камня, с определённого расстояния бросали его, чтобы завалить этот столбик. Побеждал тот, кто добивался такого результата. (Мы любили эту забаву, а потому даже не пошли в школу, где передавали по радио похороны Сталина). Уже не помню, что меня подтолкнуло, но однажды я взял небольшой камень и запустил в распятие. Стекло с иконки посыпалось на землю. Это было где-то летом 53-го. Уже через годы, вспоминая в камере этот случай, я думал: зачем же я это сделал? Ведь нельзя ненавидеть того, кто против ненависти, нельзя бросать камень в то, символом чего является Иисус, нельзя бросать камень в Иисуса. Нет, я не был христианином, но понял, что это было несправедливо с моей стороны.
Что касается того хозяина, то он, перед тем как продать свою половину, построился на том хуторе, уже позже объяснив отцу, что там ему ближе к колхозному полю. И вправду: вышел на гору — и уже на поле. Не то, что нам около километра по открытой местности. Часто заходил к нам и его сын Михаил, даже фото сохранилось: он посередине, а Надя и Валя Юхименко по бокам. Позже эта семья уехала, видимо, вернулась в свой край на Ивано-Франковщину.
На Одесщине было уже несколько легче, особенно матери, потому что здесь не выращивали лён, картошку и некоторые другие культуры. Это был степной край, в котором основными культурами были пшеница, кукуруза, подсолнечник. К тому же, поля в основном обрабатывались техникой. А зимой (кроме работы на фермах) нечего было делать. Так что норм было уже значительно меньше. Это не то, что на Полесье, где зимой в неотапливаемых «пунктах» вручную перерабатывался на волокно лён. (Я заходил на такой «пункт» за кострикой. Видел, как даже в большой мороз в той пыли — вытяжки не было — работали женщины). Мать уже не ткала. Хотя уже и на Полесье выходило из употребления это ремесло, вступала в свои права цивилизация.
Но как была нищета, так и осталась. Жить можно было бы лучше, но для этого надо было воровать хотя бы с колхозного поля, а отец на такое не решался, он никак не мог приспособиться к жизни в колхозе. (Как и его брат Александр, уж слишком тонкая натура: когда надо было зарубить курицу, то курицу рубила его жена Христя). Даже сторож гармана, заметив, что отец никогда не берёт себе что-то в воз (иногда работал ездовым), был недоволен отцом и как-то сказал ему: «Мы вас боимся. Вы ничего не берёте». Уже позже, напоминая отцу сказанное сторожем, я даже упрекал его, что он не был более активным в добывании хотя бы съестных припасов. А проживая в Павлинке со своим братом Александром, вскоре разъехались по разным сёлам, вместо того, чтобы быть вместе, помогать друг другу в обеспечении семей с колхозного поля, а то и с фермы, на которой было достаточно мяса. Так что когда заканчивалась мука, смолотая из того зерна, что выдали на трудодни, приходилось брать на плечи молоко и ещё что-то, что можно было продать на рынке в Одессе, и добравшись пешком до полустанка Кошково, садиться на пригородный поезд и, распродавшись в Одессе и закупив хлеб, сахар и там ещё кое-что, добираться домой в обратном направлении.
В Севериновке мы пробыли до апреля 1954-го. Решено — возвращаемся в Рогачёв, ведь из переписки получали новости, из которых было видно, что жизнь в Рогачёве несколько улучшилась, не такая, какая была до нашего отъезда из села. К тому же отец стал часто болеть, и врачи говорили, что ему нужно сменить климат. Отец по Рогачёву скучал, видимо, и потому, что кроме прочего, у него же там было ещё двое сыновей от первой жены. А что касается матери, то ей не хотелось возвращаться, ведь знала, что её ждёт то, что она там оставила. Но всё же не очень отстаивала своё мнение. Нам же, детям, что: ехать, так ехать. Это даже интересно — снова будем путешествовать. Да и с бывшими друзьями встретимся, с которыми изредка переписывались. Так что в апреле, ничего не разведав, родители продают хату, и мы собираемся к переезду. Наконец всё, что можем взять, упаковано в мешки, и нанятым грузовиком выезжаем на станцию Буялык.
Выезжаем уже не в том составе семьи. Осенью Надя вышла замуж за Павла Назаренко родом из Александровки и переехала к нему в Одессу. Выезжаем, но с грустью на душе, потому что и Надю навсегда оставляем, да и здесь уже всё нам близко. С грустью расстаёмся, с кем дружили, играли в разные игры. Особенно с соседями, с которыми мы больше всего общались: с Ольгой и Павлом Юхименко. Но уже всё, надо ехать.
Соседи, пришедшие попрощаться с нами, остались позади, а собачка Джульбарс, которому где-то около года, бежит за машиной несколько километров, то отставая, а то снова догоняя. Отстала уже окончательно, когда выезжали из Александровки, поднимаясь из котловины в направлении на Буялык. Выгрузившись на станции, ждём поезд до Одессы. И тут отец, заглянув почему-то в один из мешков, обнаружил мою саблю, которую я тайком засунул, когда упаковывали вещи. Хотя эта сабля и была слишком ржавой, но мне не хотелось с ней расставаться. Но что поделаешь?! Выбрасывать всё-таки не стал, а тут же на станции засунул под дёрн в надежде, что позже всё-таки приеду и заберу. Утешало немного то, что на дне мешка лежит ещё немецкий штык, и я его всё-таки довезу до Рогачёва.
В Одессе на вокзале к нам подошла с мужем Надя. Плача, прощается с нами. Назад возвращаемся с комфортом. У нас отдельное купе, даже зеркала в нём. Везде чисто, комфортно, не то что было в том товарняке. По приезду в Рогачёв несколько недель жили у сестры отца Наталки. Отец искал хату, но в селе на продажу не было. Нашёл в Тартаке, перевёз и стал строиться на посёлке, что недалеко от техникума, который возник перед войной в результате ликвидации хуторов. Мы же перебрались от тёти, которая проживала тут же, на посёлке, в шалаш и жили в нём всё лето, пока не слепили ту маленькую хатку на две комнаты. Отец уже жалел, что вернулся, но некуда было деваться, надо было уже как-то устраиваться. И насколько всё было бы проще, если бы хата не была продана, и мы, вернувшись, поселились бы в своё жилище. А так — и строиться надо, и на работу в колхоз надо выходить, и есть что-то надо.
В школу я уже не стал ходить, всю осень помогал отцу ухаживать за телятами. А уже следующие два года, в тёплое время, работал в техникуме на разных работах и на строительстве колхозных свинарников. Конечно, заработки были мизерные, и я не мог оказать семье материальную помощь. Того заработанного и мне не хватало на прожитие. Нас в значительной мере выручало то, что недалеко были колхозные поля, и мы с отцом что-то таскали оттуда. В основном картошку и свёклу. И больше зимой из кагатов, потому что на санках было намного легче. Это мы делали довольно часто. А вот что касается доставки зерна или какой-то живности на мясо, то для отца это было под «табу». Я как-то спрятал недалеко от хаты, в кукурузе, около десяти мешков ржи и пшеницы. Как стемнело, мы с братом Николаем всю ночь переносили то зерно. Когда шли с последней ношей, то уже светало. А отец лишь недовольно ворчал, пугая нас тюрьмой. Но когда прошло какое-то время, то он не скрывал удовольствия, что зерном обеспечен.
В те годы лучшим был для меня 1957-й год. Купив весной новый велосипед, я со своими приятелями, чаще всего с Анатолием Ковальчуком, гонял по селу, на речку, в лес на качели за селом Рудня, где постоянно собиралась молодёжь. Ездил с кем-то из приятелей и в соседние сёла — просто познакомиться с какой-нибудь девушкой, которая больше по душе. Те девушки были как для ребёнка игрушки — чем больше, тем лучше. Ни до чего серьёзного с ними не доходило. Ни одной из них я не говорил, что она мне нравится. И ни одной не приносил цветы. Все те знакомства были просто забавой, приятным времяпрепровождением. По-другому и не могло быть, потому что с детства образцом для меня был «Сагайдачный, что променял жену на табак и люльку». (А всё же должен сказать, что в детские годы три раза влюблялся в русоволосых девочек. Последней из них — той гордой девушке (это про таких: «…Ой, ты, дивчинонько гордая!»), признался, когда ей уже шёл 72-й год. И хорошо, что так поздно, потому что такое могло бы закончиться тем, чем оно обычно заканчивается. Но разве стоит о таком писать?! Ведь это физиология. Когда видишь парочку, замершую в объятиях друг друга (в годы моей молодости такого не было), то сразу же возникает ассоциация с такой же парочкой лягушек, замершей в болоте. Конечно, это был бы ещё один рассказ о влюблённости. Но в нём не было бы ничего нового, потому что сколько было и есть людей — столько и историй о любви. И все они сшиты на один лад. Нюансы не стоят внимания. Скажу лишь, что если бы люди ходили голыми, то было бы меньше поэзии — обмана).
А работал я на строительстве (достраивали вторую половину) Рогачёвской средней школы. Кстати, на месте этой школы раньше было кладбище и стояла церковь «Рождества Богородицы», которая в 1796 году уже существовала, но когда была построена, остаётся неизвестным. Известно лишь то, что день её освящения 21 сентября, который и по сей день село ежегодно отмечает как «Праздник». Когда же то ли в 1929-м, то ли уже в 30-х годах церковь коммунисты разобрали, то и старое кладбище перестало существовать.
Рабочий день был 8-часовой, а потому времени на гулянки хватало. Да, это был лучший год, и больше такого года не было. Я как будто предчувствовал, что больше такого не будет, потому что помню, как уже осенью, возвращаясь вечером из Острожка и присев на отаву, я сказал своему приятелю, с которым я тем летом работал вместе и гонял везде, Анатолию Ковальчуку: «Больше такого лета не будет».
Уже в январе 1958-го года я поступил в строительную бригаду плотников и до самых морозов работал в этой бригаде: делали для коровников и «пункта» крыши, двери и окна. Работали по договору, поэтому работали от восхода до заката. Много времени на гулянки уже не было. Но зато под руководством своего дальнего родственника, Андрея Кострицы, который был незаурядным столяром и плотником, быстро овладел плотницкой и столярной профессиями и стал самостоятельно делать двери, окна и другую работу. Той осенью я должен был идти в армию со своими сверстниками. Но не довелось. Они пошли, а мне выдали серый билет (из-за близорукости забраковали). Хотя я очень хотел пойти в армию — меня тянуло к оружию. Да и как-то неудобно было перед другими: те пошли, а тебя забраковали. А забраковали меня не впервые. Уже было такое. Осенью 57-го я со своими приятелями Николаем Тимощуком и Андреем Дилодубом решили ехать на Донбасс в ФЗО. Нас привезли в Житомир на сборный пункт. Проходим медкомиссию. Зная, что из-за близорукости меня могут забраковать, я послал к окулисту одного из парней. Это удалось, и казалось — уже всё позади. Захожу к последнему врачу, «ухогорлоносу». Врач заглянул в нос и говорит: в носу полип. В ФЗО не поедешь, потому что сначала надо прооперировать, а тогда уже можно будет поехать. Мои просьбы (ни моим приятелям, ни мне не хотелось расставаться) ничего не дали. Пришлось возвращаться домой.
Уже поздней осенью всё, что было в договоре, бригада выполнила. А дальше работать в колхозе у меня желания не было, не хотел быть колхозником, которым стал автоматически (как когда-то сыновья крепостных), без заявления о вступлении в колхоз. Я стал думать, как выбраться из села и устроиться на работу где-нибудь в городе. Обратился в сельский совет, чтобы сняли с прописки. Паспорт у меня уже был, потому что когда мне не разрешили ехать в ФЗО, то друзья, которых я проводил до вокзала, уже на вокзале упросили сопровождающего отдать мне паспорт. Тот паспорт был без прописки, а следовательно — недействительным. Ничего не оставалось, как прописаться в Рогачёве. Так что теперь стоял вопрос выписки. И закрутилось. Я в сельсовет, а председатель сельсовета в колхоз посылает, потому что в паспорте стоит «колхозник». «Пусть председатель колхоза даст справку, тогда и выпишу», — говорит председатель сельсовета. А тот не даёт. И стал я ездить в Барановку, в Житомир: в райком, райисполком, обком. И всё напрасно. Тогда — а это уже было где-то в апреле 1959-го — написал я письмо первому секретарю ЦК КПУ Подгорному. Написал, что у меня в Одесской области невеста, что мне нужно переехать к ней на постоянное проживание, что мы не можем пожениться, потому что меня не выписывают из села. Уже и не очень надеялся. Но во второй половине мая, случайно встретив меня в центре села, подходит ко мне председатель сельсовета и говорит:
— Приносите паспорт. Я выпишу.
— А справка? — спрашиваю.
— Уже не нужно, — отвечает председатель.
Наверное, там, у «Первого», подумали: а какая для нас разница, в каком колхозе он будет работать? Пусть спариваются и производят нам колхозников.
Так, только путём обмана, удалось выписаться и уже иметь возможность свободно передвигаться по стране.
Взяв справку с места работы (уже месяца два работал на автодороге на участке Рогачёв — Довбыш, изготавливая бетонные круги для мостов), в первых числах июня поехал в Житомир и после двухдневного поиска (ночевал на вокзале), устроился плотником в НГЧ («начальник гражданской части» — один из отделов управления железной дороги, который ремонтировал здания и сооружения, принадлежавшие железной дороге).
Прибыв 9 июня в НГЧ (небольшой дом, в котором кроме конторы НГЧ было несколько комнат под общежитие), поселился в общежитии. Окна в комнате выходили к путям станции. В комнате нас было двое, хотя стояла и третья кровать. Но фактически комнату я занимал один, потому что мой сожитель Василий Головня проживал возле Мартыновки и после окончания работы, как правило, уезжал пригородным поездом домой. Это меня устраивало, только долго не мог привыкнуть к грохоту поездов за окном.
Всё было бы более-менее нормально, если бы не тот мизерный заработок, которого со временем не стало хватать и на нормальное питание.
С похолоданием объём работ уменьшался и соответственно уменьшался и без того малый заработок. Хорошо, что у меня была одежда и обувь, так что ещё мог как-то выкручиваться. Но надо было что-то делать, чтобы улучшить своё материальное положение. Поэтому я стал искать другое место работы и в январе 1960 года устроился на мебельный комбинат плотником по ремонту цехов комбината. Но оставив НГЧ, пришлось и общежитие оставить. Побыв около двух недель на квартире у одного из рабочих комбината, нашёл, наконец, квартиру для проживания с пропиской. Это был частный дом на углу улиц Восточной и Котовского, что напротив школы, в которой я с сентября учился в 8 классе вечерней школы. (В школу пошёл потому, что понял: для того чтобы иметь лучшее место под солнцем, нужно работать локтями, а без какого-то диплома такое место не добудешь). И всё же смена места работы не сняла тех проблем, что преследовали меня. В какой-то мере те проблемы можно было бы решить так, как это делали некоторые парни, женившись на какой-нибудь из житомирянок. Но мне такое не подходило. К тому же в мои планы никак не входило обзаведение своей семьёй. Семьёй для меня были мои родители, братья, сёстры.
В комнате, в которую я вселился, моим сожителем стал Владимир Тарасюк. Мы занимали отдельную комнату у старых хозяев. Благодаря Владимиру я и поселился в это жилище. Работая со мной в одной бригаде и узнав, что у меня проблемы с жильём, Владимир предложил мне поселиться в комнату, которую он уже снимал. Он тоже из села — с. Салы Черняховского района. Был и в ФЗО. Как оказалось, в том же, что и мои приятели, которые поехали без меня осенью 57-го года. Как и мне, ему тоже приходилось думать, как свести концы с концами. Мы бедствовали, потому что и на мебельном комбинате заработок был мизерным, и не только у нас. Такой заработок был у большинства из тех, кто был на второстепенных или подсобных работах. Мне запомнился разговор двух мастеров, который они вели в кабинете в моём присутствии: «Надо что-то делать, — говорит один другому. — Девушки не пошли в столовую на обед, стоят у костра, едят один хлеб и запивают водой». Эти девушки тоже из села. Они на морозе, в метель работали подсобницами на строительстве нового большого цеха. Жили где-то на квартирах, бедствовали, но были рады, что вырвались-таки из колхоза. И так было везде в городе. Я уже думал: а может оставить Житомир и податься на поиски лучших заработков? Но и школу не хотел оставлять, и где тот лучший заработок искать зимой? И в село возвращаться никак — кто же из города возвращается в село?!
Оставалось одно — ограбить какой-нибудь магазин. И я стал ходить по городу и подыскивать магазин, который легче было бы ограбить. С Владимиром не делился своими мыслями, потому что видел, что вряд ли он пойдёт на такое. Моя голова была заполнена не только планами ограбления. Я всё больше стал задумываться над самой жизнью, над её никчёмностью. Ну, что это за жизнь, когда ты вынужден день за днём к такому-то часу являться на предприятие или в какую-то контору, если получил соответствующее образование. И так до самой пенсии, до старости. Ты как собака на привязи. Разве это жизнь?! Это не жизнь, а одна работа. Меня такое не устраивало. Ведь время, проведённое за работой — это время утраченной жизни. Вот было бы как когда-то! Была бы Запорожская Сечь — подался бы туда — думал я, сидя за партой. Хотя какая для меня была бы Запорожская Сечь с моей близорукостью — в первом же бою зарубили бы или подстрелили бы.
Было это где-то в начале апреля. Огнестрельного оружия у меня не было, но в селе был привезённый мной из Одесской области штык. Я не поехал за ним, а попросил привезти тот штык своего брата Николая, который недавно прибыл в Житомир по направлению из колхоза для обучения на тракториста. Он выполнил мою просьбу. Конечно, тот штык я собирался применить только для запугивания, ведь колоть им я не собирался. Поэтому и наметил два магазина, в которых было по одной продавщице. Один из них недалеко от железнодорожного вокзала, а второй на Житнем рынке. Тот, что на Житнем рынке, казалось, был более подходящим для нападения. Понаблюдав один вечер за магазином, я на второй вечер уже пришёл со штыком. Став у пустых торговых рядов, наблюдаю за магазином и вокруг. Уже совсем стемнело. В магазине светилось. Людей нигде не видно. Но я почему-то колеблюсь. И тут ко мне подходит какой-то мужчина. Сказал, что он сторож на рынке, и спрашивает меня:
— Чего ты тут стоишь?
— Я договорился здесь встретиться, но что-то его нет, — отвечаю ему.
— Уже всё закрывается, и посторонним здесь быть нельзя.
— Наверное, он уже не придёт, — я ему на то и ухожу с территории рынка.
Думаю, что даже если бы я не был причастен к политическим делам, то рано или поздно, но «криминальных» дел, а значит и тюрьмы, мне было бы не избежать. Почему криминальных — в кавычках? А потому, что я не считаю, что во время хозяйничанья в твоей стране оккупанта, нападение на какого-то чиновника, на магазин, на фабричную или колхозную кассу и т.п. — является криминальным делом. Независимо от того, будет ли эта экспроприация на нужды политической деятельности или на личные нужды.
Но случилось такое, чего, казалось бы, и не могло быть в Житомире, да ещё и в той школе, где я учился. Вечером 4 марта 1960 года возле школы были распространены листовки. Во время перемены ученики занесли их в класс. Одну из них я взял себе. Это была листовка российской зарубежной организации НТС (Народно-трудовой союз). Вскоре в классе появился представитель КГБ и обратился к присутствующим с требованием сдать ему листовки. К нему стали подходить и отдавать. Я не отдал. В тот же вечер эту листовку прочитал мой сожитель Владимир Тарасюк. А на другой день прочитал и хозяин дома. Давал я ту листовку прочитать и Борису Жовтецкому, который учился со мной в одном классе. (Жовтецкий поляк, его деда раскулачили, а во второй половине 30-х расстреляли). А будучи через несколько дней в НГЧ, дал прочитать и Петренко, с которым приходилось вместе работать.
После прочтения листовки хозяин дома стал заходить к нам в комнату и рассказывать о событиях в Житомире в те бурные 17-20-е годы. Рассказывал и о тифе в петлюровском войске, и как жилось в Житомире в те годы. Выражал и своё недовольство существующими порядками. Бывало, приду из школы, а он рассказывает Владимиру о прошлом. А как-то так разошёлся, что рассказывал нам до самого утра.
Прошло где-то с неделю, как я принёс листовку. Однажды вечером прихожу из школы, а Владимир сидит за столом и что-то пишет. Спрашиваю его:
— Что ты там пишешь так поздно?
— Листовку, — отвечает Владимир.
— Ну и что ты там написал?
Владимир читает написанное им. Оказывается, во всём виноваты жиды. О коммунистах — ни слова.
— При чём здесь жиды?! Если кого-то обвинять, то коммунистов, — говорю ему. — А если ты так хочешь выпустить листовку, то давай я тебе помогу. Можно частично использовать и ту листовку, что я принёс.
Владимир соглашается, и мы тут же взялись за написание листовки. Мы долго не мудрили над ней, и в тот же вечер или уже ночью текст листовки был готов.
— Ну что ж, давай погоняем КГБ, — говорю Владимиру, потому что я уже тоже загорелся мыслью распространить по Житомиру и свои листовки.
Итак, Владимир покупает бумагу и по вечерам, изменив почерк, в перчатках пишет листовки. Через какое-то время несколько десятков листовок заготовлено. Решаем, что пока достаточно. И вот вечером 19 марта я беру около десятка листовок, еду трамваем на железнодорожный вокзал, где-то там прикрепляю листовку и идя по Киевской улице до Восточной, наклеиваю листовки на столбы. Последнюю приклеил к столбу, повернув уже на Восточную. Возвращаюсь на квартиру, где Владимир уже ожидал моего возвращения. Берём все листовки, клей, кнопки и, стараясь не привлекать к себе внимания, ходим до часу ночи по улицам в центре города и развешиваем. Всё прошло нормально. Хотя в конце листовки стоял лозунг «Долой коммунистическую систему гнёта и террора», мы выполняли эту работу как какое-то будничное дело — как забаву, ведь мы не замахивались на что-то большое, на достижение каких-то изменений в стране, а тем более — на революцию. Всё было просто: Владимир был недоволен мастером, который ему не насчитал ту зарплату, которую обещал, а я — лишь бы побегали. Конечно, я не думал тогда, что на нас могут выйти, и тогда они побегают, а мне придётся долго сидеть. Хотя для нас эта акция была будничным делом, но, распространив листовки, мы решили, что через неделю-другую распространим новую партию листовок. Пусть побегают.
Всё шло своим ходом. Никаких изменений. Только Владимир перешёл работать в магазин грузчиком, поэтому мы уже вместе не работали. Значит и мало общались. Не знаю, распространили бы мы вторую партию, потому что чувствовалось, что у Владимира тот запал, который был, особенно, в тот вечер, когда он составлял листовку против жидов, уже пропал. И не удивительно, потому что не только у меня, но и у него были личные хлопоты, связанные с нашей нищей жизнью. Надо было думать, как улучшить своё материальное положение.
Шёл апрель. Уже веяло весной. В один из таких тёплых солнечных дней, когда уже были большие проталины, я рубил во дворе дрова. Тут ко мне подходит хозяин дома и говорит:
— Надо будет вас выписывать. (Уже не помню: в связи с тем, что собирались продавать, или что-то переделывать в доме).
В его голосе чувствовалась какая-то неловкость, что ему приходится об этом мне говорить. И в то же время какая-то враждебность. Чувствую, что он не в своей тарелке. Было несколько странно слышать это от него, потому что до сих пор в его голосе никогда не чувствовалось неприязни. Что ж, снова у меня хлопоты с поисками нового жилья.
— Хорошо, тогда я буду искать себе жильё, — говорю хозяину.
Где-то в те же дни, наведавшись после работы в НГЧ, встретился с начальником НГЧ Дубининым.
— Что там у тебя случилось? — спрашивает Дубинин. — Тобой интересуется милиция.
— Ничего не случилось, — отвечаю.
Ну, милиция — не КГБ. Мало ли почему они там могут мной интересоваться, подумал я. К тому же я был уверен, что КГБ на нас не выйдет, потому что мы никому об этом не рассказывали и не оставили никаких следов. Встретился во дворе НГЧ и с Наденькой Котенко (шестнадцатилетней дочерью мастера НГЧ). Она, увидев меня, подбежала ко мне. Весь её вид говорил, как она рада встрече со мной. (Где-то недели за две до этого я случайно вечером встретился с ней у кинотеатра «Украина», и её подруга при ней говорит мне: «Надя в тебя влюбилась». Я тогда пообещал, что как-нибудь сходим в кино).
— Когда сходим в кино? — спрашиваю Наденьку.
— Когда хочешь, — отвечает.
— Ну, тогда в пятницу.
— Хорошо, — говорит она и, с сияющим от радости лицом, отбегает от меня.
Это было в понедельник. А в среду, 13 апреля, хмурым утром, как всегда где-то в полвосьмого вышел из дома и пошёл не по улице Котовского, чтобы коротким путём, через пролом в заборе проникнуть на территорию мебельного комбината, а по Восточной, чтобы на Киевской зайти в магазин и купить что-то из продуктов. Едва вышел на Киевскую, как ко мне подошли двое мужчин. Спросили фамилию. Я ответил. Они тут же сказали мне садиться в машину, которая уже стояла рядом.
— Мы из КГБ, нам надо с вами поговорить, — говорят мне.
Сажусь в «Победу» — и вскоре я в одном из кабинетов КГБ. Начинается допрос. Пока без бумаги. Вежливо расспрашивают о том, о сём и переходят к листовкам в школе. Спрашивают, кому-нибудь давал читать листовку. А потом и о листовках, распространённых мной и Владимиром. Говорят, что им всё известно, что Тарасюк во всём признался. Я понимаю, что от принесённой из школы листовки я не смогу отказаться, потому что она в комнате, а потому рассказываю, как она попала мне в руки. А о том, что кроме Тарасюка давал читать хозяину дома и другим — ни слова. Правда, о хозяине дома они ничего и не спрашивают. Стою на своём: больше ничего не знаю, и никаких листовок с Тарасюком не изготавливал и не распространял, хотя понимаю — Тарасюк обо всём рассказал. Они своё, а я — своё. Уже и обед. Приносят в кабинет батон, с полкилограмма колбасы, бутылку лимонада. Я обедаю в их присутствии. Снова: признайся, нам лишь нужно знать, как всё было. Выясним — и вас выпустят. Вас же таких двое на весь Советский Союз. И так до сумерек. Вечером отвозят в КПЗ (камера предварительного заключения). Сижу один в камере. В камере нары, а в углу новый оцинкованный бачок — параша.
На другой день снова в кабинете КГБ. Снова те же вопросы и те же ответы. Ещё одна ночь в КПЗ. В пятницу, уже где-то в обеденное время, решил подтвердить показания Тарасюка. Возможно, это решение было правильным, потому что хотя у них не было кроме показаний Тарасюка, никаких доказательств (развешивали в перчатках), но я понимал, что не верить ему у них не было оснований. Тем более, что они при обыске изъяли листовку, которую я тогда не сдал представителю КГБ. Решил: надо признаваться. Выпустят (обещали), так выпустят. А нет, так, может, меньше дадут, учитывая признание и раскаяние. После того, как я признался, тут же составили протокол допроса и сразу же отвезли «Победой» в тюрьму. Поместили на первом этаже в маленькую камеру с прикреплённым к стене маленьким столиком. Я уже думал, что вот в такой камере и буду сидеть. Но на другой день меня ведут по металлическим лестницам на третий этаж спецкорпуса (теперь там сидят пожизненно заключённые), и я захожу в одну из камер по левой стороне коридора. Камера на трёх человек. Моя металлическая кровать у окна. В камере тепло. Матрас и постель нормальные. В камере двое мужчин. Их лица не такие, как у людей на воле: какие-то бледные с желтоватым оттенком. Сколько им лет, трудно определить. Для меня, 20-летнего, они уже почти люди пожилого возраста. Фамилия одного из них Исаев, а второго — Михальченко. По рассказу Исаева, они прибыли из лагерей, что на Севере, потому что против них возбудили новые дела. Они, как и я, под следствием. В лагерях уже где-то около 15-ти лет. В прошлом — полицаи.
В камере есть книги, шахматы, а к той еде, что дают три раза в день, можно прикупить и продукты из тюремного ларька. А также передачу продуктовую получить. Вскоре приходит работница библиотеки, я и себе выписываю несколько книг. Значит, можно жить: читаю книги, изредка играю в шахматы с Исаевым и время от времени совершаю поездки в КГБ на допросы. Хотя какое там «дело»: следствие быстро закончилось, и я жду суда. Полицаи ведут себя по-разному. Если Исаев балагур, играет в шахматы, читает книги, рассказывает не только о лагерях, но и о том, как он в сёлах, будучи полицаем, жёг хаты, и всё это бодро, без какой-либо грусти, то Михальченко не играет в шахматы, не читает, ни о чём не рассказывает и ни о чём не спрашивает. Он в каком-то подавленном состоянии. На его лице никаких эмоций. Если Исаев спросит его о чём-то, то он ответит одним или несколькими словами, и на том всё. Со временем Исаев стал наглеть.
— Кто ты такой?! — говорит мне. — У нас сёла сожжены, нас расстрел ждёт. Почему ты здесь с нами?! Тебя подсадили, мы тебя ночью задушим.
Приходилось соглашаться, что действительно — кто я такой по сравнению с ними. Но объясняю, что меня не подсаживали. А почему меня посадили к ним, я не знаю. Михальченко же молчит — от него ни слова. Мне и в голову не приходило, что Исаев «стукач», что он докладывает в КГБ и о Михальченко, и обо мне. И как я мог думать, исходя из своего дела, что кого-то там будет интересовать моя особа, ведь и так всё известно. Михальченко, без сомнения, знал, кто такой Исаев, но почему-то ни слова об этом не сказал мне. Он сидел себе отстранённо от нас. А может он ещё на что-то надеялся? Как-то на очередном допросе в КГБ следователь лейтенант КГБ Фомичёв спрашивает меня:
— Как там твои сокамерники, как тебе с ними сидится? Может, перевести в другую камеру?
— Нормально, — отвечаю ему.
Мне хоть и не хотелось быть с ними в одной камере, но и не хотелось из неё уходить, выставив сокамерников с негативной стороны. Я почему-то считал, что даже в таких случаях заключённому не стоит проситься в другую камеру. К тому же, откуда известно, в какую камеру тебя переведут.
Иногда, выбрав момент, становился на кровать и выглядывал в окно. (Тогда на окнах ещё не было ни «намордников» — так называли щит, закрывающий окно, — ни жалюзи). Так что было видно город. Запомнилось, как однажды выглянул, а там слегка крутит метель, вдали какое-то строение в лесах, а на них фигурки людей. Не позавидовал я им, что они на воле. Там тяжёлая работа на холоде и, видимо, голодно, потому что знаю, какая у них зарплата. Мне здесь лучше — думал я. И тепло. И не работаю, а интересную книжку читаю (о викингах на Руси). Только грустно было, что где-то там и брат Николай бедствует, потому что родители ему ничем не помогут. Это было видно по той передаче, которую я получил от них. Где-то уже в мае открывается кормушка, и Михальченко вручают обвинительное заключение. Берутся там что-то читать, но, возможно, из-за слабого зрения им трудно читать, поэтому Исаев предлагает, чтобы я читал, а они будут слушать. Я взял это обвинительное заключение — перечень поступков, за которые Михальченко будут судить, — стал вслух читать. А Исаев с Михальченко впились мне в лицо, наблюдая за моей реакцией на прочитанное. Ещё пока я читал о том, как Михальченко, будучи полицаем, стоял на обочине и рассматривал колонну военнопленных, которая шла по дороге, о том, как встретились глаза Михальченко с глазами переодетого в солдатскую униформу комиссара, и даже как Михальченко восемь километров бежал по заснеженному полю за комиссаром, и, будучи не в силах догнать (комиссар оказался довольно прытким), скинул сапоги и уже босым догнал комиссара и всадил ему пулю из винтовки (до того не делал ни одного выстрела), то голос мой был ровным. Но когда я начал читать, как он бросал в толпу, преимущественно из женщин, гранаты, строчил из пулемёта, то голос у меня задрожал, и я перестал читать. Передо мной сидели двое, один из которых совершал такое немыслимое в своей жестокости. Они отвели глаза. Михальченко склонил голову. Было понятно: он уже не сомневается в том, какой ему будет приговор.
Вскоре и мне принесли обвинительное заключение. Ждём вызова в суд. И вот забирают на суд Михальченко. Уже два дня идёт суд. Вернувшись, он кое-что рассказывает Исаеву. Говорит и о том, что в суде были его сын и жена, что ему с ними удалось немного поговорить.
На третий день — это было 26 мая — забирают и меня в суд. Мы вместе выходим из камеры. Нас привели в большую камеру с решёткой. Это камера для этапников. Нас двое. Ходим туда-сюда в ожидании конвоя, который отвезёт нас в суд. Не разговариваем — о чём говорить?! Каждый думает о своём. Но вот ко мне подходит Михальченко и, протягивая мне тёплые рукавицы с двумя пальцами, говорит:
— Возьми, они тебе в лагере пригодятся. Я хотел бы передать сыну, но не разрешат.
— Нет, я не возьму, уже лето, и рукавицы мне не нужны. И может, меня ещё освободят, — говорю Михальченко.
Я понимал, что рукавицы ему уже будут не нужны, и он хочет, чтобы что-то осталось у кого-то от него на память. Но разве я мог натянуть на свою руку рукавицу, в которой была рука, бросавшая гранаты в толпу? Не знаю, понял ли он, что крылось за моим вежливым отказом. Но по сей день жалею, что не расспросил его, что такое совершил тот комиссар, что он даже разулся, чтобы догнать его и увидеть страх смерти в глазах комиссара. (Меня забрали первым, и я его больше не видел. Михальченко расстреляли, о чём уже в 1963-м я узнал от старшего лейтенанта Фомичёва).
Меня и Тарасюка «воронком» привезли к зданию суда, которое тогда находилось в начале улицы Щорса. Мы сидели на одной скамье. Комната судебного заседания небольшая. Присутствующих было немного. Это те, кто видел на столбах листовки, и девушка, у которой в классе я выхватил листовку. Заседание суда прошло быстро. Мы кратко рассказали о содеянном нами, сказали, что сожалеем, что такое совершили, что больше такого не будет, и просили не лишать нас свободы. Зачитали приговор: мне 3 года, а Тарасюку 2 года ИТЛ (исправительно-трудовых лагерей) общего режима. После зачтения приговора к нам кто-то подошёл и сказал, чтобы мы не подавали кассационных жалоб, потому что меньшего срока не будет. Мы так и сделали.
Нас отвезли в тюрьму. Я попал в камеру уже осуждённых. Эта камера находилась в том же коридоре, недалеко от той, в которой я сидел. Камера такая же, как и предыдущая. В камере двое: Пётр Гречко — руководитель Копищанской (Олевского района) секты трясунов — пятидесятников. По обвинению в причастности к жертвоприношению (там где-то погиб ребёнок) — дали 15 лет. Второй — Машке, фольксдойче, служивший в полиции. Его отцу удалось избежать ареста, и он находился в Западной Германии, а ему не повезло убежать, и он получил 20 или 25 лет и был отправлен на Воркуту. В заключении уже 15 лет, а ему на вид лет 35. Он служил в полиции на Житомирщине, и когда возбудили дело против кого-то из полицаев, то его привезли из Воркуты в Житомир для каких-то там показаний. Это был интересный человек, не похожий на тех, с кем я сидел до суда. К тому же оказалось, что на Воркуте, выйдя на расконвойку, он женился на дочери жителя Каменного Брода (7 км от Рогачёва), с которым я весной 1959 года работал какое-то время на участке автодороги Рогачёв — Довбыш, сажали саженцы на обочине дороги. Во второй половине 50-х годов она выехала по вербовке в Воркуту, где они поженились. Но его снова взяли под конвой (поместили в лагерь), и семья будто бы распалась. Это от него я впервые услышал о Виннице, о тех раскопках, куда он ездил — о тысячах расстрелянных НКВД-истами в 1937-38 годах, о созданном НКВД парке с качелями на ямах ещё не истлевших трупов. Рассказывал и о том, что творилось в лагерях, особенно во второй половине 40-х годов. О том, как утром выносили из барака трупы заключённых, умерших от голода и холода, и «штабелировали» за бараком в те дни, когда свирепствовала пурга. И о бычке чёрной масти, которым вытаскивали трупы в тундру, сперва согласно требованиям инструкции пробив на вахте череп. Рассказывал и о том, как по ним стреляли с вышек из пулемётов, о гибели заключённых, о доходягах, которым уже трудно было даже муху согнать с лица, о случаях людоедства (на трупах иногда обнаруживали срезы). Несмотря на пережитое, на долгие годы, проведённые в заключении, он всегда был в бодром состоянии, подвижным, своим поведением больше похожим на человека, который недавно попал за решётку и надеется, что скоро выйдет на волю. Что касается Гречко, то он почти ни с кем не вступал в беседу, держался отстранённо. Возможно, это было связано с тем, что он был сектантом, к тому же человеком уже в годах.
Долго мне не пришлось сидеть в той камере, потому что где-то в первых числах июня меня и Машке забрали на этап. Машке знал, что на Воркуту его возвращать не будут, потому что политические лагеря там закрывались, а остатки заключённых оттуда уже вывозили. Не знал только, куда везут: в Мордовию или Тайшет.
Это был хороший солнечный день. Обеденное время. «Воронок» остановился неподалёку от первого пути железнодорожного вокзала, рядом со столовой, в которой я питался, когда работал в НГЧ. Выйдя из «воронка», иду к вагонзаку. По бокам на небольшом расстоянии конвой. Знакомая для меня картина, потому что не раз приходилось видеть, как на вокзале в окружении конвоя проходят люди. Среди них и совсем молодые парни и девушки, которые заходят в металлическую коробку «воронка». Увиденное вызывало у меня грусть, какое-то сочувствие и жалость к ним. Я иду и поглядываю на людей, которые проходят или стоят, глядя на это зрелище. Никого из знакомых не вижу. И хорошо, потому что мне не хочется, чтобы кто-то видел моё унижение, я ещё не свыкся с положением заключённого, не стал безразличным к созерцающим. Поднявшись быстро в вагон, захожу в за решёченное купе. Там уже сидят заключённые. Среди них и Владимир Тарасюк. Заходит в купе и Машке. Я с Владимиром снова вместе, но уже не в комнате, а в купе вагонзака — едем отбывать срок.
Ещё когда находился под следствием, я думал, что же случилось, что КГБ так быстро на нас вышло. И вот когда посадили нас в вагонзак, спрашиваю у Владимира: «Ты кому-то рассказывал о листовках?» — «Да, — говорит Владимир. — Когда ты был в школе, меня позвал хозяин к себе поужинать с ним. Мы выпили, разговорились, и я ему похвастался, сказал, что листовки — это наша работа». — «Зачем же ты это сделал?» — говорю ему.
И всё-таки, если хозяин донёс КГБ о сказанном ему Владимиром, то его можно понять. Ведь узнав, что после тех вечеров с его рассказами эти парни распространяют листовки, он не имел гарантии, что в случае их ареста они не расскажут о тех вечерах, о листовке, которую он с ними читал.
Мне стало понятно, почему хозяин вёл со мной тогда такой разговор, почему в его голосе чувствовалась недружелюбность. И опять же странно то, что о нём никто из кагэбистов не спрашивал и его не вызывали в КГБ. Но если он так поступил, то его можно понять. А вот Тарасюка?! Мог же то дело взять на себя. Сказать, что это он самостоятельно изготовил и распространил. Тем более, что он фактически является инициатором изготовления листовки. Но он, видимо, сразу же после ареста забыл об этом, потому что ещё когда нас везли «воронком» на допросы, как-то слышу от него из соседнего боксика (одиночной камеры в воронке): «Это из-за тебя. Послушал тебя». А может, и правда. Может, его за те антижидовские листовки и не судили бы.
Я не стал упрекать Владимира за то, что он поступил не так, как следовало бы. Ведь я старше него, и на мне лежит бо́льшая ответственность за содеянное нами. Мы лежим на нарах из боковых полок и соединяющей их откидной доски на завесах, с грустью смотрим в зарешёченное окно, за которым проплывает контора НГЧ, окрестности Житомира, и у каждого мысль, что уже не скоро мы появимся в Житомире, который из-за того, что мы за решёткой, стал для нас ближе, желаннее, с которым уже не хотелось расставаться. Глупо у нас всё вышло. Но уже не вернёшь. Лежим, рассказываем друг другу о допросах в КГБ, о пребывании в камерах тюрьмы. Вспоминаем и о знакомых, с которыми работали на мебельном комбинате. Владимир рассказывает и о том, что у него была девушка, что в этом году он должен был на ней жениться. Сетует, что из-за заключения это уже не сбудется. Это было для меня новостью, потому что я никогда не слышал от него о таких намерениях. И очень странно было, что он в 19 лет сожалеет, что не сможет создать свою семью. Эти его сожаления были для меня чем-то неестественным, не заслуживающим сочувствия, и я, слушая его, смотрел на него как на какого-то чудаковатого парня.
А Машке стоял у зарешёченной двери и смотрел на проплывающие за окном пейзажи, от которых на долгие годы он был оторван и которые так отличаются от воркутинских. Один из уголовников, весь в татуировках, сидевший внизу, пытался оттеснить его от двери, сказав, чтобы отошёл, потому что они тоже хотят смотреть. Но Машке так надменно и пренебрежительно взглянул на него, что тот замолчал и больше не претендовал на место у двери. Меня это даже удивило, ведь Машке был невысокого роста, не был атлетом, но тот взгляд дал понять тому уже бывалому бытовику («бытовик» — заключённый по уголовному делу), где его место. Впрочем, и удивительного в этом ничего не было. Ведь Машке из тех, которые, помимо всего прочего, прошли и войну с ворами за власть в лагере.
Первой пересылкой для нас была Лукьяновская тюрьма в Киеве. Пробыв там около суток, выехали на Харьков, где пробыли несколько дней на Холодной Горе. А оттуда — в Рузаевку. Это уже была Мордовия. В Рузаевке тюрьмы не было. Это был всего-навсего пересыльный пункт, который значительно отличался от тюрьмы. Здесь и камеры просторные с деревянным полом. А прогулочные дворики из досок. Что-то вроде большого КПЗ, который уже не так давит на тебя, как тюрьма. Здесь уже как-то просторнее, свободнее, и ты уже не чувствуешь себя таким скованным, зажатым тюремными стенами. На этой пересылке мы встретились и с другими политзаключёнными, ожидавшими этапа. Пробыв несколько дней в Рузаевке, выезжаем на Потьму. А Машке остаётся в Рузаевке. Он вроде бы должен ехать в Тайшет. (Уже позже он был в одном из лагерей Мордовии и передавал мне привет. Дальнейшая его судьба мне неизвестна). Потьма недалеко от Рузаевки, и вскоре мы уже на этой последней пересылке. Эта пересылка представляла собой небольшой двухэтажный деревянный дом. Возле дома просторные прогулочные дворики, огороженные колючей проволокой. Как и на других пересылках, здесь также в камерах есть политзаключённые. Но уже гораздо больший след в памяти оставили те заключённые, которые сидели за веру — принадлежность к религиозной секте свидетелей Иеговы. Они часто пели религиозные песни, в разговорах навязывали свою тему, пытаясь обратить в свою веру. В Потьме нам встретилась и небольшая группа политзаключённых испанской национальности. Они не были острижены, и их головы обрамляли довольно длинные чёрные волосы. Испанцы сидели под деревянным частоколом неподалёку от нашего дворика, и заключённые переговаривались с ними. А отбывали они срок здесь же, в Мордовии, в лагере для иностранцев и лиц без гражданства — в лагере № 5. Это были те испанцы, которых во время гражданской войны в Испании во второй половине 30-х годов детьми вывезли в СССР. Если мне не изменяет память, они сидели в лагере за то, что добивались возвращения в Испанию.
На пересылке Потьма закончился наш этап. Наш этап в Мордовию уже не был таким, как в 40-х и первой половине 50-х годов. Для нас он не был тяжёлым. Конечно, тюрьма на колёсах имеет дополнительные сложности, как для заключённых, так и для конвоя. Особенно если вагонзак переполнен: тому надо в туалет, тому — воды, потому что съел сухой паёк с солёной селёдкой. А особенно если вагон стоит на станции и в туалет не выводят. Вот и слышны крики: воды! в туалет! А из-за этого перепалка с конвоем, взаимные оскорбления. Но и это у нас уже позади. Мы уже в одном из управлений Гулага — в Дубравлаге. А раньше эти лагеря, возникшие здесь в 20-х годах и бывшие едва ли не одними из первых концлагерей в СССР, назывались Темниковскими, от названия мордовского поселения на севере Мордовии — Темников.
На Потьме нас долго не держали. После осмотра у врача, который фиксировал состояние здоровья заключённого, и распределения заключённых по лагерям нас посадили в вагонзак, предназначенный для перевозки заключённых по железнодорожной колее Потьма — Барашево. Эта колея, которой нет на карте, обслуживает лагеря Дубравлага, расположенные по обе стороны железной дороги, что тянется среди лесов с юга на север, а её протяжённость где-то километров 50. Управление же Дубравлага, начальником которого тогда был Громов, находилось в посёлке Явас, где-то посередине колеи Потьма — Барашево.
Выезжаем из Потьмы. Я с Тарасюком в одном купе (камере). Попадём мы в один лагерь или нет — нам неизвестно. Вскоре мне сказано приготовиться к выходу. И вот поезд останавливается. Я выхожу с правой стороны вагона. Передо мной лагерь. А точнее — его прямоугольное окончание. В середине угла из частокола возвышается какое-то обитое досками сооружение. Это была водонапорная башня. А справа, метрах в 60, среди частокола, какой-то дом с дверью, а возле него военные, которые смотрят в сторону вагонзака. Конвоир, высадивший меня, не слезая с вагона, крикнул военным, чтобы меня забрали. А те уже крикнули, чтобы я шёл к ним. Конвоир подаёт мне моё личное дело. Я беру и иду к военным, а поезд с заключёнными и Тарасюком покатил дальше. Я иду и удивляюсь, что рядом нет конвоя, что иду как свободный человек. Подхожу к этим военным, подаю дело и захожу с ними в домик, который, как оказывается, называется «вахта». Меня быстро о чём-то там спрашивают, что-то записывают и уже через внутреннюю дверь запускают в зону. В зоне ходят одинокие заключённые. Все остальные за зоной на работе. Ко мне подходят, расспрашивают. Один, уже в годах, спрашивает, за что посадили. «Агитация и пропаганда», — отвечаю ему. «А, болтун», — говорит этот заключённый. («Болтун» — это в какой-то мере пренебрежительное отношение к тем, кто сел за листовки, за какое-нибудь там письмо, а то и за анекдот. А ещё те, что воевали с оккупантом с оружием в руках, называли ту борьбу, которая велась исключительно словом, «бумажной войной»).
Это была уже где-то середина июня. Я попал в лагерь № 14, а его адрес: Мордовская АССР, ст. Потьма, п/я 385/14-7. Цифра «7» означала здесь зону (а точнее «отряд») лагеря, в которую меня запустили. Эта зона небольшая: два небольших здания, одно из которых примыкает к узкой «запретке», за которой большая промзона. В этих одноэтажных зданиях (бараках) размещалось сотни две заключённых. В бараках есть и разные подсобные помещения и столовая, в которую заключённым привозят еду из лагеря. Есть и здание, в котором стоят какие-то моторы и большие генераторы. Они не работают. Видимо, стали ненужными после подачи электроэнергии в эту местность от какой-то большой электростанции. А промзона, которая была отгорожена от нашей зоны частоколом, принадлежала женскому лагерю (№ 14), который находился на расстоянии нескольких сот метров за железнодорожным переездом. Промзона состояла исключительно из швейных цехов, в которых в две смены женщины что-то шили. В дневную смену их работало около 1000 человек. 14-й лагерь был лагерем для женщин, сидевших по каким-то уголовным делам. На лагерном языке это были «бытовички».
Вот таким было моё первое место, в которое меня привезли для перевоспитания. Тот первый день был не совсем солнечным, потому что периодически солнце бледнело за перистыми облачками. Я прогуливался, знакомясь с зоной. Получал удовольствие от того, что уже могу быть под открытым небом сколько захочу и куда угодно идти в этом, пусть и ограниченном, пространстве. Зона — это не прогулочный дворик. После камер она произвела на меня положительное впечатление. Обидно было лишь, что не можешь выйти за пределы этой зоны. Ещё до обеда получаю одежду, обувь, постель и занимаю свободную кровать в одной из секций барака. Кровати одноярусные с натянутой металлической сеткой. Вскоре заходят в зону на обед заключённые. Подходят. Знакомимся. Но более основательное знакомство происходит после окончания рабочего дня. Оказывается, в зоне все с первой судимостью. Сроки преимущественно небольшие, и почти одна молодёжь. Тридцатилетние — это уже люди «в годах». Полно недавних студентов и преподавателей из разных учебных заведений. Все — за антисоветскую агитацию и пропаганду. Значительная часть, в основном из Прибалтики и Украины, — за предоставление их народам независимости, восстановление государственности, утраченной этими народами в результате российской экспансии.
Заключённые в этой зоне уже где-то с полгода. До этого они были в разных лагерях Дубравлага, в которых в основном сидели те, что вели вооружённую борьбу с оккупантами, и полицаи. Но в конце 50-х годов какая-то часть заключённых, сидевших за агитацию и пропаганду, преимущественно евреи и русские — марксисты-ревизионисты, — стали писать в верховные органы власти обращения с требованием отделить их от полицаев. А кое-кто, возможно, ставил требование вообще отделить их от антисоветского элемента.
Кого-кого, а заключённых еврейской национальности можно было понять, ведь как сидеть с полицаями, которые были причастны к истреблению твоего народа? Ну а что касается марксистов-ревизионистов, то до недавнего времени эти заключённые преимущественно были советскими патриотами и, возможно, в какой-то мере и оставались ими. Ведь они выступали не за развал советской (российской) империи, а за ревизию коммунистических идей, за экономические реформы и демократизацию советского общества. И власть пошла им навстречу. Так вот, тех, что сидели за агитацию и пропаганду, почти всех вывели из тех лагерей, поместив одну часть в зоне лагеря № 3 (пос. Барашево), а вторую часть в зону, в которую я прибыл.
С Житомирщины в зоне заключённых не было. Но украинцев было много. Среди них значительная часть из Западной Украины. Больше всего я общался с Андрушко Владимиром, Резниковым Алексеем, Барсуковским Владимиром, Донченко Иваном, Григоренко Александром, Процюком Василием, Андрушкивым Иосифом. Но больше всего сдружился с Владимиром Андрушко. Андрушко со Станиславщины, в заключении с осени 1959-го года, срок — 5 лет. У него нашли запрещённые книги и какие-то записи националистического содержания. Ему уже 30 лет. До заключения преподавал в средней школе украинский язык и литературу. Во время учёбы в Черновицком университете в мае 1952-го года вывесил над университетом украинский флаг. Андрушко — это интеллигентный человек не только по образованию, но и по своей природе. Он, как и другие из Западной Украины, хорошо знает историю Украины и много рассказывает мне не только о деятельности ОУН и борьбе УПА в 40-х и 50-х годах с немецкими и русскими оккупантами, но и об освободительной борьбе украинского народа в период 17-20-х годов. Рассказывает он и о других событиях, связанных с господством Московщины на нашей земле, в частности и о событиях на Житомирщине. И как-то спрашивает меня:
— У вас там есть городок Базар, что Вы о нём знаете?
— Слышал, что есть такой городок под названием Базар. Раньше район такой был — Базарский, — отвечаю Владимиру. А больше ничего не мог сказать, потому что и ничего, кроме сказанного, не знал о Базаре. И тогда он стал мне рассказывать. Вот от него я и узнал о событиях в Базаре, о расстреле большевиками в 1921 году 359-ти украинских повстанцев. Слушая его, мне было несколько неловко, что я ничего не знаю о том, что происходило на Житомирщине, что о событиях в моём крае мне рассказывает человек из далёкой Станиславщины. Вот больше всего благодаря Андрушко я стал интересоваться историей Украины, её подневольным положением в Российской империи. И очень скоро всё открылось мне в ином свете. Я увидел: все беды в Украине от Москвы. Что в первую очередь нужно бороться не с тем общественным строем, который насадил оккупант, а с самим оккупантом.
Но вернусь к жизни в лагере. Меня как строителя по специальности зачислили в строительную бригаду и на второй или третий день я вышел с бригадой на работу. Бригада была довольно большой, где-то до 100 человек. Выйдя за ворота, мы прошли вдоль «запретки» из колючей проволоки и частокола и через ворота зашли на территорию новопостроенного цеха, который стоял в углу промзоны в противоположном от угла с водонапорной башней. Цех уже был построен. Оставалось достелить пол, ещё кое-что довести до завершения и покрасить всё то, что подлежало покраске. И также привести в порядок окружающую территорию, отгороженную от промзоны одним рядом столбиков с натянутыми на них несколькими колючими проволоками. Это так мы были отгорожены от женщин-бытовичек, которые работали в цехах. Я попал в звено из 10 человек. В нём кроме Андрушко был немец Отто, уже в годах (лет за 40), и мои ровесники из Прибалтики (преимущественно из Литвы и Латвии). Некоторые из них были арестованы во время учёбы в 10 классе. Все за восстановление утраченной их странами государственности. Один из них, Воркала, несколько старше, уже отсидел 5 лет. В памяти остались ещё имена — Наглис, Альгис, Йонас. Нас никто не подгонял, и мы в основном бездельничали. Скорее всего, такое большое количество заключённых выводили на этот объект лишь для того, чтобы заключённые были на рабочем объекте, потому что какой-то работы тогда, видимо, не было. Охраняли нас также не очень бдительно. Конечно, как и везде, на вышках стоят солдаты с автоматами. И у нас на угловой вышке, с которой просматриваются ворота на наш объект, стоит солдат. Но всерьёз нас, видимо, не воспринимали. Наверное потому, что у нас были небольшие сроки заключения, считали, что вряд ли кто-то из нас склонен рисковать получить дополнительные 3 года за попытку побега. Бывало так, что нужно было открыть ворота, а рядом нет надзирателя, чтобы открыл, так я сам подходил и открывал ворота и запускал подводу или кого-то из вольнонаёмных, а то и представителя администрации лагеря. А с вышки никакой реакции. Больше времени мы проводили за разговорами на разные темы. Кроме политических тем обсуждали и бытовые. Запомнилась мне оценка литовцами женщин русской и литовской национальностей. Поводом для этого было то, что выйдя за ворота зоны, мы увидели, как где-то с десяток женщин передвигают рельс и таскают шпалы. А руководит ими какой-то мужчина. Только руководит. Литовцы говорят мне: «Такую работу могут выполнять только русские женщины. Литовка на такую работу добровольно не пойдёт, ни в коем случае». Украинские также таскают, — вспомнилось мне ранее виденное. А вот цыганка или еврейка также таскать рельсы не будут. И цыган с евреем не пойдут на такую работу. И в шахту не полезут. Уже немного погодя, обдумывая это явление, я пришёл к выводу: города существуют потому, что существуют ассенизаторы. Без сомнения, если бы все были гордыми и не соглашались выполнять унизительную работу, а тем более убирать за кем-то наваленную кучу, то город не мог бы существовать. Не было бы и шахт, и многого такого, что унижает достоинство человека. Не было бы современной цивилизации.
Литовцы говорили между собой по-литовски. И когда остаёшься с ними наедине, то чувствуешь себя чужаком среди них. (Сначала литовцы не восприняли меня как чужого. Как-то один из них говорит мне: «А мы думали, что ты литовец»). Конечно, изучать литовский язык я не собирался, но как-то от нечего делать говорю литовцам: «Может, мне когда-нибудь придётся быть в лесу в вашем краю, так как мне будет обратиться, чтобы дали хлеба и сала». Мне несколько раз повторяли, как это будет по-литовски, и я по сей день помню это обращение. Знал я уже и то, как будет по-ихнему топор, лопата — наш инструмент.
Была там и забавная история. Как-то, вскоре после моего прибытия, сидим мы недалеко от той проволоки, что отгораживает промзону. У нас «перекур». Те, что курят, — те курят, а другие, как и я, — сидят себе. Я сидел лицом к тому, можно сказать, символическому ограждению, и вот вижу, подходит к этой проволоке девушка. Подошла (а это метров 20 от нас) и смотрит на нас. Я раз глянул, другой — стоит! Что-то ей нужно, — думаю. И, обращаясь ко всем, говорю: «Вон девушка стоит и смотрит на нас». Молчание. Никто даже не глянул в ту сторону. Через минуту я снова: «Надо подойти и спросить». Никакой реакции. А мне неловко, что она видит, что и мы её видим. Тогда я встаю, говорю, что пойду спрошу. И иду к девушке. Как только я подошёл к проволоке, она бросает мне сложенный клочок бумаги, хотя могла и передать. Девушке лет 20. Черноволосая, миловидное лицо, с красивой стройной фигурой. Ничего не спрашивая, я поднимаю клочок бумаги, разворачиваю и читаю. В записке написано, что если кто-то желает, то можно жениться. И подпись «Оля». Прочитав, я глянул на неё и говорю: «Хорошо. Я пойду и выясню». Прихожу и читаю записку. Все молчат. Чувствую, что влип. Глянул на девушку. Она смотрит на нас.
— Так что мне делать? — спрашиваю.
— А чего ты туда пошёл? — говорит один.
— Она русская, — добавляет Воркала.
— Как же мне быть? — спрашиваю. Пожимают плечами. А мне неприятно, ведь я должен дать ответ. К тому же, мне не хочется унизить девушку. Что же делать? И тут мелькнула спасительная мысль. Я сразу же беру клочок бумаги и пишу: «Оля, простите, но здесь у нас все женатые». Складываю эту бумажку и, подойдя к проволоке, вместо того, чтобы дать бумажку в руку, бросаю её к её ногам. Она нагибается за запиской, а я, ничего не сказав, быстро иду назад. Пришёл, сел и наблюдаю за девушкой. Вижу, она развернулась, почему-то подняла руку, махнула ею вниз и с опущенной головой пошла к цеху, что стоял в нескольких десятках метров. Мне было неприятно от этой сцены и что я к ней причастен. Уже со временем, находясь в Украине с уголовными заключёнными, рассказывал им об этом эпизоде и не раз видел, как кто-то из них брался за голову и повторял: «Идиоты!» В том, как они это произносили, чувствовалось непонимание нашего поведения и возмущение, что мы не воспользовались такой возможностью вступить в интимные отношения с девушкой. Но я не думаю, что если бы это произошло наедине, без свидетелей, то каждый из присутствующих был бы способен удержаться от соблазна. Ведь здесь просто сработало привитое культурой табу на открытость некоторых физиологических действий. (Всё мерзкое творится скрытно). Так вот каждый хотел показать, что он выше физиологии, что он руководствуется головой, а не тем, что между ногами. Никто не хотел быть ниже в глазах другого.
А вообще-то женский контингент промзоны в целом вёл себя прилично. То есть придерживался привитых норм поведения. Лишь некоторые пренебрегали этим «привитым», в обеденное время проникали на наш объект и где-то прятались, преимущественно под полом, который был на высоте одного метра от земли. Иногда, приведя нас с обеда, надзиратели устраивали обыск и, обнаружив этих женщин, отправляли их в ШИЗО (штрафной изолятор). Насколько мне известно, заключённых, вступавших в интимные отношения с ними, не набиралось и десятка. Некоторые из них ходили и в промзону, но случая, чтобы там кого-то ловили, при мне не было. У каждого была своя девка. Держались парами, на лагерном языке — «оженились». Так что другим женщинам уже ничего не доставалось и им, видимо, ничего не оставалось, как быть приличными. Среди этих парней был и один из украинцев — из Донбасса, с которым я общался. Красавцем его не назовёшь, а вот девка, которая, сидя у проволоки, вела с ним разговор, была настоящая красавица. Уже где-то весной 1961 года она прислала ему фото младенца. Он показал мне это фото, и я спросил:
— Так что ты будешь делать?
— А откуда мне знать, что это мой ребёнок, а не кого-то из военных?
Фотографии младенцев пришли и ещё кое-кому.
Мы, конечно, подтрунивали над ними по этому поводу. Что ж, люди не принадлежат к тем животным, которые не могут размножаться в неволе. Ну, а некоторые из тех, что работали на других рабочих объектах, были обречены на платоническую любовь. Они переговаривались, а то и перебрасывали через частокол записки в промзону и таким же образом получали записки от своих возлюбленных. А двое и пели им. Должен сказать, что у них это неплохо получалось под аккомпанемент аккордеона. Вот сидят двое на скамейке, недалеко от входа в столовую, и поют. Один из них был из Белоруссии. Он-то и на аккордеоне играл. Мне запомнились отдельные фрагменты песни, которую они чаще всего исполняли, хотя эта песня подходила к женскому исполнению. Там было такое:
«Ах дальний хутор, мой хутор дальний…
Куда тебя забросила судьба.
Быть может, милый мой, убит в побеге,
И невернётся больше никогда…»
По тем голосам, что доносились из-за частокола, было понятно, что девушки в восторге от их весьма совершенного исполнения песен. Да и почему бы не петь, не ухаживать, когда не мучает голод, не требуют нормы выработки? А что касается питания, то кроме лагерного пайка можно получить посылку (лишь бы было кому выслать), закупить продукты в ларьке. И к форме одежды не придираются — в зоне можно ходить и в том, в чём прибыл с воли. Многие заключённые и не спешат вовремя постричься и ходят с довольно длинными волосами — по лагерной, конечно, мерке.
Нас никто не притеснял, хотя лагерь есть лагерь и каждому хотелось быть на воле. У многих была и какая-то надежда, что, может, удастся выйти раньше установленного судом срока. Для этого есть и основание: каждую неделю спецчасть вывешивает списки тех, кого освобождают или кому уменьшен срок. Освобождается и Павел Фальченко. Ему пересмотрели дело и то ли ограничились тремя годами, которые он уже отсидел, то ли признали безосновательно осуждённым. Павел из Николаева или из Херсона, работал на судостроительном. Те, что выходят на волю, выйдя за ворота, переламывают свою ложку и бросают через ворота в зону — то уже такая была традиция.
Лето 1960 года в Мордовии было тёплым, солнечным. И, видимо, в такие хорошие дни да ещё потому, что большинство из заключённых находилось ещё в процессе становления личности, скучать им было некогда. Каждый чем-то занимался. Одни что-то читали, а другие во что-то играли. Играли и в волейбол. В зоне были сформированы две основные команды, которые соревновались между собой. Даже майки были у них с названиями команд. Одна из этих команд была из прибалтов, а вторая преимущественно из русских, потому и имела название «Волга». Что касается украинцев, то они в основном читали литературу. И что-то там писали. Помню, что стихи писали Александр Григоренко и Олекса Резников, который позже, став членом Союза писателей Украины, стал подписываться «Ризныкив, Ризниченко». Григоренко переписывался с поэтом Миколой Сомом. Среди тех, кто писал, Григоренко считался самым способным и ему пророчили большие достижения в поэзии. Олекса с Сашей дружили. А не так давно Олекса прислал мне стихотворение Григоренко, написанное, согласно утверждению Олексы, в 11-м лагере. В память о Саше хочется поместить здесь это стихотворение с названием «Желанной невесте»:
Ти мене полюбиш не за пісню,
Ти мене полюбиш не за вроду —
Ти мене полюбиш за залізну
Відданість вкраїнському народу.
Бо й для тебе іншої любові,
Відданості іншої нема,
Бо пісенній придніпровській мові
Поклялась ти в вірності сама.
І коли я душу буревісну
Переллю в живе життя своє,
Ти тоді полюбиш і за пісню,
І за вроду, вже яка не є!
Саша с 1938 года. Арестован в 1958 году за стихи патриотического направления во время прохождения срочной службы в армии. До срочной учился несколько месяцев в Васильковском авиационно-техническом училище. Не выдержав муштры, ушёл из училища. В 1960 году срок снижен. Освободился осенью 1961-го из 17-го лагеря. Вернулся к родителям в село Бородаевку Верхнеднепровского района Днепропетровской области. Утонул в Днепре летом 1962 года.
Не думаю, что этот образ его невесты соответствовал тому лирическому образу, который был присущ его лирической натуре. В нём было что-то большее — глубоколирическое, а не заквашенное на патриотизме. Вспоминается осень 1960-го в Барашево. Как-то, от нечего делать, я, Саша, Процюк Василий и Андрушко сидели на траве в промзоне. На меня нашла какая-то хандра и я, закутавшись в бушлат, полулежал и мурлыкал грустную мелодию. Вдруг Саша спрашивает меня:
— Ты знаешь слова этой песни?
— Нет, — отвечаю ему.
Вскоре вижу: Саша и Василий сидят у Саши на кровати и тихо поют песню на ту мелодию, что я вот мурлыкал. Саша и в книжку какую-то при этом заглядывает. Они тогда, осенью, часто напевали её, а потому я даже запомнил кое-что из этой песни. Начиналась она со слов:
«Знову осінь над гаями,
Жовтий лист сади встеля,
За далекими полями
Ти живеш, любов моя.»
А ещё там было:
«Чом же ми тоді не дорожили,
Тим, що квітне тільки раз в серцях,
А тепер тумани вкрили,
Шлях дніпровський, дальній шлях».
Этот «шлях дніпровський» был родным Саше, ведь он, Саша, с Днепра. Там, на берегу Днепра, прошли его юношеские годы. И эта песня так пленила его, что даже через какое-то время, уже в 1961-м, на 17-м, он как-то выбегает из барака и кричит мне:
— Сергей, там ту песню передают!
Я не пошёл слушать, но понял, что у него, видимо, была какая-то любовь, которая уже покрылась туманом.
Освободившись, он через какое-то время написал мне письмо. Я ответил. А потом ещё как-то получил, но на то письмо я уже не отвечал. Написал ему, когда освободился из Владимирской тюрьмы. Ответ пришёл от его отца. Он сообщал, что в 1962-м году он с кем-то из своих близких и Сашей пошли на Днепр искупаться. Они лежали на песке, а Саша плавал. Когда глянули на реку — увидели чистую гладь. Это случилось накануне свадьбы. Не знаю, кто была его невеста, но думаю, что тот нарисованный Сашей образ возник неспроста. Он, видимо, возник у него из-за того, что уже можно было выбрать лишь из того, что оставалось.
Это был энергичный и, думаю, мечтательный человек. Черноволосый, среднего телосложения с военной выправкой. В его осанке чувствовалась вольнолюбивая казацкая сущность, генетически переданная ему его вольнолюбивыми предками.
Что касается меня, то писание стихов я воспринимал как несерьёзное занятие — своего рода забаву, и потому не вникал в то, что там пишут и как пишут. Я или читал что-то в свободное от работы время, или проводил время за беседой с кем-то, а то и просто погружался в свои думы. Ну, а вечерами мы, украинцы, большой группой собирались у торца барака и пели украинские песни. Это были и песни освободительной борьбы: «Дума о Мазепе» — «З полтавського бою розбитий гетьман, біжить одинокий Мазепа…». На слова Шевченко: «Почуємо славу, почуємо та й загинем»; «Плаче козак: шляхи биті поросли тернами»; «Тихо над річкою, в ніченьку темную, спить зачарований ліс». А ещё: «Сиджу я за дротом та й дивлюся вдаль. І так мені сумно, такий мені жаль: літа молодії минають в тюрмі, в неволі, в недолі, в чужій стороні» и другие. Среди этой группы были незаурядные голоса, а потому исполнение песен было на достаточно высоком уровне. Я шёл в группу, но сначала никак не мог свыкнуться с пребыванием в группе певцов, которые серьёзно относились к пению. Сначала это занятие казалось мне каким-то неестественным, а тем более то вдохновение, с которым исполнялась песня, касавшаяся того периода, что уже давно прошёл, к которому мы не имеем никакого отношения. И я, бывало, изо всех сил пытался подавить смех, который прорывался изнутри наружу. Но со временем втянулся и, поддаваясь тем переживаниям, что были заложены в песне, пел, как и все.
В августе в промзону уже не выводили — там всё закончено. И уже нас, десятка три заключённых, водят за железнодорожный переезд, где мы на небольшом квадрате, огороженном в один ряд колючей проволокой, строим баню для жителей посёлка. Здесь также нас никто не подгоняет, и работают в основном те, кто в этом занятии находит для себя какое-то утешение. В основном это были ребята из Прибалтики, которым хотелось иметь специальность строителя. Ну а я, как и раньше, в основном бездельничал, проводя время с такими как сам за разговорами на разные темы. Конвой из солдат срочной службы, находившийся за ограждением, относился к нам дружелюбно — они были нашими ровесниками и, конечно, не видели в нас ничего преступного. Среди конвоя были и украинцы. Как-то я спросил солдата из Ровненщины:
— А ты стрелял бы, если бы кто-то из нас убегал?
— Я стрелял бы, но не в беглеца, — уверенно ответил солдат.
Вот у него, когда созрел картофель на поле, что было за ограждением, я пролезал между проволоками за ограду, выковыривал картофель, а он смотрел, чтобы за этим занятием меня не застал кто-то из командиров. То была забава: костёр, печёная картошка — как когда-то в детстве.
Настала осень. Уже нет того ожидания списка, еженедельно вывешиваемого спецчастью. Хотя изредка ещё кому-то что-то снижают. А на «освобождение» уже никому не приходит. Всё вроде бы так, как и было, но чувствуется какое-то похолодание, и не только воздуха, что связано с осенью, — это уже Хрущёв начинает закручивать «гайки» как во внешней, так и во внутренней политике. «Холодная война» набирает обороты. А в центральных газетах появились статьи (одна из них под названием «Человек за решёткой»), в которых пишется, что из-за того, что заключённым в лагерях очень хорошо живётся, они не боятся совершения повторного преступления. Что нужно менять режим содержания в заключении, чтобы почувствовали, что такое неволя. И уже ходят слухи, что нас скоро куда-то вывезут. Нас эти слухи не радуют, потому что мы уже свыклись с зоной, сдружились. И нам неплохо. А как будет в другом лагере — неизвестно.
И действительно: в октябре нас сажают в вагонзаки и привозят в 3-й лагерь — посёлок Барашево. После высадки, порывшись в наших вещах, запускают в лагерь. Лагерь в Барашево — это больница Дубравлага, которая занимая больше половины территории, находилась посреди лагеря, а по бокам две зоны. Зона со стороны Потьмы отведена для мамок — женщин с детьми. (Когда ребёнку исполняется несколько лет, ребёнка, если не забирает родня, отдают в детский дом, а женщину отправляют в женский лагерь досиживать срок). А по другую сторону, со стороны посёлка, — зона для политзаключённых. Каждая из этих трёх зон имеет свою вахту. Но нас почему-то ведут через вахту больницы. Мы проходим мимо морга до калитки в конце частокола, отгораживающего больницу от зоны, и заходим в зону. А в зоне нас уже ждут, потому что уже узнали, что к ним прибыл этап. Для меня это уже новые заключённые. Ну, а те, что сидели ещё до разделения, с радостью здороваются со своими знакомыми, а то и приятелями, с которыми они раньше сидели или шли по одному делу. Подходят и к нашей небольшой группе. Среди них парень атлетического телосложения, родом из Карпат, Иосиф Буйный (приятель Григоренко). Выбрав момент, спрашиваю у Иосифа, есть ли в зоне Тарасюк. «Есть, но с нами не общается. Он работает на кухне, среди обслуги», — отвечает Иосиф.
Секции в бараках для нас уже были приготовлены. Я, Андрушко, Процюк, Григоренко попали в секцию, видимо, не так давно построенного барака, который стоял параллельно с «запреткой», тянувшейся вдоль железнодорожной колеи. Кровати в секции были двухъярусными («вагонки» — 4 кровати). Моя кровать рядом с кроватью Андрушко, как и в предыдущей зоне, только уже сверху. Устроившись на новом месте, знакомлюсь с заключёнными этой зоны. Прежде всего с украинцами. Среди них и с теми, с которыми впоследствии больше всего общался: с Макаренко Василием (из Крыма), Ружицким Павлом и Матвейко Павлом (со Львовщины), Вознюком Фёдором (с Волыни), Стецюком Василием (с востока Украины), а уже несколько позже и с Павлом Андросюком, прибывшим из Владимирской тюрьмы, родом из села Раймисто Рожищенского района Волынской области. А где-то перед «отбоем» (22 часа) встретился с Тарасюком, который пришёл ко мне в секцию. Эта встреча была формальной встречей двух земляков, которых уже ничто не объединяло, — антиподов, а не единомышленников. Мы были разными, и тут ничего не поделаешь. У него своё понимание жизни, свои интересы, ценности. А потому и не чувствовалось, чтобы он был очень рад встрече. Думаю, что и он понимал, что наши дороги случайно пересеклись, а результат этого — неволя, к которой мы относились по-разному. Если для него «неволя» так и осталась со знаком минус, то встретившись в лагере с людьми, с которыми на воле я вряд ли встретился бы, да ещё и в таком количестве, — я уже не очень жалел, что попал в лагерь. К тому же, где бы я имел такую возможность оторваться от той суеты, связанной с хлопотами, что на воле, — задуматься над тем, над чем на воле я, возможно, и не задумался бы.
Тарасюк политикой абсолютно не интересовался. Его цель: выйти отсюда и больше никогда сюда не попадать. И претензий к нему не могло быть — каждому своё. Говорить с ним было не о чем. Но с ним я изредка общался, а уже позже, узнав, что он хотел бы переписываться с девушкой, дал ему адрес Надийки Котенко, с условием, что она не будет знать, кто дал адрес. И он некоторое время с ней переписывался. А почему бы не дать? Ведь Владимиру я желал только добра. (А она хорошая девушка, к тому же и их требования к жизни, видимо, совпадают: любовь, семья, полная кладовая.) Пусть переписываются, может, до чего-то допишутся. А что касается меня, то я ещё думал, какую из моих знакомых девушек можно было бы в будущем привлечь к распространению листовок. В этой зоне, на 3-м, нас было около четырёх сотен. Это, пожалуй, впервые за весь период существования Гулага в одной зоне были собраны те, кто имел одну судимость, впервые попав в лагерь за антисоветскую агитацию и пропаганду. Ну, а у кого было больше судимостей — даже за попытку побега, — сидели в других лагерях. Среди нас был и бывший заключённый из Маутхаузена. Он рассказывал нам о том лагере, о гибели заключённых. Должен был и он погибнуть, уже умирал от истощения. От смерти спасли американцы.
В зоне было пять основных зданий. Три барака для заключённых, один из которых небольшой, для обслуги, новая столовая-клуб, достроенная уже после нашего прибытия, и здание для администрации — штаб. Барак, стоявший у вахты, уже был довольно старый, видимо, построенный ещё в 20-х годах.
Секция, в которую я попал, входила в отряд («отряд» — загін, «отрядний» — начальник отряда) младшего лейтенанта Дёркина — мордвина. Он был где-то на года три старше меня. Поскольку я был постоянным нарушителем режима, он часто вызывал меня к себе в кабинет и, воспринимая меня как заблудшего, старался повлиять на моё отношение ко всему, сделать из меня послушного заключённого. Не знаю, как в дальнейшем было у него на этой службе, но на то время он произвёл впечатление незлобивого человека, который считал, что мы, заключённые, должны быть осмотрительными. Не обязательно советскими, но учитывать реалии жизни — освободиться и больше не попадать в заключение. А мои нарушения: то плакат, висевший на стене у моей кровати, который я публично порвал и ещё накричал на дневального — уборщика секции, развешивавшего их по стенам; то не вышел с бригадой на работу и тому подобное.
Прибыв в зону, я сначала выходил с группой заключённых, где-то до десяти человек, в зону для мамок, что-то там ремонтировали. Потом выходил в промзону, которая находилась за колеёй, но ничего там не делал, поэтому и не запомнилось, зачем меня туда выводили. А когда уже где-то к зиме была сформирована бригада до 20 человек, то уже выходил с бригадой на строительство, а точнее пристройку к складу, стоявшему за «запреткой» напротив нашего барака, ещё одно деревянное здание под склад. Работать, как всегда, у меня не было никакого желания, а потому был среди тех, которые сидели у костра, заполняя время беседами и дискуссиями на разные темы. Запомнилась мне одна из тех дискуссий, что велась у костра. Дискутировали два заключённых. Один в прошлом, если не ошибаюсь, преподаватель какого-то вуза, доказывал другому необходимость более полного использования органического материала. В частности, он стал доказывать, что тела людей не стоит сжигать или закапывать, потому что их можно пустить на переработку и получать полезную продукцию. Даже стал доказывать, что именно можно было бы получать в результате переработки. И в его доказательствах чувствовалась логика. Возражая ему, оппонент назвал такое использование тел аморальным, отсутствием духовности у тех, кто прибег бы к таким действиям. Но всё-таки, не имея более весомых аргументов, которые без сомнения доказывали бы его правоту, добавил к сказанному: «У Вас, видимо, что-то с головой не в порядке, потому что зачем бы тогда Вас во время следствия направляли на психэкспертизу». На этом дискуссия и закончилась. Я же в дискуссию не встревал, но подумал: а зачем доводить численность населения до таких размеров, чтобы быть вынужденными прибегать к такой мерзости. Ведь так и к каннибализму можно вернуться. Дискуссии в зоне, как в предыдущей, так и в этой, возникали часто и, как я уже говорил, на разные темы. К тому же все свободно высказывали свои мысли, не опасаясь, что за антисоветские высказывания могут быть возбуждены новые уголовные дела за государственное преступление. В этом плане в лагере было гораздо свободнее, чем за его пределами — на воле. Если на воле за такое судили, то в лагере мы чувствовали себя как при демократии, которая не преследует за высказанную мысль. В лагере заключённый мог высказать свою «крамольную» мысль не только другому заключённому, но и представителю администрации, и не было случаев, чтобы в лагере за такое кого-то судили. Неизвестно, было ли это связано с тем, что представитель администрации не доносил в органы КГБ, или КГБ и внимания на это не обращало из-за того, что нам такое разрешалось «сверху».
Уже зимой нас выводили на работу то на погрузку брёвен в вагоны, то, бывало, на выгрузку из вагона рассыпного цемента. Если выпадало разгружать цемент, то я, если знал, куда ведут, совсем не выходил на работу, а если не знал, то не выходил уже после обеда.
В бригаде из украинцев, как помню, было несколько человек, в том числе Владимир Андрушко, а другие из Прибалтики и русские. Среди них и Щербаков, с которым я часто общался. Был и один член самой известной на то время среди заключённых московской группы марксистов-ревизионистов «Краснопевцева-Ренделя» — преподавателей Московского университета. Его фамилия была Меньшиков. Это была гнусная личность. Он был членом «совета отряда», который помогал отрядному. Меня вызывали на этот «совет», и этот Меньшиков на этом «совете» осуждал моё поведение и, в частности, мою антисоветскую позицию.
Я не всегда избегал работы. Например, когда подавали один вагон и конвой говорил, что после того, как его загрузим, мы вернёмся в лагерь, то я работал с энтузиазмом. Мы быстро загружали вагон брёвнами и в обеденное время уже были в лагере, и на том наш рабочий день заканчивался. А эти вагоны мы загружали на противоположном конце посёлка, проходя под конвоем через весь посёлок. Там, за посёлком, и находилась эта так называемая «биржа» — территория, огороженная колючей проволокой, с вышками по углам. На эту биржу из леса привозили брёвна и складировали. Была там и избушка (видимо, для сторожа) с большой печью. Когда было довольно холодно, то кое-кто залезал на ту печь и блаженствовал. Мне также нравилось там полежать. А однажды, это уже было в конце зимы, я залез на ту печь и уже не хотел слезать. Все загружают вагон, а я на печи. Был бы один вагон, я бы присоединился, а так — всё равно надо там быть до конца рабочего дня. Но тут заходит начальник конвоя и приказывает, чтобы я слезал и шёл загружать вагон. «Хорошо, хорошо», — говорю ему, но с печи не слезаю. Увидев, что я не выхожу, он снова заходит и уже с угрозой требует, чтобы я слезал с печи. Это меня разозлило. «Пошёл вон!» — гаркнул я, и глянул на полено, лежавшее на печи. Он понял, что означал мой взгляд, и больше ничего не говоря, вышел за дверь. В рабочую зону он не мог зайти с автоматом, и мы здесь были на равных.
Вернувшись в лагерь, начальник конвоя написал рапорт, что я не работал и угрожал ему. Меня посадили в ШИЗО. А с ШИЗО я уже был знаком, уже до этого несколько раз побывал в нём. Даже, когда первый раз посадили, три дня держал голодовку. Это было в конце осени. Тогда в ШИЗО нас было двое: я и в соседней камере какой-то малознакомый заключённый, несколько старше меня, в прошлом, кажется, студент. Не помню, за что его посадили, но когда меня привели в ШИЗО, он уже держал голодовку. Я решил проявить солидарность и тоже объявил голодовку, написав соответствующее заявление, в котором не указывал на конкретные факты безосновательного «водворения» в ШИЗО, так как таких у меня и не было, а обошёлся общими фразами о репрессиях и заявил протест против действий администрации лагеря. Через сутки того заключённого выпустили, и держать голодовку уже не было смысла, но я не снимал её и ещё продержал двое суток. Когда исполнилось трое суток, попросил у надзирателя бумагу и написал, что снимаю голодовку, потому что тем, кто потерял честь и совесть, своей правоты не докажешь. Та голодовка, конечно, выглядела детской забавой. Я не воспринимал её всерьёз. А не снимал сразу, потому что как бы это выглядело: объявил, а через сутки уже снимает. Видимо, кишка тонка, — подумали бы. Так что надо было немного продержаться. Больше никогда в своей жизни я не объявлял голодовки, потому что считал, что бессмысленно держать голодовку в преступном государстве.
А что тогда было ШИЗО в сравнении, например, с выгрузкой рассыпного цемента, да ещё и в мороз и при ветре?! В ШИЗО тогда было, как и в лагере, трёхразовое питание, в камере нормальная температура, а на тебе ещё и зимняя одежда. Лежи себе на нарах, подстелив бушлат, да проводи время за беседами, если ещё кто-то с тобой сидит, или думай о чём-то своём. И много тогда не давали — суток 5-7. Отсидел и идёшь в зону (ШИЗО находилось на территории больницы, за бараком для психически больных). А в зоне тебя встречают как героя, знают, когда ты должен выйти, и уже приготовлено для тебя что-то вкусненькое.
После выхода из ШИЗО меня из бригады списали и месяца полтора за пределы лагеря на работу не выводили. Я уже выходил в зону больницы, где с Василием Макаренко отбрасывали с дорожек снег и вытаскивали из колодца воду, которую выливали в жёлоб, по которому она текла в какой-то там резервуар. Работа не была обременительной, и больше времени мы сидели в бараке и прогуливались по территории больницы. Василий проживал в зоне больницы среди обслуги, а потому имел в этой зоне много знакомых и среди тех, что прибывали на лечение из других лагерей. Так вот однажды он говорит мне: «В больницу прибыл такой-то…». Уже не помню фамилии, но она была украинской. «Мне сказали, что он стукач. Давай уберём его», — говорит мне.
Я сразу же отказался, сказав Василию, что мы не можем этого делать, потому что откуда нам знать, что он действительно стукач, или здесь не возникло безосновательное подозрение. Василий был настроен решительно, и я не знаю, чем бы это закончилось, если бы я согласился. Получил Василий информацию и о том, что в морг привезли убитого политзаключённого-украинца. Мы сходили к моргу, заглянули через окошко внутрь той землянки, где напротив окошка лежал на столе совершенно голый заключённый, которого застрелили при попытке побега из спецлагеря. Тот лагерь называли коротко «спец». На нём заключённых содержали в камерах. Это были те заключённые, которых переводили на «спец» за нарушение лагерного режима. Это случилось в апреле. Снега уже не было.
В апреле меня вывели в промзону на строительство цеха, где я мог уже затеряться среди заключённых и быть незаметным для начальства.
В 1961 году произошли два события: Москва утвердила новый Уголовный Кодекс, а 5 мая издала Указ об усилении борьбы с преступностью. Этот Кодекс заменил предыдущий с его «знаменитой» 58-й статьёй (укр. — 54-я). А Указ ликвидировал (в значительной степени) достижения восстаний 1953 — 1954 годов, в которых погибло много заключённых, в том числе и женщин, раздавленных танками. В Уголовный Кодекс вводилась статья 77-прим. (РСФСР): до расстрела за саботаж, беспорядки, нападение на представителя администрации в местах заключения. Вводилось также четыре режима содержания заключённых: общий, усиленный, строгий, особый. Государственные преступники (политзаключённые) подпадали только под строгий и особый. Введено и новое название «особо опасный рецидивист». Что касается государственных преступников, то достаточно было получить вторую судимость за что-либо, например, «за попытку побега», чтобы такое лицо было признано особо опасным рецидивистом и отправлено в лагерь особого режима. Следовательно, заключённые автоматически подпадали под обратную силу закона, что фактически было серьёзным нарушением законности, ведь, вынося наказание, суд принимал во внимание, в каких условиях заключённый будет отбывать назначенный ему срок наказания.
Большинство из нас не обратило особого внимания на ст. 77-прим. и Указ. Это объясняется тем, что у большинства из нас были небольшие сроки, и каждый думал, что как бы там ни было, а уже как-то отсидит свой срок. К тому же, нам ещё не было известно, что это за «режимы», какие будут ограничения наших прав. А потому, поделившись мнениями об Указе, мы довольно быстро о нём забыли.
Украинцы, как и в предыдущем лагере, держались вместе. Как на Рождество, так и на Пасху собирались вечером в одной из секций, готовили для этого кровати и, разложив на этих кроватях продукты, приступали к праздничному ужину. А поужинав, пели религиозные песни. Настроение у всех было праздничное. Пели вечерами и в другие дни, но уже не такой группой, и не так часто, как это было летом на 14-м. Выписывали и литературу через почту «Книга — почтой». Это была в основном художественная литература. Иногда мы, украинцы, собирались небольшой группой и дискутировали на политические и религиозные темы. Кроме того, есть Бог или его нет, обсуждали и исторические события, в основном, касающиеся освободительной борьбы. А вот вопрос, в чём заключается смысл жизни, почему-то ни у кого из моего окружения не возникал. Я говорил о том же, что и другие, а думал о своём. Но как-то спросил у Василия Процюка:
— Пан Василий, в чём заключается смысл жизни?
— Об этом не надо думать, — ответил Процюк.
Для меня было странным, что интересуются и обсуждают второстепенное, а основной вопрос игнорируют. Что касается политических вопросов — то расхождений существенных у нас не было, а вот религиозная тема из дискуссии перерастала даже в неприязненное отношение друг к другу. В отличие от «схидняков», выходцы из Западной Украины более негативно относились к атеистическому мировоззрению. От них часто доставалось и Владимиру Андрушко, который скептически относился к их верованиям и религиозные праздники воспринимал лишь как один из элементов, вошедших в украинскую культуру, как традицию. Он никогда не отмалчивался и всегда отстаивал своё мнение. Мы с ним даже поспорили из-за этого, потому что я считал, что ему не стоит с ними дискутировать, так как это вызывало лишь неприязненное отношение к нему части верующих земляков, особенно Пилипа Шишуна. Были некоторые разногласия и относительно частной собственности, хотя эту тему мы редко затрагивали. Но я никогда не слышал, чтобы кто-то мечтал об Украине, в которой господствовал бы крупный частный капитал, чтобы были паны и холопы. В представлении большинства это была Украина, о которой мечтали в своих произведениях писатели XIX и начала XX века. Я также негативно воспринимал строй, в котором один человек наживался бы на труде других людей. Но основным вопросом среди украинцев тогда был не социальный, а вопрос восстановления Украинского государства. А восстановим государство, тогда уже устроим такой строй, который удовлетворит всех.
Снова пошли слухи, что нас должны вывезти. И через некоторое время уже заметны признаки нашего переезда в другое место.
Так и случилось. В начале июня 1961 года нас снова сажают в вагоны и везут в посёлок Явас. А в Явасе, высадив из вагонов, рассаживают по грузовикам. Недалеко от нас толпа каких-то заключённых. Некоторые из них что-то кричат нам. Оказывается, это бытовики, которых также вот вывезли из лагеря. Мы в грузовиках, как селёдки в бочке, сидим, прижатые друг к другу, а наши вещи — тюки и чемоданы — в отдельном грузовике. Конвой, стоящий у кабины машины, отгорожен от нас щитом из досок, который доходит им до груди. Едем лесом. Дорога грунтовая, извилистая. Ярко светит солнце, голубое небо, кругом одна зелень. Из-за того, что затекли ноги, а встать нельзя, а к тому же ещё и от Барашево мы не имели возможности справить физиологические потребности, дорога для нас стала долгой. Наконец колонна выехала из леса и остановилась недалеко от зданий. Команда — высаживаться, и все поспешно выскакивают из грузовиков. Мы у лагеря. Каждого из нас вызывают и, просмотрев наши вещи, которые мы уже разобрали, впускают в пустой лагерь. Мы расходимся по баракам.
Лагерь, в который нас привезли, как и все лагеря, имеет свой номер. Этот номер — 17. Рядом с жилой зоной — промзона, которая отгорожена от зоны частоколом и неширокой запреткой. А рядом с нашим лагерем — женский лагерь, угол которого на расстоянии метров 80 от угла промзоны. (Это у этой промзоны, по рассказу одного из литовцев, в 50-х годах было расстреляно пять литовских студентов-беглецов. Их где-то поймали, и приведя в лагерь, расстреляли). Это лагерь для женщин-политзаключённых. Их всего около 200. Это всё, что осталось от той массы женщин-политзаключённых, которые были в лагерях до хрущёвской «оттепели». Бараки у них ещё не построены. За новым частоколом виднеются палатки.
Сначала я занял место в той секции старого барака, где уже были А. Григоренко, Ф. Вознюк, В. Андрушко. Но стали формировать отряды и меня перевели в другую секцию, где я также занял неплохое место — у окна на верхней кровати, которая была вплотную к стене соседней секции. А напротив на нижней кровати был П. Андросюк. Так вот, заняв такое место, я чувствовал себя довольно комфортно. В этой же секции, кроме других украинцев, были и те, которых я запомнил: Кавацив и, если не ошибаюсь, Олекса Тихий (тот человек в прошлом был преподавателем, был тихим и незаметным в зоне); Маменко Олекса — штудировал Гегеля (о, этого было слышно на всю секцию, когда он с восторгом говорил о Гегеле); Шмуль Владимир, недавно прибывший из села Кривое Радеховского района Львовской области. После демобилизации, вернувшись в село, Владимир вывесил флаги. Таскали и его невесту, подозревая в том, что она причастна к пошиву флагов.
В этом лагере нам было, я бы сказал, как-то проще и более уютно, чем в зоне в Барашево. Было несколько вольготнее. Конечно, мы не сидели в лагере. Нас, как и раньше, выводили на работу, в основном, за пределы лагеря. Кого на заготовку дров, а кого на строительство и на полевые работы. Вскоре стали формировать бригаду косарей. Узнав, что в бригаде будет и такая работа, где не надо косой махать, я сказал Михаилу Гаврильченко (певцу в нашем хоре, имел чудесный бас), чтобы и меня записал в бригаду и поспособствовал, чтобы я занял то место. Так и было сделано. Я получил топор, заступ и косу. Моей обязанностью было вслед за косарями выкорчёвывать кусты, которые изредка попадались на тех лугах. Как только светало, мы отправлялись из лагеря и, пройдя за посёлок Озёрный (от лагеря более километра), приступали к работе. Бригада старательно махала косами, а я ждал, когда появится какой-нибудь кустик. Я не выкорчёвывал, за заступ не брался, потому что это было бы много работы, а у земли его срубал и на том всё. А как попадались совсем молодые побеги, то скашивал косой. Завтрак как нам, так и конвою, привозили. Еда была сытной, с мясом и салом, значительно лучше, чем в лагере. Немного отдохнув, косари брались за косы, а я и дальше отдыхал себе на покосе. Лето было хорошим, дни солнечные, тихие. Небо голубое — голубее, чем на Житомирщине. Трава густая, почти по пояс, а вокруг — лес. Конвой, вооружённый автоматами, небольшой. Солдат от солдата на значительном расстоянии. Хотя сенокос и ровный и солдаты просматривают покосы, но можно было бы и сбежать, даже сделав из травы маскхалат, чтобы заползти через прокос в высокую траву, а там уже ползи к лесу. Но я уже разменял два года, да и ещё не созрел до того, чтобы совсем распрощаться с той жизнью, которая была до ареста. Рядом были и старшие, и сроки имели значительно бо́льшие, но не было заметно, чтобы кто-то из них стремился в лес. Где-то недели две длилась косовица. Скошенная трава быстро становилась сеном, и следом за нами, на значительном расстоянии, сено сгребала бригада женщин из женского лагеря. Иногда бригады разминались на дороге и при встрече заключённые друг другу перебрасывали записки, а бывало, что и подходили друг к другу, когда конвой не был очень строгим. В целом конвой относился к нам неплохо. Нам даже разрешили раза два искупаться у моста через маленькую речушку, протекавшую за посёлком и впадавшую в реку Вад, которая, как нам было известно, протекала недалеко от посёлка. У моста был глубокий водоём (с головой), и мы, возвращаясь с косовицы, с удовольствием ныряли и плавали, радуясь, что нам в заключении выпало такое, что нам и не представлялось.
Косовица закончилась. Бригаду расформировали, и я снова в бригаде строителей, которые возводят недалеко от лагеря пристройку к зданию, что тянется вдоль улицы. В бригаде и Василий Макаренко. Эта небольшая бригада в основном из прибалтов. Здесь снова те, что были со мной летом прошлого года на достройке цеха. Мимо нас часто проходит женская бригада, в которой и девушка, в которую влюблён один из литовцев. Кажется, его звали Альгис. Он учился с ней в одном классе (их взяли из 10-го класса). Все знают, что они влюблены друг в друга, а потому им, видимо, неловко (даже краснеют), когда здороваются друг с другом. Так же с обеих сторон летят записки. Эта почта работает и для тех, кто в промзоне или в той бригаде, которой редко выпадает встреча с женским контингентом. Стал переписываться и Макаренко с одной из оуновок, выяснив, как там у них, как живётся. Нас и здесь не подгоняют, но почти все работают — возводят деревянную пристройку. Ну, а я и ещё Йонас беловолосый, недавно прибывший с воли (литовцы считали его не совсем своим — говорили, что он полуполяк), бездельничаем. Чтобы не торчать у тех, что осваивают строительное дело, я вылезаю на покатую крышу подсобки и в основном заполняю время, погрузившись в свои мысли, или беседуя с кем-то, кто вылез позагорать или просто полежать. С улицы и отрядному, если наведается, нас не видно. А конвою что?! Конвою безразлично, работаем мы или нет. Так и так нужно отстоять восемь часов.
Мимо нас проводили не только тех, что работали в поле на сельскохозяйственных работах. В женском лагере ещё не было своей бани, а потому когда выпадал для них банный день, женщин водили куда-то в баню. Среди них были уже и такие, что непригодны к труду. Были и такие, которым уже тяжеловато было ходить, а потому некоторых и поддерживали. С этими женщинами мимо нас проходили жена и дочь известного писателя Пастернака, которого в своё время преследовали за роман «Доктор Живаго». С дочерью кое-кто из евреев и русских обменивались записками. Это были в какой-то мере знаменитости — родня самого Пастернака. Насколько знаю, представители других национальностей с ними не переписывались. Переписка велась, как правило, между представителями одной национальности. Запомнилось мне и общение Павла Матвейко, крепкого парня с густыми тёмно-русыми усами, с одной из женщин. Он работал в бригаде строителей, которая строила барак в женском лагере. Там он познакомился с женщиной, которой, как и ему, уже было где-то за тридцать. Он и фото её показывал. Она была то ли из ОУН, то ли из УПА. В бою потеряла кисть руки. Павел, как и она, не был женат. Видимо, и сроки заключения заканчивались почти одновременно, потому что Павел нам говорил, что выйдя, они поженятся. Меня его намерение удивило, а потому я сказал Павлу:
— Павел, Вы же до этого с ней не были даже знакомы. Почему же Вы должны портить себе жизнь, женившись на калеке? И она должна понимать, что Вы ей не пара. Такова уж судьба. Почему из жалости должны идти на такое?
— А почему она должна быть одна? — говорит мне Павел.
Его намерение для меня было странным. Ведь как это сходиться с калекой, хоть и недурной собой, — но ведь калекой, с которой тебя, более того, объединяет лишь идея.
Мне вспомнился 1959-й год. Лето. Я работаю в Новограде-Волынском. Кроме нас, мужчин, была и небольшая группа девушек. Одна из них мне приглянулась. Стал уделять ей больше внимания. И вот, рассказывая о себе, она сказала, что у неё удалили аппендикс. Услышанное сразу же перевернуло что-то в моей душе. Нарисованный в воображении образ девушки сразу же исчез, и у меня пропал к ней интерес, как к надкушенному кем-то яблоку.
Где-то тогда в лагере умер один заключённый. Это уже было то ли в конце лета, то ли в начале осени. В рабочее время, потому что заключённых в лагере было немного (и я почему-то тогда был не за зоной). Кто-то сказал, что в санчасти умер заключённый. Я пошёл в санчасть. Нас собралась небольшая группа. Вскоре подъехал грузовик. Из санчасти вынесли ногами вперёд заключённого лет где-то под 40. Покойника подняли на кузов. Группа стояла опечаленная. Ведь это была смерть ещё не старого человека, да ещё и в неволе. Машина тронулась. Мы знали: его отвезут в Барашево и закопают там за лагерем на кладбище для заключённых, прибив к столбику бирку с номером. А семье, если такая есть, сообщат о его смерти. Группа разошлась. Я не знал его лично, а потому и не расспрашивал, откуда он. Знаю лишь, что это был не украинец, потому что в таком случае его смерть для украинцев была бы событием, которое обсуждали бы и обо всём знали бы.
Настала осень. Я уже в бригаде на заготовке дров. Это за посёлком в сторону Яваса. Объект по заготовке дров одной стороной примыкал к лесу, а другой к дороге, что шла на Явас. Так вот, если кто-то освобождался, то проезжая на грузовике мимо объекта, махал нам рукой, а вся бригада махала ему в ответ. Бо́льшая часть того объекта была заложена дровами, заготовленными ещё до нашего прибытия. Выйдя на объект, заключённые кладут на козлы брёвна, распиливают вручную, раскалывают и складывают. И здесь нас никто не подгоняет. Работают те, кому нечем себя занять. Другие что-то читают или что-то обсуждают. Я если и берусь за пилу или топор, то лишь для того, чтобы размяться. А больше времени провожу в компании Юрия Машкова (студента Московского университета), его приятеля Щербакова и ещё одного, имя которого не помню, которые также в прошлом были студентами. Они русские. С Юрием я уже давно общаюсь. Он и на сенокосе был. Мы обмениваемся своими взглядами. Юрий — ярый антисемит. Евреи знают об этом и, как я уже позже понял, так и меня, и его приятелей зачислили в антисемиты, хотя мы ими не были, а высказывания Машкова относительно евреев не воспринимали всерьёз, и вообще не придавали тому значения. Я и не задумывался над тем, что евреи относились к этому совсем по-другому. Не знаю, как уж позже, но в то время в нём (Юрке) не чувствовалось шовинизма. Наоборот, он говорил, что лучше тратить средства на улучшение жизни народа, а не на космос и вооружение. Я же, украинец, исходя из того, что народы постоянно борются между собой за первенство, говорил ему: «Для русского должен быть важнее полёт в космос, слава, а не отказ от этого ради наполненного желудка, а на народ не стоит обращать внимания». Юрий болел за народ. Помню, на сенокосе в разговоре со мной даже сетовал, что снизилась рождаемость. На что я ему тогда сказал:
— Мы и так как в мешке. Скоро этих людей будет столько, что и посрать негде будет.
Кроме бесед и рассказов Джека Лондона, которые нам читал, переводя с английского приятель Машкова, я заполнял время ещё и тем, что уединялся, углубившись в свои думы, погружаясь в мир, далёкий от лагерной жизни.
Осень была тёплой, сухой. Уже под конец осени у меня возникла мысль: «А почему бы не поджечь эти дрова?!» Так вот, под конец рабочего дня скрутил вату, собрал щепок и сухой травы, да и подложил под дрова. Когда объявили готовиться к снятию с работы, поджёг скрученный валик из ваты и поставил так, чтобы он, дотлев, поджёг сухую траву со щепками. Придя в зону, сказал об этом Андросюку, и мы, подойдя ближе к вахте, поглядывали в ту сторону, надеясь, что вот-вот там появится зарево. Но уже и темень, а зарева так и нет. «Как же так, ведь должно было загореться», — думаю недовольно. На второй день, выйдя на работу, через какое-то время залезаю между дрова и осматриваю то, что я соорудил для поджога. Всё как было, только вата, протлев ещё немного, погасла. Я всё разбросал и уже не брался повторно за поджог. Это и опасно было, потому что могли бы обратить внимание, что я бывал между дровами. Конечно, если бы сгорел весь этот огромный склад дров, то тяжёлой работы нам было бы на всю зиму.
Из украинцев больше всего общаюсь с Павлом Андросюком и Василием Макаренко, а ещё с Куликом Павлом с Полтавщины, который выходит со мной на заготовку дров, но в основном бездельничает, рассказывая мне о своей службе на флоте и о голоде в 1933-м году в его селе. Здесь же на заготовке дров общаюсь с Бульбинским Борисом, недавно прибывшим из Сасово (Рязанской области), где был на бесконвойке, но возвращён обратно в лагерь, потому что Указ от 5 мая 1961 года ликвидировал бесконвойку для политзаключённых. Бульбинский неплохо знает историю, к тому же по профессии преподаватель, любит рассказывать, и я, чтобы скоротать время, слушаю его рассказы о далёком и близком прошлом. У него скоро заканчивается срок — 5 лет. Из его высказываний понимаю, что он после освобождения не собирается сидеть тихо. Он считает, что неплохо было бы создать подпольную организацию. Это меня радует, потому что я также уже давно обдумываю, какой должна быть программа организации, какое подпольное издание, какие действия, уже и название имел этого издания: «Голос свободолюбивых украинцев». Да и кое-что уже из написанного и зашифровано в отдельных местах. Мои ближайшие единомышленники — Андросюк и Макаренко. Кулик, а также Ружицкий с Матвейко тоже активно подключились бы. А потому, зная о намерениях Бульбинского, больше сближаюсь с ним и договариваюсь о встрече после освобождения, обмениваемся адресами. А настроен я был решительно. Агитационная и пропагандистская деятельность была для меня на втором плане. На первом — боевые действия, террор. С некоторыми из своих единомышленников даже делился своими мыслями. Ещё осенью 1960-го, в Барашево, я говорил Ружицкому:
— Если бы мне сотню парней, готовых погибнуть, то хорошо вооружившись можно было бы вскочить в Кремль в день собрания ЦК или съезда КПСС и уничтожить всё, что удастся уничтожить.
Конечно, все бы погибли, но это было бы зрелище — событие, которое всколыхнуло бы всю империю. А ещё обдумывал (что было бы легче для осуществления) захватить где-то в Подмосковье «Катюшу», замаскировать под обычный грузовик и подогнав на соответствующее расстояние дать залп по Кремлю. Заинтересовало меня и тактическое атомное оружие, которое, согласно сообщениям, появилось в воинских частях. Я даже расспрашивал об этом оружии у тех, кто недавно отслужил срочную. Я увлекался крупными акциями, в то же время понимая сложность их осуществления той организацией, которую мы способны создать в условиях советского тоталитаризма. Это могла бы осуществить лишь воинская часть или те военные, которые непосредственно владеют этим оружием.
Меня тянуло к действию. А тут жди, когда тот срок закончится? Я думал: зачем же ждать, когда уже не будет возврата к той жизни, которой я жил до ареста. И уже осенью 1961-го сказал Андросюку и Макаренко: «Если мы собираемся после освобождения переходить в подполье, то зачем нам ждать освобождения? Почему бы нам не совершить побег из лагеря?» Они согласились. Наметив ещё двух заключённых, которые пошли бы с нами, стали обдумывать варианты группового побега. Решили сделать подкоп из барака, что стоял у вахты вдоль запретки. Обходили его изнутри, везде заглядывали, но у нас что-то не получалось с подкопом, было бы очень сложно лазить под пол.
Павел нам говорит:
— Вам не стоит рисковать, попадётесь, добавят ещё по три года. Я буду убегать, а после вашего освобождения встретимся.
Я предлагаю Павлу дождаться сенокоса.
Вот и прошёл 1961-й год. За Новым годом настало Рождество. После того, как заключённые лагеря поужинали, сдвигаем в один ряд столы, садимся ужинать. Один из тех, что работают на кухне, приготовил и кутью. За столом несколько десятков украинцев. Приходят и представители других национальностей. Среди нас и бывший священник, который, выступив с проповедью, благословляет ужин. Все в приподнятом праздничном настроении. Разошлись уже где-то после отбоя в 22 часа.
Незаметно, без хлопот, прошла зима, потому что я большинство дней на работу за зону не выходил: зимой в ночное время с 22 часов до 6 утра был сторожем в секции, следил, чтобы не возник пожар. Конечно, такая работа, да ещё и в тепле, для меня не была обременительной.
Я уже снова на заготовке дров. Уже и дни становились более весенними. Когда в 17 часов снимаемся с работы, то под ногами всё больше талого снега. Я, как и все, в битых валенках, которые нам выдают на зимний период. Но, видимо, я неправильно их растоптал, потому что мои пятки уже на середине валенок. Подтягиваю, но они снова сползают и почти по пол-валенка снаружи по бокам. Я, идя в колонне, только поглядываю, чтобы никто не наступил, потому что тогда нога совсем вылезет из валенка. Уже позже из-за них отсидел в ШИЗО. Это когда сдавали валенки вольнонаёмному, заведовавшему складом, в котором хранилось всё то имущество, что выдавалось заключённым. Я их и высушил, и выровнял, но придать валенкам надлежащую форму уже было невозможно. Завскладом отказался их принимать. Мои настояния на него не действовали.
— Так не принимаете? — спрашиваю его.
— Нет, — отвечает завскладом.
Я беру валенки и, переступив порог, бросаю на середину большой лужи, доходящей почти до порога. Завскладом подал рапорт, и на второй день меня вызывает отрядный, требуя письменного объяснения. Я отказываюсь писать, но говорю ему: «А что я должен был делать? Завскладом сказал, что они уже непригодны, так я и выбросил». Отрядный стал меня упрекать моим небрежным отношением к имуществу, говорить что-то и о том, что я должен быть бережливым, что у меня и своя семья будет. Тогда я ему:
— Пока будет советская власть, у меня семьи не будет.
После этого разговора через день или через два я уже был в ШИЗО. А валенки ещё долго лежали в той неглубокой луже, и заключённые, проходя — а это недалеко от вахты — смотрели на валенки и, улыбаясь, шутили над моей выходкой.
В лагере уже нет Григоренко, Тарасюка, Бульбинского — они уже на воле. И я уже последний год разменял. Уже и год прошёл, как вышел Указ от 5 мая. Мы уже знаем, что в других лагерях прошла перетасовка заключённых. Что те, кто имел две судимости и попал в категорию «особо опасных рецидивистов», и те, кого помиловали от смертной казни, отделены и находятся в лагере особого режима № 10. Знаем, что это уже тюремные, а не лагерные условия. Уже не в бараках, а в камерах, к тому же там нет ни передач, ни посылок, ни продуктов в ларьке — одна баланда. Как-то мне Машков говорит: «Некоторые бытовики накалывают на лице антисоветские наколки и их за это расстреливают». Меня удивило не то, что их расстреливают, а то, что они так низко пали, что делают из себя уродов этой татуировкой.
— Жалеть их нечего, потому что нечего прибегать к такой жалкой форме протеста, — говорю на это Машкову. Машков со мной не соглашается.
А за нас ещё не взялись. В общем, у нас ещё всё как было. Мы ещё и Пасху отметили, хотя уже не с таким размахом. И под вечер за моим бараком ещё собирается, как и раньше, группа и поёт те же песни, которые пели летом 60-го. Я также иногда подхожу. Пение довольно мощное, ведь здесь такой бас у Михаила Гаврильченко и тенор у Кавацива. А ещё участие таких певцов, как Шишун Пилип и Захарченко Пётр. Песня льётся далеко за лагерь. Она доносится и до женского лагеря. Там выходят послушать. А бывало, украинки и свою заводили, и уже слушаем песню в их исполнении. Небольшой хор был и из литовцев, они также иногда пели для своих землячек. Правда, иногда уже стали подходить надзиратели и требовать прекратить пение. Это уже был май. Где-то в ту пору у меня возникла мысль: а почему бы не нарисовать на видных местах фашистскую свастику и этим показать, что мы воспринимаем советские лагеря как фашистские? К тому же это будет событие в нашей тихой лагерной жизни. Приняв такое решение, предложил Макаренко принять в этом участие. Он не против. Тогда делаю кисть и где-то уже перед самым отбоем идём с Василием к штабу и кистью, хорошо вымоченной в чёрном сапожном креме, на дверях штаба, обтянутых материалом, похожим на мешковину, рисую большую свастику. Василий стоит рядом и следит, чтобы нас не заметили. Нарисовав, подходим к стационарным агиткам-плакатам и я вырисовываю свастику на нескольких плакатах. На второй день иду посмотреть, как там с моими рисунками. На плакатах свастика на месте, а вот на дверях штаба большое, несколько испачканное пятно, сквозь которое всё-таки проглядывается свастика. Полностью отмыть её не удалось. Ну, а заключённые уже всё это увидели и обсуждают это событие. Слышу, что некоторым евреям, видимо, марксистам, это не по нраву. А может, они увидели свастику только на плакатах и восприняли это как выходку антисемитов.
Всю осень и зиму, кроме работы, я продолжал изучать немецкий язык, а вечерами ходил с теми, кто как и я не имел среднего образования, в школу в 10-й класс. Уроки вели преподаватели из заключённых, которые в основном преподавали в университетах или институтах. Немецким языком я уже овладел настолько, что без словаря читал адаптированную литературу и пробовал в какой-то мере овладеть и разговорной речью, практикуясь с немцем Отто. До конца я не доучился, хотя мог бы поехать с другими в 7-й лагерь и получить аттестат. Но зачем он мне! В мои планы не входило после освобождения поступать в какое-либо учебное заведение для получения какого-нибудь диплома. Зачем он мне, если я не собираюсь работать где-либо и в любом государстве! А те знания, которые я могу получить даже в каком-то университете, мне не нужны. Ведь те знания нужны лишь для функционирования государства (муравейника) и для какого-то привилегированного для себя места в государстве (государство создают и сохраняют те, кто стремится к властвованию и привилегиям, и дураки. Великий патриот — это либо великий дурак, либо лжец). А на то, что меня интересует, никакой университет и никто из людей ответа не даст — не снимет бессмысленности бытия. (Разве Экклезиасту дал бы что-то сегодняшний университет?!) Понял я и то, что если твоя страна оккупирована, а ты работаешь, то работаешь на врага. А тем более, если ты занимаешь какую-то должность. Тогда ты ещё и погонщик — янычар! Опять же, ты работаешь, потому что тебе нужны деньги. Но зачем тебе работать, когда эти деньги ты можешь отнять у государства!
Уже где-то конец мая или начало июня. Я снова в поле, но уже в бригаде, которая пропалывает плантацию свёклы. В бригаде и Павел Кулик, и Маменко Олекса.
Кстати, евреи уже ко мне несколько по-другому относятся. Это после инцидента, произошедшего в лагере, и моего разговора с Владимиром Тельниковым, который после того инцидента подошёл ко мне и предложил прогуляться. Прогуливаясь, мы больше узнали друг о друге. В том разговоре я его заверил, что те, кто постоянно общается с Машковым, не являются антисемитами. А случилось тогда вот что. Выйдя из секции и повернув за барак, я и Павел Андросюк увидели огромную толпу. Похоже было на то, что здесь, за бараком, собрались почти все заключённые. Такого у нас не бывало. И видно, что там идёт какая-то разборка. Спрашиваем, тех кто поближе к нам: «Что там такое?» «А это тот азербайджанец, что прибыл в лагерь, видимо, из бытовиков, угрожал Кушниру ножом. У него требуют извинений перед Кушниром, но он не хочет и ведёт себя нагло», — отвечает нам кто-то из заключённых. Кушнира я хорошо знаю. Его и кровать внизу во второй вагонке за Павлом. В прошлом то ли студент, то ли что-то преподавал. Это вежливый, культурный человек, видимо, украинец, хотя больше общается с евреями и русскими.
— Пошли, — говорю Павлу.
Мы пробираемся в середину толпы, подходим к Кушниру и азербайджанцу, который стоит напротив Кушнира и пренебрежительно реагирует на требования окружающих. Его и земляки поддерживают, говоря, что не надо требовать у него извинений, унижать его. Бить, как вижу, его никто не собирается. Он также это видит. Не теряя времени, потому что разговор с ним уже исчерпан, подхожу вплотную и спрашиваю: «Ты будешь извиняться или нет?» Он взглянул мне в лицо и его взгляд погас, он опустил глаза.
— Ну?! — спрашиваю его.
— Хорошо. Я извинюсь, но я с ним отойду в сторону.
— Нет! Ты извинишься здесь, — говорю ему.
Тут и его земляки вмешиваются, говоря, что пусть он извинится, отойдя в сторону. Кушнир также соглашается, чтобы он извинился перед ним с глазу на глаз.
— Ну что ж, идите, — говорю им.
Они отходят, а толпа, довольная своей победой, расходится. (Когда имеешь дело с наглецом, то слова, не подпёртые кулаком, ничего не стоят. Он извинился, а в дальнейшем при встрече вежливо здоровался со мной.)
Дождавшись сенокоса, Павел пошёл в бригаду косарей. Вернувшись с работы, Павел рассказывает о сенокосе, о том, что чуть не сбежал. Когда утром идём на развод, то в мыслях прощаемся. И вот однажды, уже после обеда, слышим один за другим выстрелы. Выстрелы из-под леса, где работает бригада косарей. Меня охватило волнение: что там? Почему выстрелы? На меня почему-то поглядывает Маменко. Видимо, заметил моё волнение и догадывается. Вскоре к нашему конвою подбегает военный, и мы слышим: сбежал заключённый из бригады косарей. Удалось! — думаю я с радостью. Нас снимают с работы и приводят в лагерь. Но в лагере встречаю… Павла! Оказывается, сбежал грузин. (Через сутки его поймали. Добавили три года и отправили во Владимир). Заключённых на сенокос уже не выводят. А Павел снова в промзоне и решает бежать из промзоны. А план побега такой: угловая вышка, что напротив женского лагеря, стоит в низине у небольшого болота, и значительная часть запретки весной и после дождя в воде. К тому же на этой угловой вышке часовой не стоит, потому что до этой вышки запретка просматривается с угловой вышки со стороны вахты и вышки, стоящей напротив запретки, которая отделяет жилую зону от промзоны. Павел планирует пробраться через эту залитую водой запретку. Но ему нужна помощь. Нужно, чтобы на какое-то время лампочки, висящие изредка над частоколом запретки, едва тлели, потому что отключить их невозможно: та линия не связана с электрощитом, что в промзоне. Нужно поменять и пробку на электрощите и этим отключить общее освещение. (Лагерь недавно подключили к электростанции. До того в промзоне дизель крутил генератор. А электрощит ещё не перенесли за пределы промзоны).
— Я помогу, — говорю Павлу.
Незадолго до вывода заключённых из промзоны Володя Шмуль открывает ворота — и я в промзоне. Прячусь в указанном Павлом месте.
Павел тоже прячется, а его карточка уже вложена к карточкам тех, кто в жилой зоне. В промзоне уже никого нет. Стемнело. Ко мне подходит Павел, и мы идём в щитовую, где он показывает мне, какую пробку вынимать и на её месте установить перегоревшую. После этого идём в цех. Павел берёт плоскую железяку и закладывает между зубьями большой циркулярной пилы — заклинивает — и показывает мне кнопки. Показав, берёт сумку с одеждой и продуктами. Попрощавшись, он идёт к запретке, а я к электрощиту. Зайдя, меняю пробку. Везде темно. Темно и в жилой зоне. Горят лишь одиночные лампочки над частоколом запретки. Бегу в цех и нажимаю на кнопку. Завыл мощный мотор. Смотрю на запретку. Лампочки едва тлеют — почти темно. Выключаю на мгновение и снова включаю. Мотор воет и вот-вот загорится. Выключаю и слышу мат часового с вышки, который требует не включать мотор. Я включаю. Мотор снова воет. И тут забегает Павел. Я выключаю, а Павел вынимает железяку из пилы и отбрасывает в сторону. Мы бежим к запретке, что отделяет жилую зону. Павел бросает сумку в какую-то бочку с водой и, что-то подставив, мы вылезаем на частокол, перелезаем через колючие провода, что над частоколом, и спрыгиваем в жилую зону. Часовой нас не видит, потому что этот частокол отключён, темно, и к тому же ему не до этой запретки. Нас встречает Василий Макаренко, и мы спешим в барак, потому что Павел по колени мокрый. Сбежать не удалось. А случилось следующее: как только погас свет, Павел пошёл в запретку, дошёл до частокола и уже собирался ломиком отрывать колья частокола, но тут за частоколом затопали по трапу солдаты. Пришлось вернуться. Следов мы не оставили. И оперативная часть так и не выяснила, что там случилось.
Я на свёкле. Вся плантация в сорняках, и надо хорошо приглядываться, чтобы увидеть тот бурячок среди такой же зелени. Зайдя на плантацию, мы расстилаем свои фуфайки и бушлаты. Одни что-то читали, кое-кто беседовал, а какая-то часть ковырялась в тех рядках свёклы. Когда нас снимали с работы, то за нами оставался вытоптанный участок. Мы, видимо, постепенно вытоптали бы всю ту плантацию, но за нас таки взялись и заставили работать. Чтобы проконтролировать, как кто работает, отрядный (в чине капитана) приказал, чтобы каждый взял для себя отдельный рядок. Деваться было некуда. Каждый стал закрепляться за своим рядком. Хотя я понимал, что попадаю в трудную ситуацию, но рядка не брал, потому что что ж его брать, если я не собираюсь пропалывать. Я, как и раньше, простелил бушлат, прилёг боком на одну его половину, а второй прикрывшись, погрузился в свои думы, в тот мир, в котором уже не хотелось на что-либо реагировать, потому что душа в том мире становилась лишней, каким-то хламом из раздражителей и реакций на них. Это было то, что достигается в глубокой старости. То, когда душа усыхает, как ветки на старом дереве. Это уже было иное видение мира, это — просветление. Так и лежал себе до обеда и после обеда. А незадолго до снятия с работы появляется отрядный и, начав с края, спрашивает каждого, где его рядок. Так он прошёл всех и приблизился ко мне. Я хоть и заметил его появление, но продолжал, оперевшись на локоть, полулежать, наблюдая за его обходом.
— Где Ваш рядок? — спрашивает у меня отрядный.
— Вон! — показываю ему рукой на рядки, которые он уже прошёл.
— Где? — снова он мне, поглядывая на рядки, — думая, видимо, что он какой-то пропустил, и снова смотрит на меня и уже строже требует:
— Где? Идите и покажите!
Мне уже это надоело. Я снимаю очки и, протягивая ему, говорю:
— Если не видите, то возьмите и посмотрите.
После моих слов его физиономию аж перекосило от возмущения.
— Пойдёте в ШИЗО! — говорит отрядный и отходит от меня. Действительно, на второй день я уже в ШИЗО. Ну и что?! Можно и на нарах неделю полежать. Отлежал — и снова в зоне. А в зоне уже заметны признаки того, что нас скоро вывезут. Что ж! Переезжать, так переезжать, но надо бы перед отъездом что-нибудь натворить — думаю себе. А почему бы перед отъездом не сжечь этот лагерь — возникла мысль. И чтобы всё одновременно загорелось.
Поделился своими мыслями с Макаренко. Василий сразу же согласился принять участие в этой акции. Хотя все здания были из дерева, а крыши крыты дранкой, всё же поджечь быстро все здания было не просто. Ведь стены оштукатурены, а крыша слишком высоко — рукой не достанешь и не соорудишь какие-то подмости. Пришли к выводу, что удобнее всего будет поджечь, облив перед этим крыши бензином. А бензин можно достать в промзоне. В промзоне есть и наш человек. Это Шмуль Владимир. Он и ворота в промзону открывает. К тому же, эти ворота днём администрацией не контролируются. Обращаемся к Владимиру. Он, не спрашивая для чего, соглашается раздобыть нам пять бутылок бензина (на каждое здание одна бутылка), а это три барака, столовая-клуб с кухней и штаб администрации. Вскоре Владимир передаёт Василию через ворота эти бутылки с бензином. Вырыв на своей грядке (как и кое-кто из других заключённых, выращивали огурцы и лук) ямки, мы заворачиваем в землю эти бутылки, окончательно решив совершить поджог в последнюю ночь перед этапом. И эта ночь настала. Где-то в конце июня нас вывозят с 17-го. Половина заключённых уже выбыла, а на второй день вывезут и нас.
Уже когда совсем стемнело, ходим по зоне и, оценивая обстановку, ждём, когда наступит тот благоприятный момент. Кажется, что этот момент уже настал. Берём только четыре бутылки и идём к бараку, что ближе к вахте, собираемся оттуда начать. А тут снова заключённые. И надзиратели снова ходят по зоне. Уже за полночь, а большинство заключённых так и не ложатся спать. Ночь тёплая, тихая. То там стоят, то ходят, разговаривая о чём-то своём. К тому же хотя ночь и тёмная, но отблески от освещённой запретки и кое-где лампочек на столбах дают возможность разглядеть тех, кто ходит по зоне. Бесспорно, что нас могли заметить. Уже и ходить по зоне с бутылками рискованно. Для нас уже становится опасным не то чтобы всё поджечь, а даже поджечь отдельное здание. Но ведь мне хотелось увидеть всё в огне. И что одно здание?! Это не то зрелище. С сожалением согласились, что у нас с поджогом ничего не выйдет. Мы подошли к своей грядке, закопали в землю две бутылки, а две я беру с собой: может, ещё удастся поджечь хотя бы свой барак. Василий пошёл в свой барак, что у вахты, а я, зайдя в секцию, осматриваю, можно ли было бы поджечь изнутри. В секции не все спят. Заглядываю в нашу кладовку, дверь в которую из коридора, но там на полках чемоданы и тюки с вещами заключённых. Можно было бы поджечь, но сгорят же вещи заключённых. Уже и светать начинает. Я беру бутылки, засовываю вглубь печки и иду спать.
Долго спать не пришлось. Нас, как и предыдущую группу, строят в колонну и выводят из лагеря. Там нас уже ждут грузовики. Посадив в машины, нас вывозят в обратном направлении. За нами остался пустой лагерь. Пустым он не будет. Туда кого-нибудь завезут. Скорее всего, опять бытовиков. Вольнонаёмным, особенно женщинам (а их было несколько человек), конечно, с нами было спокойнее и безопаснее. В зимние дни, работая дотемна, они не боялись в одиночку идти через зону к вахте. Вольнонаёмных мы устраивали, и они даже с грустью расставались с нами. Итак, нас, «болтунов», снова разбросали.
Думаю, что возвращение этих нескольких сотен энергичных молодых заключённых к тем, кто уже отсидел много лет, прошёл через те жестокие условия, которые были в лагерях в 40-х и первой половине 50-х, было вызвано не тем, что вводились новые режимы содержания (этот режим — строгий — мог точно так же быть и на 17-м), а скорее всего тем, что эксперимент с отделением не удался. КГБ, без сомнения, имел своих информаторов, и те докладывали, что в лагере значительная часть молодёжи сплачивается и после освобождения планирует продолжить сопротивление коммунистическому режиму, к тому же уже более серьёзное. И действительно. Будучи на виду друг у друга, общаясь, молодые люди стремились утвердить себя, показать, что они способны на нечто большее, чем то, что было у них до этого. И выходило так, что, находясь в изоляции от более опытных «матёрых» — на языке кагэбистов — врагов советской власти, те, кто в основном попал в лагерь за какие-то там незначительные дела, здесь объединяются и планируют создавать подпольные организации для продолжения борьбы. Эта молодёжь не перевоспитывалась в том плане, в котором они, видимо, наметили. Молодёжь не порывала связей с солагерниками. Освобождаясь, брали домашние адреса, переписывались. Особенно это проявилось, когда нас стали вывозить отдельными группами, что свидетельствовало о том, что нас разлучают, отправляя в разные лагеря. Когда в колонну выстроилась первая группа, то те, кто ещё оставался, провожали колонну как друзей вплоть до их выхода за ворота.
7-й лагерь (пос. Сосновка), в который нас привезли в июне 1962 года, возле железной дороги. Это, как и 11-й, большой лагерь, точно не помню, но где-то на полторы тысячи человек. Нас сразу же разместили по баракам. Я с Андросюком попал в одну секцию. Наши кровати рядом. Кругом полно новых людей, большинство уже в летах. Они уже всего навидались и наслушались. Хотя и бодро держатся, но чувствуется, что они уже устали и смирились со своей судьбой. Они уже просто досиживают свой срок. Много тех, у кого 25-летний срок заключения. У кого уже половина, а то и больше отсижено из 25-ти, у тех есть надежда, что, может, снимут до 15 лет, ведь новый Уголовный кодекс не предусматривает срока заключения более 15 лет.
Мы, прибывшие с 17-го, растворились в этой массе заключённых. Мы и на работе не только в разных бригадах и цехах (в промзоне мебельная фабрика), но и в разных сменах, а потому уже изредка встречаемся с солагерниками по 17-му. На 7-м уже введён строгий режим со всеми ограничениями, которые он предусматривает. Так что завоёванный заключёнными в результате восстаний более лёгкий режим просуществовал 7 лет. И уже никакого сопротивления Указу от 5 мая. Уже, фактически, и некому оказывать сопротивление, потому что уже нет той массы политзаключённых, что была в 50-х годах. Ведь на весь ГУЛАГ политзаключённых оставалось где-то свыше 6 тысяч. Серьёзного сопротивления они уже не могли оказать. Ходили, правда, слухи, что в уголовных лагерях оказывали сопротивление. Это сопротивление подавляли, а к более активным в сопротивлении применяли ст. 77-прим. и расстреливали или давали новый срок — 15 лет. Думаю, что этот режим многих заставил задуматься: «А стоит ли после освобождения делать что-то такое, за что можно снова оказаться в лагере?» Правда, из-за короткого пребывания в лагере ощутить все пункты тех ограничений мне уже не пришлось. Всё же я ещё успел познакомиться с Юрием Шухевичем, к которому меня подвёл В. Тельников (до разделения они сидели в одном лагере), и Андреем, земляком из Емильчинского района. У Андрея одна нога была на деревяшке. Уже не помню ни его фамилии (ведь мы коротко общались), ни при каких именно обстоятельствах он попал в лапы НКВД. Помню лишь, что в Емильчинском районе он скрывался в крыивке, что во второй половине 40-х его ранили в ногу и доставили в Житомир, в подвал дома, в котором находилось КГБ. Над ним очень издевались. Медицинской помощи своевременно не оказали, возникла гангрена, и ему отрезали ногу. Он довольно резво шагал на той деревянной ноге, собирая липовый цвет и одновременно беседуя со мной. Познакомился и с сотником УПА Владимиром Бричем (волыняком) и ещё с некоторыми заключёнными. Вот и всё, что было из общения с теми, кто вёл вооружённую борьбу с оккупантом.
Вскоре за невыполнение нормы (работал на последней операции изготовления футляров для часов «кукушка» — зачистка наждачной шкуркой вручную) поместили в ШИЗО. ШИЗО уже было с голыми нарами (без бушлата) и ограниченным питанием. А через несколько дней после выхода из ШИЗО вызывают меня на заседание районного суда. Нас, вызванных, собралось около десятка человек. Все с 17-го. Тут и Тельников, и Леонов Андрей. Тут и сумасшедший с 17-го. Из украинцев — один я. Суд в полном составе. Нам отдельно на каждого зачитывают материал, поданный администрацией 17-го лагеря, с ходатайством перевести на тюремное заключение за нарушение лагерного режима. Как полагается, судья у каждого ещё спросил, что он скажет по поводу поданного материала. А что говорить?! Каждый что-то сказал, не оправдываясь и не выпрашивая пощады. Сказал и я кое-что, что фактически не касалось дела — что-то о том, что слава мне не нужна, но, поняв, что я говорю что-то не то, ведь это же не выступление на каком-то политическом процессе (высоко взял), и в этой ситуации это выглядит несколько комично, оборвал своё неуместное выступление и, сказав что-то там о том, что я вёл себя в лагере так, как и положено себя вести, закончил свою речь. Что касается сумасшедшего, то тот стал рассказывать им о космической гравитации, ему сказали, что достаточно, его поняли, и суд вышел в другое помещение для вынесения каждому постановления. Долго там не совещались. Заходят и зачитывают: мне и Леонову до конца срока, Тельникову — на полгода, ещё там кому-то до конца, а остальным по три года пребывания (у них срок был больше 3-х лет) на т/з (тюремное заключение). Не помню, сколько дали сумасшедшему — три или до конца. Нам тут же приказали собрать вещи и прийти на вахту. Когда все собрались, нас отвели в ШИЗО и разместили по камерам.
Хотя в лагере уже было туго с продуктами — ларёк 5 руб. в месяц, — но наши приятели нам подкинули немного продуктов, и мы имели возможность что-то добавлять к пайке, которую нам выдавали. Мы ждали отправки на этап — в тюрьму города Владимира. И вот снова Потьма, Рузаевка — знакомые пересылки. А из Рузаевки уже тюрьма в Горьком и, наконец, конечный пункт — Владимирская тюрьма, куда мы прибыли 2 сентября 1962 года.
В Горьком мы встретили заключённого, который рассказал нам о тюремном режиме содержания. Так что мы знали, что во Владимире после оформления на т/з в камеру, кроме пайки хлеба, ничего не внесёшь. Прибыв, мы ещё все вместе переночевали в этапной камере, а обедали уже в камерах 1-го корпуса, как заключённые крытой тюрьмы. («Крытая» — это тюрьма, предназначенная для отбывания тюремного срока заключения).
Тельников и Леонов попали со мной в одну камеру на 3-м этаже. Камера на 5 человек. Кроме нас, ещё двое заключённых, один из которых явно принадлежал к бытовикам (видимо, прибыл из уголовного лагеря). Пришёл корпусной старшина и объявил, что нас, согласно тюремным Правилам, будут два месяца содержать на строгом режиме. Первый месяц — пониженная норма питания. Мы уже знали об этом, а потому ещё в этапной камере договорились, что будем говорить, что пониженную норму питания мы уже отбыли, когда месяц сидели в ШИЗО на 7-м после суда в ожидании этапа. Мы и заявления понаписывали. То была инициатива Тельникова. Я не верил, что тут что-то получится, но тоже подал заявление. И чудо: нам тот месяц в ШИЗО засчитали. (Мне по сей день непонятно, почему администрация пошла нам навстречу, ведь в Правилах ясно сказано: по прибытии на т/з). Итак, на пониженную норму питания нас не переводят. Нам остаётся отбыть месяц на строгом, а это почти такой же паёк, как и на общем режиме содержания, только не можешь купить продукты на 2 руб. 50 коп. в месяц. Не можешь и посылку получить — 5 кг на 6 месяцев.
Через месяц Тельников и Леонов переходят в камеру общего режима, а я остаюсь. У меня нарушение: не поднялся своевременно с кровати после команды «подъём». А потому я должен ещё как минимум месяц находиться на строгом содержании.
Больше с Тельниковым и Леоновым я не встречался, хотя и записывал их адреса. Адрес Леонова, который должен был освободиться в следующем году, я взял на всякий случай, — может, пригодится этот надёжный парень из Иваново. А вот насчёт Тельникова, то ещё на этапе мы обсуждали планы совершения покушения на Хрущёва. Договорились, что после его освобождения я приеду к нему в Москву, и тогда мы более конкретно обсудим эту тему. (Тельников в прошлом студент Ленинградского университета. Срок — 5 лет. За нарушение режима в 60-м, кажется, до года находился в штрафном лагере — на «спеце». Освободился Тельников где-то в конце лета 63-го года. Потом эмигрировал в Израиль, а оттуда в Англию. Отец Владимира Тельникова был армейским генералом).
В камеру на место выбывших прибывают двое незнакомых заключённых. Один из них украинец, а второй — башкир. У башкира поведение странное, скорее всего, этот молодой человек действительно сумасшедший. Уже где-то на второй или третий день он полез в шкафчик, выхватил оттуда кусок хлеба от пайки, который принадлежал тому уголовному типу, и стал жадно его глотать. На него бросается владелец того куска, с руганью бьёт башкира, забирая у него остаток. Я бросился между ними и прекратил это безобразие. Башкира из камеры забрали. А с украинцем я очень быстро сдружился, это был Николай Танащук из Хмельницкой области. Он несколько старше меня. Месяц пониженного питания уже отсидел. А прибыл с 19-го за побег из лагеря, который совершил с Иваном Кочубеем. Кроме дополнительного срока за побег, им дали и по три года содержания на тюремном режиме. Про Ивана я знал. Это подельник Павла Андросюка. Когда я находился на 7-м, Павел рассказывал мне о неудачном побеге Ивана с 19-го. То, что Николай оказался подельником Кочубея, меня ещё больше сблизило с ним.
Николай попал в заключение в середине 50-х. В 1957-м совершил удачный побег из 7-го лагеря. Добравшись до Кавказа, попытался перейти границу, но был задержан. Его вернули в Мордовию, добавили срок, и до следующего побега он был на 19-м. Я бы сказал, что Николай был слишком воцерковлённым. Всё его поведение свидетельствовало, что это глубоко верующий человек, неукоснительно соблюдающий заповеди Иисуса Христа.
Приведу здесь один случай из его жизни, который его характеризует. А было это в Грузии после побега. Вот идёт он по улице города, а его обгоняют двое молодых грузин, которые куда-то спешили. Тут у одного из них выпадает какой-то свёрток. Подойдя, Николай поднимает свёрток и, обнаружив в нём большую сумму денег, окликает грузин. Грузины остановились. Николай подходит и подаёт им свёрток. Поражённые поведением Николая, грузины в знак благодарности вручают ему какую-то сумму из этих денег. Таким вот был Николай. Чудак, конечно. В такой трудной ситуации, в какой он находился после побега, отдать незнакомым людям то, что нашёл. Он был уравновешенным и даже слишком невозмутимым. И каждый день, став где-нибудь в углу, до десяти минут проводил за беззвучной молитвой. Из философов он больше всего ценил Сковороду, цитировал его. Это от него я впервые услышал: «Благодарю Тебя, Боже, что необходимое сделал лёгким, а трудное — ненужным». Я сразу же постиг глубину мысли Сковороды и то, что уже за одну лишь эту мысль он стоит того, чтобы его ценили. Ведь действительно: сколько дураков, друг перед другом лезут из кожи вон, чтобы другим доказать, что они способны осилить нечто более трудное. Вся наша цивилизация — это результат натуги этих дураков.
Рассказал Николай и о последнем побеге, и о том, откуда у него светлая полоска на стриженой голове выше лба. А было так. На 19-м он познакомился с Иваном Кочубеем. Решили бежать из лагеря (за пределы лагеря их не выводили). И бежать средь бела дня. Приготовив всё необходимое для побега, взяли лестницы и пошли на запретку. Перелезли через первую проволочную ограду, пробежали через полосу земли, поставили лестницы к частоколу и полезли наверх. А на вышках автоматчики. Одна из вышек совсем недалеко от них. А вторая на значительном расстоянии. Им повезло. Стрелять с той дальней вышки солдат не стал, потому что мог попасть в солдата на вышке, что недалеко от беглецов. А у солдата, что на ближней вышке, от испуга или ещё от чего-то выпал рожок из автомата и упал в запретку. Забравшись на частокол, спрыгнули вниз. Но при этом Иван вывихнул ногу. Быстро перемахнув через внешние ограждения, бросились к лесу, который был рядом. Солдат с дальней вышки стал по ним стрелять, но не попал. Иван ещё успел вбежать в лес, но бежать уже не мог и сел на землю. А Николай побежал по лесу. Наверное, где-то рядом были солдаты, потому что сразу же началось преследование. Николая очень быстро стал догонять солдат с собакой. Но почему-то не стрелял и не спускал собаку с поводка. Но когда уже приблизился на небольшое расстояние, крикнул: «Стой!». Николай остановился и повернулся к нему лицом. И тут же очередь из автомата. Пуля чиркнула по голове выше лба. Николай падает, притворившись убитым. Его голова залита кровью. К нему подошёл солдат. А когда подбежали и другие солдаты, Николай зашевелился, взглянул на них. И сразу же тот, что стрелял в него, навёл на Николая автомат и уже должен был нажать на спусковой крючок, но солдат, стоявший рядом, заметил и, бросившись к нему, отвёл автомат в сторону и сказал: «Если ты хотел добить, то это надо было делать до нас. Ты не имеешь права, будешь отвечать». Я не спрашивал ни у Николая, ни у Ивана (позже), потому что о таком не спрашивают, но для меня так и осталось непонятным, почему они шли на запретку днём, ведь они не сидели в камерах. И почему недалеко от вышки, с которой только из-за потери рожка солдат не мог стрелять. А потому возникает вопрос, не было ли здесь договорённости с солдатом?
Через несколько недель меня перевели в другую камеру. С Николаем больше не встречался. Ещё когда находился в Мордовии, слышал, что он сошёл с ума, но не верилось. А уже где-то во второй половине 90-х годов прочитал воспоминания незнакомого мне заключённого о Владимирской тюрьме (Анатолий Радыгин, «Жизнь в мордовских концлагерях изнутри», 1974 год, Мюнхен). К сожалению, с ним такое действительно случилось — Николай сошёл с ума. Дальнейшая его судьба неизвестна.
Продержав меня на первом этаже, где кроме меня в камере было ещё двое заключённых, фамилий и имён которых я не запомнил, но с одним из них встретился в 1964-м на особом — 10-м лагере, администрация тюрьмы в ноябре перевела меня на общий тюремный режим.
Я оказался в угловой камере № 85 — тройнике, на третьем этаже. В камере уже сидело двое заключённых. Это были какие-то непонятные для меня типы. Один примерно моих лет — какой-то полулатыш (с его слов). Хотя он не рассказывал, но, скорее всего, прибыл из уголовного лагеря. А второй чуть старше, но молчаливый, определить, что он собой представляет, было трудновато. На общем режиме мне уже можно было закупать продукты на 2 руб. 50 коп. в месяц и получить пятикилограммовую посылку. Деньги на моём счёте ещё какие-то были, и я, как и все, закупил продукты и написал родителям письмо, чтобы выслали посылку — уже последнюю посылку, которую я ещё имел право получить. Вскоре этот полулатыш получает посылку. Третью часть посылки даёт мне, а того молчуна только угостил. На следующий день, как всегда, я с этим полулатышом выхожу на прогулку, а молчун остаётся в камере (на прогулку он выходил изредка). Отбыв положенный час в прогулочном дворике, возвращаемся в камеру. И тут этот полулатыш с руганью бросается на молчуна и бьёт его по голове металлической миской. Я бросаюсь между ними. У молчуна из головы идёт кровь. А этот полулатыш кричит, что он (молчун) лазил к нему в сумку с продуктами. В камеру заходят надзиратели. Объясняя, что он не брал продукты, молчун выходит из камеры. Неприятная сцена. Но куда денешься. Мы остаёмся вдвоём. Но недолго. В камеру входит среднего роста, крепкого сложения, с волевым лицом заключённый, которому на вид уже где-то за тридцать пять лет. Знакомимся. Иван Кочубей — говорит он о себе. «Иван?» — переспросил я удивлённо, шагнув к нему ближе и касаясь его руками. Мне даже не верится, что я встречаюсь с Иваном — подельником моего друга Павла Андросюка. Иван тоже несколько удивлённо смотрит на незнакомого ему заключённого, который так рад встрече.
Об Иване я знал из рассказов Павла. После службы в армии Павел остался в Иркутске. Там и женился. А со временем познакомился с Иваном, который уже и в лагерях насиделся. Строил и железную дорогу в Монголии. Не помню, как уже они дошли до мысли изготавливать и распространять листовки и что именно они там натворили, потому что эту антисоветскую (бумажную) деятельность затмила более серьёзная акция, за которую они также были привлечены к ответственности. Ну, а акция, на которую они пошли, была связана с тем, что на разворачивание антисоветской деятельности нужны были деньги. Сначала хотя бы какая-то небольшая сумма. Поэтому было решено ограбить магазин.
Событие разворачивалось следующим образом: вечером они подходят к магазину, сторож — внутри магазина. Когда дверь открылась, Иван вбегает внутрь, но сторож успевает вскочить в кладовку, что рядом с дверью. Иван бежит назад к двери, к выходу. Иван без оружия, а у сторожа в кладовке ружьё. Выбежав из магазина, Иван с Павлом бегут по снегу. Выскакивает из магазина и сторож. Сторож бежит за ними и на бегу стреляет по ним. Иван берёт у Павла малокалиберку, приседает, прицеливается и стреляет. Сторож ранен, и преследование прекращается. Через какое-то время их арестовывают. В 1959 году — суд. Ивану и Павлу дают по 15 лет с пребыванием первых трёх лет на тюремном заключении — во Владимирской тюрьме. На этапе договариваются, что по прибытии в лагерь будут бежать.
Иван рассказывал кое-что о побеге, а потом с недовольством в голосе:
— А что же Павел не бежит? — спрашивает меня. — Мы же с ним договорились.
Конечно, Павел менее инициативен и решителен, чем Иван, но он всё-таки пробовал бежать. На прогулке я рассказываю Ивану о Павле, о его попытке совершить побег из лагеря.
Где-то через несколько дней Иван показывает мне половину ножовочного полотна, которое ему удалось достать и каким-то чудом провезти аж во Владимирскую тюрьму. Он сказал, что попробует перепилить решётки и, спустившись во двор тюрьмы, перелезть через тюремную стену на территорию военного училища. Сделать это он собирался в другой камере, потому что 85-я камера была для этого непригодна — на окне двойные решётки. Обдумав всё, я сказал Ивану, что у него очень мало шансов на удачный побег. Обнаружат попытку побега — это снова дополнительный срок, а главное, дополнительное тюремное заключение.
— Не стоит рисковать, — сказал я ему. И добавил: «Я в апреле освобожусь и подготовлю побег из лагеря. Подберёшь хороших ребят для деятельности на воле — таких, которые были бы готовы на всё».
Иван долго колебался, но принял моё предложение. Мы договорились: я переправлю оружие (его устраивала малокалиберка) в лагерь или сделаю с воли подкоп. А такое удобное место для подкопа я наметил, когда ещё находился в 3-м лагере. Там рядом с запреткой стояло большое здание — склад, к которому на 3-м мы достроили помещение. Пол этого склада был на высоте около одного метра. Проникни под пол и рой себе до больницы. А в больницу можно было попасть из любого лагеря. И не обязательно быть больным. Можно было бы и «мастырку» (симуляцию болезни) сделать.
После нашей договорённости, выйдя в туалет, Иван выбросил ножовочное полотно, которое с таким трудом доставил в тюрьму. Потом, наверное, жалел, потому что его можно было бы попробовать засунуть где-нибудь в одном из прогулочных двориков, а то и в обложку какой-нибудь книги спрятать. И я почему-то не подумал об этом и не подсказал ему.
В этой камере я ещё успел получить посылку и разделить её на три части, отдав часть и тому полулатышу. Кстати, он оказался паскудной личностью. Очень быстро сообразив, что я с Иваном в дружеских отношениях, почему-то стал нашёптывать мне (значит, он был ещё и дураком), что Иван — это не Иван, а подсаженный, который выдаёт себя за Ивана. Само собой разумеется, что я рассказал об этом Ивану, сказав при этом, чтобы Иван его не трогал, потому что нас рассадят по разным камерам. Но по тому, какие взгляды после этого бросал на него Иван, тот сообразил, что я рассказал Ивану о его нашёптывании, и когда в какой-то из дней мы выходили на прогулку, он с нами не вышел и сразу же стал требовать у надзирателя, чтобы тот вызвал корпусного. Когда мы вернулись с прогулки, его в камере уже не было. Вскоре и меня перевели в другую камеру. С Иваном я пробыл где-то около двух недель и больше с ним не виделся. Ко мне он претензий не имел, потому что я ему сказал: я не выполню обещанного только в том случае, если меня арестуют. К сожалению, Ивану больше не удалось побыть на воле. Уже позже я узнал, что он умер в заключении.
Иван был родом с Кубани. После освобождения в 63-м я переписывался с его братом, старшим Ивана, его адрес: станица Полтавская, хутор Брюховецкий.
Уже в 90-х годах, будучи на воле, имел случайный разговор в Киеве с одним заключённым, который сидел с Иваном в одном лагере и общался с ним. Я, конечно, поинтересовался, был ли у Ивана с ним какой-то разговор о моём обещании помочь ему.
— Был, — ответил мне этот заключённый. И говорит:
— Иван говорил, что Сергей сделал бы то, что обещал.
На Новый, 1963-й год, я уже сидел в камере № 73. Здесь уже было не так, как в 85-й, в которой кроме голода донимал ещё и холод, и приходилось греться (пока не остынет) у чайника с крутым кипятком. В 73-й холод уже не донимал. Эта камера также на 3-м этаже окном к военному училищу. В камере нас было пятеро. В этой камере я и сидел до освобождения. Из заключённых этой камеры запомнились лишь две фамилии и то, что какое-то время находились и двое украинцев старшего возраста, из Западной Украины, один из которых имел срок свыше 10 лет и первые пять лет тюремного заключения. Наверное, это был член одной из организаций Львовщины, руководителей которых в 1962-м приговорили к смертной казни, потому что, помню, он упоминал об одном из расстрелянных в разговоре со своим земляком. Ну, а так как он высказывал своё несколько негативное отношение к расстрелянному, я потерял интерес к его личности. А те фамилии, что остались в памяти, это Кульчар и Афонин. Кульчар — венгр по национальности, в прошлом военнопленный. Он много просидел, ведь кроме плена несколько раз пытался перейти границу, так как никак не мог добиться легального переезда в Венгрию, где жила его родня. Он жалел, что женился на русской и принял советское подданство. Это уже была задёрганная, нервная, невысокого роста личность. В тюрьме он уже больше года. Рассказывал, как ему сиделось в камере с бериевцами — была там такая камера. И о двух заключённых, которые вскрыли себе вены, нацедили в миску крови и пили её, поджаривали на газетах. Ларьком Кульчар не пользовался. И посылку не получал, потому что некому было выслать: ни деньги, ни посылку. А Афонин, родом из Ленинграда, бывший солдат, проходил срочную службу в Германии и при попытке перейти в Западную Германию был арестован. С большим сроком заключения, недавно доставлен в тюрьму.
Наверное, благодаря тому, что ещё не исчерпался жировой запас, первые месяцы пребывания в тюрьме переносятся не так ощутимо. А вот проходит какое-то время и чувствуется, что такое постоянное недоедание и тюремный режим вообще. Никто из нас, новоприбывших, не был раньше в таких условиях. А это кроме недоедания с 6 утра до 10 вечера («подъёма» и «отбоя») нужно быть в вертикальном состоянии. Запрещалось даже голову положить на стол. И когда уже наступает время отбоя, все посматривают на ночную лампочку, потому что под вечер голова становится тяжёлой, появляется ощущение, будто мозг отстаёт от черепа и плещется, как какая-то жидкость. Наконец над дверью загорается красная лампочка (ночная), и все моментально падают, потому что через 8 часов снова быть только в вертикальном положении. На работу не выводили. В камере ходить негде, потому что посреди камеры вмурован стол со скамьями по бокам. Ходить можно только от двери до этого стола, где-то с метр расстояния. Это два средних шага или три совсем мелких — не ходьба, а одни повороты: топтание на месте. Тюремная атмосфера очень угнетала. Но больше всего — голод. Голод мучил постоянно. Позавтракают — и уже ждут обеда, пообедают — ждут ужин. Ну, а что ужин... Это если не какая-то крупа на воде, то ложек семь «пюре» — картофель, растёртый в воде, — такая себе жидкость, там ни жира, ничего нет. Хлеб выдавали утром, я делил эту клейкую пайку на три раза, а некоторые сразу её съедали, а обедали и ужинали без хлеба. В обед черпак жидкого борща или супа, в котором кое-где плавают капли какого-то жира, и кусочек величиной с напёрсток мяса. А на второе ложек семь в основном ячневой (её называли «кирзовой») синеватого цвета жидкой каши на воде. На завтрак давали черпак жидкого супа и изредка маленький кусочек часто полусгнившей сельди, потому что чаще давали с десяток тюлек. Чтобы больше наполнить желудок, заключённые стали заливать тюльку кипятком и таким образом получали с полмиски дополнительной похлёбки. А отоваривались в ларьке два раза в месяц: по пять батонов и пачку маргарина за один раз отоваривания. И что то отоваривание? Ну, получит это заключённый, утолит немного голод — а дальше снова голодный. И ждать какой-то добавки уже не приходится. Но как-то был и сюрприз. Одного вечера, уже незадолго до отбоя, открываются двери, в камеру заходит старшина и ставит на стол большую кастрюлю, наполненную доверху красной свеклой. «Разбирайте», — говорит нам старшина. Все вскакивают, достают из шкафчика, что на стене, миски, и каждый накладывает себе, поглядывая, чтобы в миску не было положено больше, чем у других. Старшина забирает пустую кастрюлю и выходит из камеры. В камере возбуждение. Ведь каждый ждал уже отбоя, а не полную с верхом миску лакомства. Все повеселели и накинулись на свеклу. Должен сказать, что хотя и приходилось раньше есть красную свеклу, но не было такой сладкой и вкусной, как та, что принёс старшина. Всё же осталось неразгаданным: в тюрьме столько камер, и от кухни гораздо ближе, чем до нашего третьего этажа. Почему же он выбрал именно нашу камеру?
Администрация требовала выполнения требований режима содержания. Кто не выполнял, того переводили на строгий режим, отправляли в карцер или лишали посылки или ларька. Большинство старалось не нарушать режим, понимая, что ничего не добьются, а лишь навредят себе. Но были и такие, которые не просто допускали какие-то там незначительные нарушения режима. Они вели себя так, будто не произошло никаких изменений, а потому не придавали должного значения статье 77-прим.
Уже в январе или феврале нам стало известно, что расстрелян Денисов, который до того сидел в этом же корпусе. Расстреляли за то, что летом, выходя на прогулку, почему-то толкнул надзирателя и сбил фуражку. Его осудили по ст. 77-прим. — нападение на представителя администрации. Подобных случаев тогда было достаточно. Конечно, в местах заключения для уголовников. Расстреляли какого-то бытовика и на 10-м — замахнулся табуреткой.
Иногда в прогулочный дворик заводили заключённых из двух камер. Благодаря этому я несколько раз был в одном дворике с грузином, который совершил побег с сенокоса на 17-м. Он всё время находился в подавленном состоянии. Рассказывал кое-что о побеге, правда, неохотно. Оказывается, ночью он очень замёрз и зашёл в какой-то дом. Слабак, — подумал я, будучи недовольным, что он сорвал побег Павла. Выходил на прогулку и Орлов — бывший начальник полиции в Ровеньках, сидевший по делу «Молодой гвардии». Это была в какой-то мере знаменитость, к нему подходили, расспрашивали о событиях двадцатилетней давности. Он был уже в годах, невысокий, крепкого сложения. Рассказывал о тех событиях и возмущался, что в кинофильме он не в сапогах, а в бурках, которых никогда не носил. У него, как и у бургомистра Краснодона Стеценко, который также сидит в первом корпусе, 25 лет тюремного заключения. Орлов нам говорит:
— Если бы не тот Фадеев со своим романом, то я и Стеценко уже давно были бы на воле.
В камере я ничего не читал и в домино с другими не играл, не подключался и к всяким там разговорам. Моя кровать была под окном, так что, накрывшись почти с головой бушлатом и оперевшись спиной о стену (моя тогдашняя основная поза в тюрьме), я, отстранившись от всех, погружался в свой мир, в другие измерения мира, жизни. Кроме прочего, я думал: если бы я родился и жил в тюрьме без окон, а следовательно не знал бы, что есть солнце, деревья, реки, что есть что-то вкуснее того, что мне дают, то была бы у меня тяга к чему-то? Свобода! А что такое была «свобода» для того монаха-затворника, который замуровал себя? Тяга к свободе — это тяга к чему-то. С исчезновением этого «чего-то» (обмана) становится безразлично, где ты будешь — в тюрьме или за тюрьмой. Можно быть невольником (беспаспортным колхозником) и не чувствовать себя невольником. Следовательно, получается, что раб не тот, кто находится в рабстве. Раб тот, кто чувствует себя рабом.
Так прошло моё последнее время пребывания в заключении. Когда уже подходило освобождение, записал и выучил наизусть адрес родителей Афонина. Вот уже и день тот настал — 13 апреля 1963 года. Сокамерники и радуются, что я уже избавляюсь от этих издевательств, что вот-вот стану свободным человеком и для меня будет бушевать весна со всеми прелестями, и грустят, что у них судьба иная, что им ещё годы и годы не видать воли, терпеть издевательства. Я понимаю их состояние. Особенно Афонина — молодого парня, у которого молодость пройдёт за решёткой. Двери открываются. Я прощаюсь со всеми и выхожу из камеры. Меня ведут вниз. А там, всё проверив, отдают мне мой деревянный, покрашенный в тёмно-синий цвет чемоданчик с двумя книгами, в которых были спрятаны домашние адреса заключённых. С такими чемоданами уже не выходят из лагерей, но мне безразлично. У меня-то был новый, фабричный, но на 17-м я отдал его Омельченко с Ровенщины, а его деревянный взял себе, потому что куда же ему, моему ровеснику, без родни, ехать с таким чемоданом к чужим людям. Вручают мне билет на поезд до Новограда-Волынского и справку об освобождении, с которой я должен пойти в паспортный стол и получить паспорт. На вахте хотели, чтобы я расписался о неразглашении каких-то там «тюремных тайн», но я отказался.
Придя к железнодорожному вокзалу, который недалеко от тюрьмы, свернул направо к паспортному столу. Долго не добирался. А там мне быстро сделали паспорт. Вернувшись на вокзал, ещё какое-то время ждал электричку. Когда настало время посадки (где-то в 14 часов), перешёл на другую сторону станции, где на последнем пути у высокой платформы стояла почти пустая электричка. Вскоре электричка тронулась, и через какое-то время я был на станции Петушки, где у меня была пересадка. Что-то поев в столовой, отослал письмо родителям Афонина в Ленинград, написав, что их сын сидит с Кульчаром, что в тюрьме каждая крошка на счету и у него есть возможность получить на него посылку. Кажется, и чтобы денег небольшую сумму выслали на Кульчара. Стоял на перроне. Слегка порошил снег. Смотрел на колёса поезда, что проходил мимо, и думал: «А стоит ли ехать домой, ведь всё бессмысленно?» Уже смеркалось, когда я сел на поезд, идущий на Москву. Моё путешествие из Петушков до Новограда почему-то вылетело из памяти. Осталось лишь в памяти, что в Киев прибыл во второй половине дня, светило ярко солнце, а поезд до Новограда будет где-то ночью. Я помнил расписание движения поезда, который каждый день проходил через Новоград-Волынский, а потому ещё из тюрьмы написал родителям, что буду где-то в 10 утра в Новограде. Вот и Новоград. Людей из поезда выходит мало. А потому, когда я вышел из вагона недалеко от вокзала, мы сразу же увидели друг друга и пошли навстречу. Встретить меня приехал отец с братом Николаем. Сразу же достают из мешка одежду и предлагают переодеться. Но я отказываюсь. Меня устраивает и то, что на мне: новый бушлат, который выдали при освобождении, и тёмно-синяя фуражка с нашитым спереди незаконченным трезубцем, сшитая в лагере и подаренная мне Василием Макаренко. Мне было безразлично, как меня воспринимают люди. Ведь человек должен вести себя так, как будто никого кроме него нет во вселенной. Конечно, людей я различал: это были самки и самцы. Каждый что-то хотел, а потому каждый следил за состоянием своего «опёрышка».
— Пойдём в столовую, поедим, — говорит мне отец, увидев, наверное, как я выгляжу.
— Нет, поедем домой, — говорю отцу.
Приехав в Рогачев, вышли на Довбышском повороте и спешим домой. День какой-то нерадостный, пасмурный. И грязь на тропинке, на которую мы вышли за мостиком, чтобы добраться домой напрямик. Кое-кто нам встречается, здоровается, но мы не останавливаемся, потому что нам некогда, ведь дома мать, которую надо порадовать моим возвращением. Заходим во двор, а мать уже увидела нас, открывает двери, со слезами на глазах бросается ко мне. Я же — невозмутим. (Я не забывал: мать — это вчерашняя девушка, которая захотела стать женщиной, то же самое — что и тёлка, которой захотелось стать коровой). Я понимаю мать, но я уже не тот, что был когда-то, вместо проявления радости мне всё больше хотелось сказать то Иисусово:
— Что тебе, жено!
Мать быстро успокаивается и, не скрывая радости, носит тарелки на стол.
Садимся за стол, наливаем стопки, обедаем. Приходят из школы младший брат Андрей и племянник Павлик — сын сестры Нади. Андрей уже большой, не тот малыш, что провожал меня в 1959-м в Житомир. И он, как и все, рад, что я уже дома, рассказывает, какой у него был хороший большой пёс, что и ворота по команде перепрыгивал. Но его уже нет, несколько дней назад обнаружили в будке мёртвым.
Не прошло много времени после обеда, как приходят родственники, соседи, приезжают на телеге и братья по отцу — Василий и Павел. Все обращают внимание на то, каким я был и каким худым вернулся из тюрьмы. А Андрей Слюсарчук, двоюродный брат отца, который тоже за что-то побывал недолго в лагере, увидел меня, сел за стол, выпил стопку и вытирает слёзы. Я посидел с гостями, но, почувствовав усталость, полез на тёплую печь и погрузился в забытье.
Прошло две недели, как я дома. Прописался в селе. Получил и письмо от Кульчара, в котором благодарят за содействие в получении посылки. Я даже был удивлён, что всё получилось так быстро. Написал письма Ивану Кочубею и Павлу Андросюку, чтобы знали, что я уже дома и о них помню. На воле, кроме родных, у меня никого нет. За весь период заключения я, кроме родителей и сестёр, ни с кем не переписывался, вот и всё, что как-то ответил Александру Григоренко. А что было писать другим? И для чего?! Перебирая фотографии, изъял те, которые мне когда-то дарили на память девушки, и при матери бросил их в горящую печь.
— Зачем, пусть бы были! — говорит мать.
— С этим покончено, — отвечаю матери и продолжаю, — у меня семьи не будет. Если бы я был верующим, пошёл бы в монастырь. (Ещё за год до освобождения была мысль создать Орден, который призывал бы отказаться от репродукции. Но одновременно понимал: человечество будет игнорировать мои аргументы о бессмысленности производства детей. Это будет то же самое, что говорить яблоне — не плодить яблок. Это будет всего-навсего ещё одна секта тех, кто не размножается).
— А как же без семьи? А старость? — снова мать своё.
— Я не доживу до старости, — говорю на это матери. — Я дальше буду идти своей дорогой. Я не хочу повторять вашу жизнь, — добавляю к сказанному.
Мать огорчена и, не зная, что мне сказать, иногда тихо всхлипывает. А мне не хочется обнадёживать родных. Зачем, если в скором времени я могу погибнуть. Я был уверен, что живым меня уже не возьмут.
Я отдыхал, отходя после тюрьмы. И если была какая-то помощь от меня, то это лишь по тем работам, что были в огороде. Мне было досадно, что я ничем существенно не могу помочь родным, которые, как и большинство в селе, едва сводят концы с концами. Да ещё и мать на ферме дояркой, и сестра Ольга где-то на Запорожье доит в совхозе коров и проживает в общежитии, да и Надя, разойдясь с мужем, где-то там под Джанкоем в совхозе на виноградниках, в общежитии. Знаю, что и сёстры бедствуют, потому что зарплата у них никудышная. Брат Николай работает в колхозе трактористом на разных работах, а получает мизер. Неутешительная ситуация, но тешу себя тем, что скоро сойдусь с нужными мне людьми и смогу что-то провернуть — достать деньги не только для себя, но и для них.
И вот в мае, через месяц после моего освобождения, ко мне приезжает Борис Бульбинский. Когда он заходил, я с отцом как раз был во дворе. Я отцу сразу же:
— Это мой знакомый из Вирли, — зачем отцу знать, кто он, откуда и почему прибыл ко мне.
Мы пошли в конец огорода, сели на склоне, и Борис рассказывает мне о своей жизни на воле и о своей деятельности по созданию организации. Он проживает в Здолбунове, работает рабочим на Здолбуновском цементном заводе, потому что к преподавательской деятельности его не допускают. Рассказывает мне, что уже создана подпольная организация под названием ВДФ РСДП (Всесоюзный демократический фронт — Революционная социал-демократическая партия), что листовки уже напечатаны и будут приступать к их распространению. Рассказывает и о содержании листовки. А это о возрождении Хрущёвым сталинизма, призывы к демократизации, многопартийной системе, о праве каждого народа на самоопределение.
— А на каком языке напечатаны те листовки, которые будут распространяться в Украине, — спрашиваю Бориса.
Борис замялся, но говорит — на русском.
— Ну, это не годится, чтобы в Украине украинцы распространяли листовки на русском языке, — говорю ему.
— Со временем будут и на украинском, — обещает Борис.
Выясняю, как в организации с изготовлением фальшивых документов на случай перехода на нелегальное положение и с финансами. Оказывается, что о переходе в подполье у них и мысли не было. А финансы — заработок членов организации. Я смотрю на его потрёпанный сероватый пиджачок, на помятые брюки, заправленные в кирзовые сапоги. И это в середине мая! Думаю: нет, это не для конспирации он так одет, чтобы иметь вид какого-то местного колхозника.
— Так действовать не годится, — говорю Борису и продолжаю:
— Прежде чем заниматься какой-то деятельностью, нужно иметь фальшивые документы и перейти на нелегальное положение. А тогда, в первую очередь, — оружие и деньги, потому что на те заработанные копейки организация функционировать не сможет, да ещё и нешуточная — а Всесоюзная. Борис соглашается, что действительно деньги нужны. А насчёт перехода на нелегальное положение, такого желания у него не чувствуется. Тогда я рассказываю ему, в каких условиях уже находятся заключённые, что уже нет тех условий, в которых он находился, и если не перейти в подполье, то очень легко снова попасть за решётку. Борис уверенно говорит:
— Если бояться тюрьмы, то и нечего чем-то заниматься.
На это замечание я ему ничего не сказал, но подумал: хорошо, что не боится тюрьмы.
Я Борису доверял. А потому рассказал ему, что в мои планы входит создание националистической организации и организация побега группы заключённых из лагеря. Следовательно, я не могу входить в его организацию. Но мы могли бы сотрудничать — помогать друг другу. Борис просил, чтобы я помог в распространении листовок. Я не соглашался, потому что такое мелочное дело было не стоящим того, чтобы я им занимался. Но когда Борис сказал, что он не против раздобыть где-нибудь деньги и что у вахтёра на цементном заводе есть револьвер, который у него легко было бы отобрать, я согласился помочь ему в распространении, но с условием, что после распространения листовок я приезжаю к нему, мы забираем у вахтёра револьвер и идём добывать деньги — проведём экспроприацию, напав на какую-то кассу или магазин или на инкассатора. Я был рад, что он согласился, потому что уже не нужно кого-то подыскивать или ждать кого-то из надёжных — тех, кто должен скоро выйти из заключения. К тому же, в случае чего, он обещал, что и его люди смогут подключиться к моим делам. Договорился я с ним и о том, что никто из его организации не будет знать обо мне. Я сказал ему:
— Я не хочу знать, кто те люди, которые входят в вашу организацию, и не хочу, чтобы кто-то из них знал обо мне.
Когда мы разговаривали, отец работал в огороде. А увидев, что мы уже идём от склона, подошёл и говорит:
— Пойдёмте пообедаем.
Мы все трое сели за стол. Отец и бутылку поставил. За обедом и разговор пошёл. Отец расспрашивал Бориса, кто он и чем занимается. И Борис почему-то не стал скрывать, кто он и откуда, сказав, что он не из соседнего села Вирля, а из Вилии, что на Ровенщине. Мне это не понравилось, но думаю — пусть себе будет и так. А когда Борис уже вышел за ворота, отец мне говорит:
— Так к тебе приехал такой же, как ты. Ты снова собираешься заниматься глупостями. В тюрьму захотел?! За народ болеете! Зачем оно тебе? Ты что, не видишь, какие люди?!
Я успокаивал отца, говоря ему, что человек проезжал и зашёл меня проведать. Что мы не собираемся чем-то заниматься. О народе я ничего отцу не сказал, потому что и сам видел, чего он стоит. Да и вообще, при чём тут народ?! Разве для того, чтобы сделать какую-то неприятность Москве (оккупанту) нужен народ? Что мне до него, как и ему до меня? Ведь тут всего-навсего срабатывал инстинкт противодействия — желание дать по морде тем, кто силой навязывал свою волю. В данном случае противодействие наглой Москве. К тому же, несмотря ни на что, во мне ещё теплилось что-то геростратовское. Родители же, а особенно мать, воспринимали меня как какого-то примитива. Сестра Ольга как-то сказала мне, что мать, говоря ей обо мне, говорила: «Сергей, как и Христос, страдает за народ». (Наверное, родители думали, что я тот самый идиот из повести Горького, который вырвал своё сердце, чтобы осветить свиньям дорогу к корыту. Если так, то они ошибались, потому что для меня пожертвовать своей жизнью — это стать навозом для кого-то, признать себя неполноценным. А что может быть ценнее, чем ты сам!).
Я понимал, что Бульбинский — это не то, что было бы желательно в данном случае. Но мне нужно было что-то делать, потому что уже месяц сижу на шее у родителей, а устраиваться на работу в мои планы не входило. Я не желал быть добровольным невольником. К тому же и власть скоро обратит внимание на то, что я не работаю, и потребует, чтобы я устроился на какое-то предприятие или шёл работать в колхоз. Следовательно, не оставалось ничего другого, как переходить на нелегальное положение. А для этого нужны были хотя бы оружие и деньги. Другого выхода, как добыть оружие и деньги с Бульбинским, я не видел. Мои же попытки убедить Бориса в том, чтобы сначала выполнить предложенное мной — добыть оружие и деньги, — наталкивались на одно:
— Нет! Сначала — листовки, потому что если нас арестуют, то мы пойдём по уголовному делу.
Поэтому уже через несколько дней я выехал в Здолбунов. После встречи в условленном месте зашли в дом, в котором он проживал. Рассматривая клише, на котором Борис печатал листовки, поинтересовался у него, как он печатал — голыми руками или в перчатках.
— Голыми руками, — отвечает мне Борис.
— Как?! Так на листовках же отпечатки ваших пальцев. На вас сразу же выйдут, — говорю ему.
Вместо того чтобы плюнуть и уйти от него, я всё-таки говорю ему:
— Хорошо, отпечатки на листовках я уничтожу. А Вы сделайте то же самое с теми, которые есть у Вас.
Взяв 1800 листовок (в приговоре и в показаниях Бульбинского фигурирует «1000». Почему — неизвестно. Хотя хорошо помню — 1800. Поэтому и указываю эту цифру. Хотя мне всё равно), выехал в обратном направлении.
Прибыв домой, сразу же выкопал в сарае неглубокую яму, положил туда листовки, засыпал и утрамбовал. Так как я приехал домой утром, родители догадались, что я за чем-то ездил. И снова отец ко мне со своими требованиями не делать что-то такое, за что ждёт тюрьма. Но я на это не обращал внимания, лишь повторял ранее сказанное, что я не собираюсь жить так, как они и им подобные. У вас своя жизнь, а у меня — своя. Тюрьма — так тюрьма! И если я снова сяду, то помощи просить не буду.
Через несколько дней откопал листовки, занёс их в дом и приступил к уничтожению отпечатков Бульбинского. Я брал стопку листовок и, наклоняя её то к себе, то от себя, стучал ею об стол. Каждый листок тёрся о другой листок и таким образом уничтожал отпечатки пальцев. Старательно проделав эту операцию, я упаковал листовки в пакет и на следующий день (20 мая) в обеденное время выехал на попутной машине на Довбыш. На перекрёстке, где был поворот на Довбыш, слез с машины и пошёл по дороге в направлении автодороги Новоград-Волынский — Житомир. Вскоре увидел то, что собирался найти по дороге в Житомир: недалеко справа мальчик пасёт корову. Я перевязываю кисть правой руки заготовленным куском белой ткани, натягиваю на глаза фуражку и, подойдя к мальчику, говорю ему, что я корреспондент и мне нужно отправить письма, но я неосторожно повредил руку и не могу подписать конверты. Так не мог бы он помочь мне. Мальчик соглашается. Я даю ему ручку, и он конверт за конвертом заполняет адресами. А адресаты: Евтушенко, Твардовский и ещё несколько известных писателей. Мальчик ещё совсем маленький, застенчивый и разговаривает со мной только с опущенной головой. Это мне нравится. Вряд ли запомнит. Я благодарю его, возвращаюсь на дорогу и иду в сторону автотрассы.
Я не спешил, потому что до вечера было ещё далеко. Выйдя на автотрассу, сел на попутную машину и перед заходом солнца уже был на окраине Житомира — на Богунии. Дождавшись на конечной трамвайной остановке сумерек, достал несколько листовок и, разбросав на этой остановке, перешёл на другую сторону дороги и, идя вдоль забора военной части, периодически просовывал несколько листовок за штакетник. Разбрасывая по обе стороны улицы листовки, уже где-то к полуночи добрался до автостанции, которая тогда находилась на современной площади Победы. Повбрасывал и конверты в почтовые ящики. Спрятав небольшую часть листовок в куче кирпича какой-то большой новостройки (гостиница «Житомир»), направился к железнодорожному вокзалу, разбрасывая листовки во дворах домов, которые в основном были одноэтажными. Клал листовки и на подоконники, а то и вбрасывал через открытые форточки. Ночь была тихая и тёплая, а улицы безлюдны. Распространив листовки в районе железнодорожной станции, повернул к центру города, действуя и дальше тем же способом. На востоке уже начинало светать, когда я, взяв из кучи кирпича оставленные листовки, снова приступил к распространению. Последние листовки разбросал, когда вот-вот должно было всходить солнце, а на улице уже появились одинокие прохожие.
Итак, я едва справился с тем, что наметил. Вечером, приступая к распространению, я и не думал, что это займёт так много времени. Хотя этими листовками я не дорожил и распространял, лишь бы распространить. Конечно, если бы это были листовки моей организации, то распространение происходило бы гораздо рациональнее — делалось бы с уверенностью, что листовки достанутся только тем, кому они предназначались. А в этом случае я фактически лишь выполнял заказ. Без сомнения, такое количество листовок нужно было бы распространять не одну ночь, и даже не две. Чувствуя значительную усталость (ведь кроме всей ночи на ногах, я ещё более десяти километров прошёл от Довбыша до автотрассы), пошёл к автостанции. На автостанции пробыл меньше часа, ожидая первого автобуса до Новограда. В Новограде отправил письмо Бульбинскому, в котором дал знать, что листовки в Житомире распространены, и сразу же попуткой выехал в Рогачев. Прибыв, зашёл в школу. И как раз на перерыв. Встретившись с братом Андреем, спросил, как дома, не приходил ли кто. Услышав, что никого не было, сказал Андрею, чтобы на случай, если будут спрашивать, говорил, что я ночевал дома. И спокойно пошёл домой.
Дня через два, когда я брился, заходит ко мне односельчанин — рядовой колхозник, но был в компартии. Зайдя, спрашивает, не бывал ли я в Житомире, не видел ли, какие там велосипеды продаются. Я сразу же понял, что ему, как коммунисту, дали задание, и он вынужден его выполнять. Его и голос выдавал, потому что он не имел артистических способностей и, наверное, понимал, что не просто так интересуются, был ли Сергей в Житомире. Задрав голову и проведя бритвой по подбородку, говорю ему:
— Я не был в Житомире. Не знаю, как там с велосипедами.
Он сразу же вышел из дома. Я понимал, что ему было неприятно выполнять это поручение.
Уже где-то к концу мая съездил в Житомир, посетил мебельный комбинат, НГЧ и встретился с Валентиной Терновой, с которой до заключения учился в вечерней школе. Я даже немного уделял ей внимание, когда поздно вечером возвращались из школы: я в общежитие, а она за мост, что у вокзала. Но когда я ушёл из общежития, прекратилось и моё общение с ней. О любви я ей ничего не говорил, но она стала какой-то грустной и через какое-то время почему-то перестала ходить в школу, хотя и неплохо училась. Поэтому я и решил встретиться с ней. Узнав, что она на Богунии в каком-то там женском полку, я уже вечером вызвал её, и мы немного прогулялись. Валентина в военной униформе, учится на радистку. Она мне рассказала, что в Житомире были распространены листовки, и утром, где-то в 6 часов, их подняли по тревоге и направили на улицы города собирать эти листовки. Рассказали мне о листовках и на мебельном комбинате, и в НГЧ.
Вернувшись из Житомира, через несколько дней выехал на Запорожье в совхоз «Азов», в котором работала сестра Ольга. Проведав её, выехал в Джанкой, где в виноградном совхозе работала сестра Надя. Сёстрам я не сообщал, что собираюсь их проведать, поэтому мой приезд был для них неожиданным. Как у Ольги, так и у Нади не было ничего утешительного: общежитие, изнурительная работа и мизерная зарплата. А чем-то помочь я им не мог. Всё же, увидев, какая жизнь у Нади, а к тому же и то, что её сын растёт как круглый сирота, предложил Наде рассчитаться и вернуться на Житомирщину. Надя согласилась и быстро рассчиталась. К родителям мы вернулись уже вдвоём.
В первой декаде июня, стараясь быть незамеченным, выехал в Здолбунов на встречу с Бульбинским. Как и договаривались, встретились в буфете железнодорожного вокзала. Выпив по стакану сока, пошли на какой-то луг недалеко от вокзала обсудить наши дальнейшие действия, а точнее, как я рассчитывал: немедленно этой же или следующей ночью забрать у вахтёра револьвер, потому что я уже не собирался откладывать это дело на другой приезд. По дороге на луг я у него ничего и не спрашивал об этом, потому что я своё выполнил, а теперь должны сделать то, о чём договорились. Я лишь рассказал ему о мальчике в районе с. Довбыш и о том, как распространял листовки. Но когда мы присели, и я спросил, когда пойдём забирать револьвер, Бульбинский, помолчав, говорит:
— Я боюсь!
Я пробовал повлиять на него, но безрезультатно. Ответ был один: «Я боюсь!»
Убедившись, что мои взывания к его совести себя уже исчерпали и что не о чем с ним больше говорить, я поднялся. Поднялся и Борис. Мы молча пошли обратно к вокзалу. На вокзале мы разошлись, не имея намерения встретиться в будущем. Мне было досадно, что связался с этим ничтожеством-«революционером», что дал себя обмануть. Ведь можно было же поставить по-другому: сначала забираем револьвер, а тогда уже листовки. И если бы он не согласился, то и распрощаться с ним. Успокаивало меня лишь то, что КГБ на меня не выйдет, и уверенность в том, что Бульбинский, в случае ареста, меня не выдаст. Я был настолько уверен, что даже не стал ему угрожать убийством в случае предательства. Не дал и по морде за отказ выполнять обещанное. Хотя тут не по морде надо было бы бить, а «убрать» — и концы в воду.
Как оказалось, устроиться Наде в Житомире было непросто. И работу почему-то никак не могла найти, и в прописке отказали. Уже два дня бегаем по Житомиру, а у нас ничего не получается. И я подумал: а почему бы не пойти в КГБ и не попросить, чтобы помогли. К тому же, обратившись к ним, я этим самым покажу им, что мне нечего их бояться, потому что я ни к чему не причастен. Другого выхода, как обратиться к кагэбистам, я не видел. И вот я с Надей на проходной КГБ. Обратившись к дежурному с просьбой организовать встречу с кем-то из руководства, я сижу в комнате и жду. Ждать пришлось долго. Наконец приходит майор и забирает меня с проходной. Мы идём по двору и подходим к промежутку между двумя невысокими каменными заборами. У этого промежутка стоят двое рабочих с лопатами. А весь промежуток длиной в несколько метров аккуратно устлан жёлтым песком. Такое впечатление, будто они собираются покрыть этот участок асфальтом. Майор идёт немного сбоку, осторожно ставя на песок ноги. Я тоже, подражая ему, ступаю так, чтобы не разбросать песок. За нами остаются аккуратные отпечатки подошв. Заходим в кабинет. Я излагаю свою просьбу. Объясняю, что сестра меня послушала, рассчиталась, а теперь не может прописаться. Я ещё не успел закончить объяснение ситуации, в которой мы оказались, как зашли и уселись за стол со всех сторон ещё трое в гражданском. Майор дослушал меня и, не сказав твёрдо «нет» или «да», а что-то вокруг этого, перешёл к политике и экономике, вклинивая в свою речь и то, что вытекало из содержания листовки. Майор говорит, а другие внимательно рассматривают моё лицо. Я сначала из вежливости внимательно слушал майора, но мне стало неинтересно и скучно слушать его речь, что, бесспорно, отразилось на моём лице. Один за другим те трое встали и вышли из кабинета. Майор прекратил свою речь, и я снова:
— Так как? Поможете или нет?
— Поможем. Пусть сестра идёт в паспортный стол, а я туда позвоню, — говорит майор.
Я благодарю и покидаю КГБ. На улице, встревоженная тем, что я долго не появляюсь, ждала меня сестра. Мы едем в паспортный стол. На этот раз уже никаких проблем. Её сразу же прописывают. Прописка есть, значит, теперь и на работу примут.
Хотя для меня это было неприятно, но, учтя всё, я решил всё-таки устроиться на работу. После случая с Бульбинским я не стал подыскивать кого-то из таких, кто мог бы помочь достать фальшивые документы, оружие и деньги. Мне и спешить было некуда, ведь до возвращения Кочубея в лагерь ещё остаётся два года. Следовательно, ещё есть время. Спешить мне некуда. Да и скоро должны выйти Макаренко с Тельниковым. Правда, по освобождению им будет сначала не до меня. Ведь если они согласятся, то и им, как и мне, нужно будет искать кого-то из тех, кто будет надлежаще информирован, где и что можно достать. Следовательно, это займёт немало времени. Не сидеть же мне всё это время у родителей на шее. Да и представители власти начали уже требовать, чтобы я где-нибудь устроился на работу. Поэтому хочешь не хочешь, а пришёл устраиваться плотником в «Межколхозстрой» — таки стать добровольным невольником. И я, как и другие рабочие и служащие, стал ездить в «Межколхозстрой», что на окраине Барановки. Так я снова стал рабом, уже добровольно. Меня это очень угнетало. Ведь я не на цепи! Ведь волк, освободившись от привязи, не ждёт у будки, когда его снова привяжут. А я как тот пёс. И кругом — одни псы. Они даже не чувствуют ошейника на своей шее. Их вполне устраивает их собачья судьба. А если бы им ещё вволю мяса в миске, то больше ничего и не надо было бы. Они смеются, поют, влюбляются. И радуются, когда в их будке появляется их потомок, который продолжит «собачий род». И я, как и они, был в ошейнике. Но мы были разными. Нам не о чем было и говорить. Я работал, как и они. Но молча. Я знал: «Я временный пёс. Меня ждёт лес». Такое отношение к выполнению каких-либо функций в обществе касалось не только коммунистического общества. Я уже не мог быть ни рабочим, ни служащим в любом обществе. Я не мог быть муравьём в муравейнике. Независимо от того, какое положение он занимает в этом муравейнике.
В свободное от работы время прогуливался, ходил на речку. С девушками не водился. Разве что побеседую с какой-нибудь. А на упрёки насчёт обзаведения семьёй, бывало, говорил: «Я не против иметь жену. Но если она захочет иметь ребёнка, то мне придётся сводить её к соседу». Ну, как вот водят корову к быку. (Побаловаться — это одно, а быть причастным к производству людей… Я же мыслящее существо! Я скорее стал бы к стенке, чем пойти на такое). Как и в заключении, я жил двойной жизнью: внутренней — своей, а внешней — той, какой жило окружение. Бывало, что внутреннее вылезало наружу.
В Житомире и в Рогачеве я вёл себя довольно свободно. А так как от многих получил информацию, что в Житомире были распространены листовки, то со многими и делился этой информацией. Иногда надевал и фуражку, привезённую из тюрьмы. Допускал и некоторые высказывания, которые позже охарактеризовали как антисоветские и националистические. Я это делал сознательно, будучи уверенным, что такое моё поведение будет свидетельствовать, что ничем тайным я не занимаюсь.
Это уже, наверное, перевалило на вторую половину лета, как напротив нашего дома к Лавренчукам поселился студент Житомирского культурно-просветительного училища, который должен был проходить в Рогачеве практику. Мы очень быстро познакомились. Он примерно моих лет. По вечерам стали встречаться, обсуждать разные темы. Спросил я его и о том, не попадалась ли ему листовка из тех, что были распространены в Житомире. И сказал: «Если распространяются листовки, значит есть какая-то подпольная организация». Поведение его было несколько странным, не характерным для студента. На это и отец обратил внимание, когда вечером он зашёл к нам во время ужина. Это и соседи, к которым он поселился, заметили. Ну и пусть, почему бы мне с ним не общаться. Я жалуюсь ему, что и заработок маленький, что дом никудышный. Да он и сам видит нашу бедную жизнь. На следующий вечер мы встречаемся — и он, угощая меня и брата Николая дорогими конфетами, говорит, что съездил в Житомир. Был хороший вечер, и мы решили сходить в Острожецкий клуб. Там то ли танцы были, то ли что-то другое. В клубе мы почти не были, а слонялись возле него, где изредка встречались мои знакомые, которые, перекинувшись несколькими фразами, шли в клуб. Клуб меня не интересовал — я просто пошёл прогуляться. Студента также не интересовало то, что происходило в клубе. Мы продолжали говорить о всякой всячине, и вдруг, повторив, что он был в Житомире, «студент» меняет тон — это уже тон превосходства. И это уже не какой-то там недалёкий студентик. И хотя прямо не говорит, кто он такой, но говорит открыто, что он был в КГБ, имел там разговор и что имеет для меня хорошее предложение. А именно: если я соглашусь на сотрудничество, то буду иметь деньги, хорошую работу и квартиру в Житомире. «Но квартиру вы сможете получить позже, а пока будете занимать в этой квартире одну из свободных комнат. Эта комната уже будет ваша», — говорит мне.
— Нет, я на такое не пойду, — говорю «студенту».
Он удивлён. Наверное, был уверен, что я с радостью приму предложение. А потому, несмотря на моё «нет», продолжает и дальше про «хорошее предложение», с тем же тоном в голосе, восприняв, наверное, моё «нет» как какое-то недоразумение.
— Нет! — снова я ему, но уже с твёрдостью в голосе.
«Студент» возвращается к нормальному тону и уже пробует убедить меня, что я поступаю неразумно, отказываясь от таких выгод, которые буду иметь в случае сотрудничества. Но, снова услышав твёрдое «Нет!», замолкает. Нам уже не о чем говорить. К нам подходит брат Николай. «Студент» достаёт из кармана несколько конфет и подаёт по конфете мне и Николаю. Я беру конфету и, положив в рот, делаю вид, что с удовольствием перекатываю её во рту. Меня насторожило, что недавно он давал по горсти, а тут по одной. Поэтому, постояв возле него с минуту, сказал Николаю, что мне нужно что-то у него спросить и, отведя его в сторону, сказал, чтобы выплюнул конфету. Скорее всего, в конфете ничего не было, но на всякий случай лучше её не употреблять. Не возвращаясь к предложенной теме, «студент» вернулся с нами в Рогачев. Идя к своему дому, я, как ни в чём не бывало, сказал ему «Спокойной ночи». Больше я его не видел. На следующий день он уехал. Его «практика» была недолгой.
С Бульбинским я связь не поддерживал и не знал, как там у него с распространением листовок. Но появление «студента» давало основания думать, что листовки распространяются и что кагэбистам нужен человек, который мог бы выйти на организацию. А то, что КГБ решило, что такую информацию могли бы получить от меня, наверное, свидетельствовало о том, что кагэбисты владели кодом, полученным мной от Павла Андросюка. Пользуясь этим кодом, я сообщил Павлу, что связался с организацией, но эта организация не та, которая мне была бы нужна, а потому у меня с ней не может быть ничего общего. И если это действительно было именно так, то этим самым КГБ убедилось в том, что к распространению листовок я не имею отношения, но имею выход на какую-то организацию. Возможно, на ту, которая распространила в Житомире листовки.
Прошло лето. Где-то уже должен был выйти из лагеря Тельников. Уже должно быть и какое-то сообщение от него. Но вот 23 сентября мне вручают направление от Барановского военкомата в Житомирский госпиталь. Я должен там пройти медкомиссию на пригодность к призыву в армию. 24-го прибываю в госпиталь. В госпитале мне сообщают, что по какой-то причине госпиталь не может меня принять в день прибытия. И что я должен прийти на следующий день — 25 сентября. Что ж, пусть будет так. Я еду к своему приятелю Василию Герасимчуку, который проживает в своём недостроенном доме на Марьяновке. Этот дом на две половины. Во второй половине, которая тоже ещё не достроена, проживает тётка Васиной жены Елена с мужем Василием по фамилии Козел. Пообщавшись со всеми, решил проведать Наденьку Котенко, которая проживала с родителями по улице Бородия. Уже было темно, когда Наденьку вызвали (я сначала попросил какого-то мальчика, а потом одного из мужчин, подошедших ко мне) из квартиры на улицу. Тот участок улицы был не освещён, и разглядеть друг друга мы не могли. Это уже была встреча двух тёмных фигур, в голосе которых ещё сохранилось что-то знакомое. Но и этого было достаточно, чтобы почувствовать, что это уже не та 16-летняя девочка. Уже не было в ней и той радости от встречи, которая была когда-то. Это уже просто встретились давние знакомые. О Наде я уже знал от её сестры Гали (Елены), с которой встретился в мае, когда посетил контору НГЧ. Ну и Галя кое-что рассказала ей обо мне. Конечно, у неё и не могло быть уже того, что было до моего ареста, потому что я ей не давал о себе знать и даже не спешил встретиться после освобождения. И она стала уже взрослой — более трезво стала смотреть на вещи. Поэтому, наверное, и спросила меня, не буду ли я в дальнейшем заниматься чем-то таким, что грозит тюрьмой. Пообщавшись минут 10, мы разошлись, потому что говорить было не о чем, ведь мы были очень разными. Да и нужно было возвращаться к Герасимчуку.
На следующий день по прибытии в госпиталь меня поместили в неврологическое отделение, объяснив, что в других отделениях нет свободной койки. Я не был знаком с нормами прохождения медкомиссии, с тем, правомерным ли было моё направление в госпиталь, но всё время чувствовал какое-то беспокойство. И когда 26 сентября, уже под вечер, ко мне прибыл в госпиталь отец, я даже сказал ему: «Мне хочется сбежать отсюда». И действительно: меня что-то мучило, какая-то неведомая тревога и такое ощущение, что нужно незаметно сбежать. Я даже ходил по территории госпиталя и обдумывал, как это можно было бы сделать. Но тяга к побегу была, а явной причины для такого шага не было.
27 сентября, в послеобеденное время, мне вернули мою одежду и выписали из госпиталя. По дороге к автостанции я зашёл на Житний рынок, собираясь что-то купить. Зашёл в магазин, что с левой стороны на углу улиц Московской и Гоголя. (Вход со стороны улицы Гоголя). Как только вышел из магазина и спустился по лестнице — напротив меня остановился «газик» (его тогда называли «бобиком»). Тут же меня окружили трое в гражданском и, сказав тихо, что они из КГБ (среди них был и тот майор, с которым я уже виделся раньше), приказали садиться в машину. Всё это проводилось тихо и создавало впечатление, что какие-то колхозники подбирают своего знакомого.
Я снова в КГБ. Снова в том же кабинете, в котором просил помощи сестре в прописке. Их четверо. Как только зашли, сразу же приступили к допросу. Мне говорят: «Назовите фамилии заключённых, с которыми вы находились в Мордовии». Называю фамилии. Когда дошёл до фамилии Бульбинский, прозвучала команда: «Стоп! А теперь расскажите о Ваших с ним отношениях и что Вам известно». А что я мог сказать? Вот и сказал, что какое-то время находился с ним в лагере на 17-м. И всё. Больше ничего не знаю. Не знаю, где он, с ним не встречался. Кагэбисты не стали тратить время и тут же выложили: 19 сентября в Ровно с чемоданом листовок был задержан Бульбинский, 20-го Бульбинский дал на вас показания. И рассказывают о моих встречах с Бульбинским и обо всём, что касалось листовок, распространённых в Житомире. Не помню, то ли в тот же день, то ли на следующий, даже зачитали его показания. Сомнений не было, потому что в такой последовательности, в деталях (показал и про пастушка в районе села Довбыш) мог изложить только Бульбинский. Получив от кагэбистов такую ценную информацию и зная, что кроме показаний Бульбинского у них больше ничего на меня быть не может, я выстроил свою защиту, признавшись, что действительно, во второй половине мая (а не в первой), ко мне приезжал Бульбинский и в разговоре выяснял, какие у меня планы на будущее, есть ли у меня намерение заниматься антисоветской деятельностью. На что я ему ответил, что заниматься чем-то таким, за что могут посадить в тюрьму, я не собираюсь, рассказав при этом, какой теперь жестокий режим в местах заключения. Сказал кагэбистам и то, что перед тем как уйти от меня, Бульбинский спросил, не одолжил бы я ему свои туфли, потому что ему надо съездить в какой-то город, так будет неудобно появиться там в кирзовых сапогах. А будет ехать обратно, так заедет и отдаст. Я дал ему свои туфли, а позже он заезжал и отдал. Вот и всё, что я знаю. Ну, а почему я об этом не рассказал сразу после задержания, то объясняю тем, что мне не хотелось, чтобы КГБ знало, что меня посетил человек, который сидел за антисоветскую деятельность. Что касается показаний Бульбинского, то если он действительно такое показывает, то это ложь.
После нескольких суток пребывания в КПЗ меня перевели в тюрьму. И в КПЗ, и в тюрьме сидел один. Наверное, в Житомире уже не было таких, которыми занималось КГБ. После моих показаний меня уже не вызывали. Лишь как-то свозили для какой-то там формальности и показали меня начальнику управления КГБ. Наверное, лишь показать, потому что когда я зашёл в большой кабинет, начальник, не дойдя до меня шагов три, что-то там сказал, я ответил, и меня вывели.
— Поедете в Киев. Пусть там разбираются, — сказал мне какой-то кагэбист.
Где-то через неделю после ареста меня на «воронке» перевезли в Киев и поместили в камеру следственного изолятора КГБ. Это была длинная, наверное, метров шесть длиной и около двух метров шириной камера. Камера чистая. Паркетный пол блестел желтизной. Это был, если не ошибаюсь, третий этаж. В этой камере я дольше всего сидел. В основном сам. Лишь недолго, когда был убит Кеннеди, со мной сидел какой-то тип возрастом за 40 лет. Он запомнился мне лишь тем, что каждый день натирал пол (наверное, вместо зарядки), да ещё когда вернулся в камеру, спросил меня, смогу ли я угадать, кого убили из больших государственных руководителей. В долгий разговор с тем типом я не вступал, потому что у меня к нему была какая-то антипатия. Ну и во время следствия лучше либо молчать, либо читать какую-нибудь книгу. (Книги периодически можно было брать в библиотеке изолятора).
Кто был тот тип и за что сидел, осталось неизвестным. Вскоре его забрали из камеры, и я довольно долго сидел один. Это меня устраивало, потому что мне, особенно во время следствия, больше по душе было одиночество. Но когда я так сидел один, как-то вскоре после обеда случилось со мной что-то такое, что я и по сей день не могу объяснить. Это длилось недолго. Но такого со мной не было никогда в жизни — ни до, ни после. Следовательно, такое состояние не могло возникнуть само по себе. Наверное, что-то было подсыпано в еду.
Расследование ведёт республиканское КГБ. А следственную группу из четырёх следователей по делу Бульбинского возглавляет капитан Старостин. За мной закреплён следователь Житомирского КГБ капитан Коссович. В эту группу входят следователи КГБ из Ровно и Луганска. Коссовичу уже, наверное, было где-то за 40 лет. Оказывается, он был и в той группе, которая вот так обсела меня в кабинете, когда я с сестрой приходил за помощью. Я его не запомнил, но он как-то мне сказал: «А ты тогда хорошо держался». И ещё сказал, что тогда в Житомире они не так, как надо было, повели следствие. Без сомнения, они тогда поспешили всё мне выложить (наверное, надеялись, что после того, как всё выложат, ошеломят меня, и я сразу же во всём признаюсь) и этим самым помогли мне построить в самом начале следствия завершённую схему защиты. Это от них я узнал, что на Богунии они обнаружили отпечаток моего туфля (не знаю, насколько тот отпечаток был чётким и был ли тот след пригоден для идентификации с моим туфлем), и на допросе показал, что мои туфли у меня одалживал Бульбинский. Фактически после моего изложения у них уже не за что было зацепиться, чтобы требовать каких-либо признаний. К тому же, тот школьник — ученик 6-го класса Станислав Запольский, которого они отыскали в одной из школ Довбыша, показал, что мужчина, которому он подписывал конверты, был одет в серый пиджак, без фуражки и в сапогах, то есть на все 100% это был не кто иной, как Бульбинский. Я даже удивился, когда ознакомился с его показаниями. (Уже позже у меня даже мысль возникла, а не помогал ли этому мальчику следователь? Ведь Житомирскому КГБ, которое попало в дураки, сняв с меня подозрение, наверное, было бы выгоднее, чтобы те листовки были на Бульбинском). Провели и опознание, которое проводили в следственном изоляторе. Мальчик осмотрел представленную ему группу, в которой стоял и я, и сказал, что того мужчины среди нас нет, о чём и было записано в протоколе.
Вызвали и отца в Киев на очную ставку с Бульбинским и со мной. Отец показал, что видит Бульбинского впервые, хотя Бульбинский и показывал, что даже сидел с отцом за одним столом. Я же, со своей стороны, показал, что отец был во дворе, что Бульбинский действительно видел отца, но отец с ним не общался и потому, наверное, не запомнил его. К тому же, прошло время, а ко мне заходили и студенты, и другие знакомые, поэтому ничего удивительного, что отец не помнит. На этом и разошлись.
Сделали мне очную ставку и с Бульбинским. Я на него не бросался. Даже не обзывал. Он говорил своё, а я — своё. Допрашивали братьев и сестёр. Сестру Ольгу даже в Киев вызывали. А насчёт брата Андрюши, то Коссович мне сказал: «Это такой же, как и ты». Что-то он ему тогда не понравился. Наверное, знал, что он иногда и фуражку носит, ту, что я привёз из лагеря. (Уже позже Андрей сказал мне: «Он (Коссович) взял ту фуражку, помял её и бросил на землю»). Допрашивали многих. В какой-то мере слабым местом было лишь то, что все, кто сообщил мне о листовках в Житомире (а это где-то пять человек), отказались подтвердить мои показания. Думаю, что когда их вызвали в КГБ, они, наверное, решили, что лучше сказать, что ничего не знают о листовках, а значит, и не могли о них кому-то говорить. То есть — подальше от греха. Ну, а что касается Терновой, которая собирала те листовки, и об этом было известно кагэбистам, то её отказ подтвердить мои показания свидетельствовал, что она выполняла указание кагэбистов. Возможно, она не пошла бы на это, если бы тогда в школе я не перестал обращать на неё внимание. Да и при встрече мы говорили лишь о политике и знакомых. Даже Коссович, выслушав её, пробурчал: «Не о любви, а о политике».
Из тех, с кем я общался, больше всего досталось Василию Герасимчуку (в юные годы Василий сбежал из ФЗО, за что полгода находился в заключении), его жене Светлане и их соседям — Василию и Елене, у которых я всегда бывал, а то и не раз ночевал, когда наведывался в Житомир. Сразу же после моего задержания их вызвали в КГБ и оказали на них такое давление, требуя каких-то признаний и обвиняя Герасимчука, что и он причастен к моим делам, что Василий уже был не уверен, что выйдет от них. Кагэбисты, наверное, подумали, что раз я с ними в таких приятельских отношениях, то если кто-то из них и не помогал мне распространять, то наверняка знает что-то обо мне, хотя они ничего не знали и считали, что меня арестовали ошибочно. К Василию Козлу даже ночью приходил какой-то тип, стучал в дверь и через дверь говорил им о каких-то неизвестных им делах. Герасимчук также не показал, что рассказывал мне о листовках в Житомире. Но если всех других свидетелей вызывали в Житомирское КГБ, куда для этого меня привезли из Киева, то Герасимчука вызвали в Киев. Как-то забирают меня из камеры, заводят в кабинет, в котором кроме следователя сидит Василий.
— А ты чего тут? — удивлённо спрашиваю его, забыв даже поздороваться.
— Вызвали, — отвечает мне Василий.
— Как вы там?
— Жена беременна, а нас вызывают и требуют каких-то признаний, — жалуется Василий.
Следователь не вмешивается, даёт нам возможность поговорить. Я вижу, что Василий напуган, а потому, когда следователь стал составлять протокол очной ставки, говорю Василию:
— Василий, я уже показал, что ты мне рассказал, что в Житомире были распространены листовки, а потому изменить показания уже не могу. Так что ты показывай своё, а я буду своё.
Услышав это, Василий повеселел, показывая этим, что он не против моего предложения. Подписав протокол, я попрощался с ним по-приятельски, извинился, что из-за моего ареста у него такие неприятности.
Несмотря на все старания следователей и Бульбинского (он рассказал всё, кроме нашей договорённости насчёт оружия, денег, перехода в подполье и моих планов по созданию националистической организации и организации побега из лагеря), достаточных обвинительных доказательств для направления дела в суд у кагэбистов на меня не было. Но не верить Бульбинскому — у них тоже не было оснований. Ведь он выдал не только меня. Он выдал и свою двоюродную сестру Марию Трофимович, которая училась на четвёртом курсе Ровенского пединститута, выдал и Тараса Тарасюка из Лисичанска, и Яковлева и Арбузова из Архангельска и Мурманска, у которых уже была создана группа из 8 человек. Рассказал и о тех, к кому обращался за помощью в распространении листовок и в попытке привлечь к организации. А так как кагэбисты не сомневались в том, что листовки в Житомире — дело моих рук, то для соблюдения формальности, которой требовало дело, прибегли к фабрикации доказательств. В результате — даёт показания медсестра неврологического отделения Житомирского госпиталя: «В разговоре со мной Бабич сказал: существует подпольная организация, и это мы распространили в Житомире листовки». Приводят и того мальчика в сопровождении каких-то лиц в кабинет к следователю, который (без дополнительного опознания) подтверждает показания тех, кто его сопровождал, а именно: когда после опознания он вернулся из Киева, то вспомнил, что в той группе был тот, которому он подписывал конверты. А заключение дактилоскопической экспертизы: на одной из листовок обнаружены линии, которые совпадают с линиями Бабича. И хотя эксперт не может, из-за малых размеров отпечатка, заверить, что они принадлежат Бабичу, — но эти линии совпадают. Вот и всё — доказательного материала для советского суда достаточно. Кагэбисты не сомневались в том, что я распространил те листовки, как и я с самого начала следствия не сомневался в том, что мне после показаний Бульбинского уже не выкрутиться, что придётся сидеть. Но мне не хотелось признаваться. Мне захотелось вступить с ними в игру и попробовать их обыграть. И мне это удалось. Им пришлось прибегнуть к фабрикации доказательного материала.
Свозили меня на «воронке» и в Ровно. Дорога далёкая, и я никак не мог понять, по какой надобности меня везут в такую даль. Приехали вечером. Поместили в камеру ровенской тюрьмы. А на следующий день везут в управление КГБ. Заводят в небольшой кабинет. А в кабинете, кроме Старостина, следователя от Ровенского КГБ и ещё какого-то кагэбиста, сидит мой знакомый по лагерю, с которым я когда-то поменялся чемоданами, — Леонид Омельченко. Вижу, над ним на полке и чемодан лежит, точно такой, как я ему когда-то отдал. Я поздоровался со всеми. Омельченко тоже ответил, но в его голосе не чувствовалось дружелюбных ноток. Я несколько удивлён тем, что он здесь, в кабинете, но жду, что будет. Следователи не стали медлить и сразу же приступили к делу. Сперва выяснили, знаем ли мы друг друга и в каких были отношениях. Я и сказал, как было; что в отношениях были нормальных, что, как и со многими, общался с ним в лагере. Спрашивают и Омельченко. И Омельченко показывает: перед тем, как в январе 1962 года я должен был выйти на волю, Бабич обязал меня распространять антисоветские листовки, обучал способам их изготовления и продиктовал текст листовки антисоветского националистического содержания, поручил втягивать в организованную антисоветскую деятельность других лиц, угрожая расправой в случае, если я, находясь на воле, не буду заниматься антисоветской деятельностью.
— Вот те на! — я был поражён, потому что ничего такого не было.
Думаю, что и следователи, изучив уже меня, не верили ему. Но показания есть показания, и их нужно заносить в протокол. Омельченко — примитивный человек. Я не думаю, что кагэбисты каким-то образом заставили его дать против меня такие показания, ведь они не могли быть каким-то доказательным материалом в деле распространения листовок в Житомире. Скорее всего, его вызвали в КГБ (может, что-то знает), сказали обо мне, и он, вспомнив, что в лагере читал мне написанный им какой-то низкопробный антисоветского содержания стишок и допускал антисоветские высказывания, решил сыграть на опережение — на всякий случай оклеветать Бабича. Конечно, я не стал говорить кагэбистам ни о его стишке, ни о его антисоветской настроенности. Это было бы смешно с моей стороны, если бы я стал доказывать, что и он антисоветчик. Я сказал лишь, что это ложь. А ему — что не ожидал такой подлости.
Следствие завершалось. Наверное, считалось, что следственная группа хорошо справилась с заданием раскрытия вражеского элемента, потому что Старостин, как руководитель группы, получил повышение в чине. Увидев на его плечах погоны майора, я поздравил его с повышением. Он поблагодарил, но в его голосе чувствовалась какая-то неуверенность. Возможно, он принял моё поздравление как иронию. Ведь ему так и не удалось положить меня на лопатки. Другие следователи остались теми, что и были. Я даже посочувствовал Коссовичу, сказав ему, что как же так, что у него и стажа больше, а он всё в капитанах ходит.
Наступил новый год — январь 1964 года. Наконец следствие закончилось, и я знакомлюсь со следственными материалами уголовного дела Бульбинского. За несколько дней, том за томом, в кабинете под контролем кагэбиста я просмотрел всё дело. Из того материала я узнал, насколько тщательно дома проводились обыски, особенно первый. Представил себе, как там чувствовали себя родители во время того долгого обыска. Узнал я и о том, что о листовках в Житомире КГБ было сообщено где-то после пяти часов утра. Сразу же на след от подошвы у забора военной части была пущена собака. Собака пошла по следу и привела на автостанцию — где-то через час после моего отъезда. Выходит, что если бы задержался, то собака могла бы схватить меня за ногу. Мне просто повезло, что ещё с вечера в КГБ не сообщили, что по Житомиру распространяются листовки, потому что тогда они запросто где-то в полночь могли бы поймать меня на безлюдной улице. И что было странным в расследовании этого дела: никто не выяснял (как и позже в суде) у Бульбинского, почему Бабич, распространив в мае листовки и доложив ему об этом в июне, больше с ним не встречался, и до его ареста — 19 сентября — никакого с ним контакта не имел. Никто не ставил вопрос: что случилось между ними.
Узнал и о том, что через какое-то время Бульбинский женился. И это после того, как и сам распространил листовки, а значит, в любой момент мог быть арестован. Наверное, и выдал всех из-за того, что ему понравилось спать с женщиной, а когда его этого лишили, то захотелось вернуть утраченное.
Я ждал рассмотрения дела в суде. А сидел в угловой камере, в которую меня перевели ещё до Нового года. Эта камера была такой же длины, как и предыдущая, а ширина её была равна длине. Окно камеры выходило на какую-то площадь, и на Новый год были видны отблески фейерверков. Это была большая камера, в которой, кроме меня, сидели ещё двое парней. Войдя в камеру, я не расспрашивал у них, кто они и за что их посадили, но из разговора, который вёлся между ними, можно было догадаться, что их арестовали за какие-то валютные операции и какое-то дело, связанное с золотом. Один из них, невысокого роста и явно старше меня, был еврейской национальности. Правду они говорили между собой или какую-то легенду, было неизвестно. Но поведение и некоторые вопросы, особенно того, который был выше ростом, свидетельствовали о том, что они работают на КГБ. Они и сами понимали, что я не сомневаюсь в том, с кем сижу в камере.
Как-то тот, что выше ростом, говорит мне:
— Мы всё знаем, всё понимаем.
— Да, — ответил я ему на это. Мы поняли друг друга.
6 или 7 февраля меня забирают из камеры. Хотя я и знаю, кто такие мои сокамерники, но мы не конфликтовали, поэтому на прощание жму каждому руку и желаю добра. Меня снова везут в Ровно. Я уже знаю: судить будут в Ровно. В камере тюрьмы г. Ровно со мной сидел «цеховик», который, занимая на предприятии какую-то должность, создал на предприятии с другими должностными лицами подпольный цех и клал себе в карман деньги. Ему уже дали 15 лет, но приговор ещё не вступил в законную силу, потому что он подал на кассацию. Рассказывал, как их судили, в частности, и о том, что когда руководителю группы (нажил 100 тыс. руб.) дали расстрел, то двое его сыновей кричали в зале: «Бериевцы! Бериевцы!». В Ровенской тюрьме также от подъёма до отбоя лежать не разрешалось, но было уже несколько свободнее, чем в КГБ. Здесь уже иногда можно было и к подушке прислониться.
17 февраля повезли в областной суд. Меня с Марией Трофимович посадили в квадратное ограждение с правой стороны зала, а Бульбинского и Тарасюка — с левой от входа в зал. Мои подельники в гражданской одежде, а я в бушлате. К родителям за тёплой одеждой не обращался. А потому, когда началось похолодание, то бушлат мне выдали кагэбэшники в Киеве. Так что я уже как зэк. Но мне было всё равно, что выгляжу как уже осуждённый.
Каждому назначили адвоката. Но я заявил, что судьба каждого из подсудимых уже решена, что это не суд, а комедия, и потому я отказываюсь от адвоката. Назначенный мне адвокат взял свою папку и вышел из зала. Закрытый судебный процесс начался. Когда дошла очередь до моего выступления, я заявил, что сказанное Бульбинским — неправда, что листовки я не распространял и не мог, потому что они на русском языке. А доказательный материал по делу — не что иное, как фабрикация КГБ.
Стали вызывать свидетелей. На показания учеников старших классов я почти не реагировал. Они не касались листовок. Так же и на Омельченко, который, видимо, понял, что он натворил, но повторял то, что уже было в протоколе. Я сказал лишь: «Сказанное Омельченко — ложь». Когда же дала показания медсестра госпиталя, то я спросил её:
— Вас не будет мучить совесть за дачу ложных показаний?
И, обращаясь к судьям, сказал:
— Одно из двух: либо медсестра лжёт, либо я сумасшедший, если я, не зная даже имени этой медсестры, сказал ей, что есть подпольная организация и что мы распространили в Житомире листовки.
На сказанное мною суд не среагировал. Привели и того мальчика — Запольского. Он коротко повторяет то, что сказал в Киеве. Не сомневаясь, что его на такое подбили, я спросил мальчика:
— Станислав, скажи, кто тебя научил говорить неправду?
Мальчик тут же заплакал, к нему подбегает какая-то женщина, что привела его и стояла чуть в стороне, и, взяв его за руку, быстро вывела из зала.
Давали показания и Яковлев с Арбузовым, которые прибыли из Мурманска. Это бывшие политзаключённые. Зимой то ли 1960-го года, то ли уже 61-го я сидел с ними в одной камере в ШИЗО на 3-м лагере в Барашево. Они вскоре где-то тогда и вышли на свободу. Было несколько странно, что их не арестовали. Ведь они не скрывали, что ещё в 1959 году договорились с Бульбинским о создании антисоветской организации и после освобождения создали группу из 8-ми человек. А Яковлев в 1962 году специально приезжал в Здолбунов к Бульбинскому, где они обсуждали программу «минимум» и «максимум» подпольной организации и согласовали её название — ВДФРСДП. Вот и всего, что их выгораживало, так это просьба Яковлева в марте 1963 года в письме к Бульбинскому воздержаться от изготовления и распространения листовок. Давая показания, как Яковлев, так и Арбузов держались хорошо. Судья даже пригрозил Яковлеву, что они могут быть арестованы, если так себя будут вести.
Как Мария Трофимович, так и Тарас Тарасюк не успели ничего сделать из того, что им поручил Бульбинский. После того как 20 сентября Бульбинский дал показания (всех выдал), в общежитие Ровенского пединститута прибыли представители КГБ и в тумбочке Трофимович обнаружили 500 листовок, которые незадолго до ареста ей вручил Бульбинский. А у Тарасюка при обыске изъяли лишь одну листовку, которую Бульбинский оставил ему как образец для изготовления листовок Тарасюком самостоятельно. Тарасюку не удалось утаить от кагэбэшников его подготовку к изготовлению листовок и вовлечение в подпольную деятельность других лиц.
Эта судебная комедия затянулась до 19 февраля. После выступления прокурора и адвокатов каждому из заключённых предоставили последнее слово. Первым с последним словом выступил Бульбинский, раскаиваясь во всём, плача просил о помиловании. Во всём признались и раскаялись Тарасюк и Трофимович. Но должен сказать, что Трофимович, несмотря на то что она, 22-летняя девушка, многое теряла, в том числе и неоконченный институт, довольно мужественно себя вела и не очень-то выпрашивала у них свободу. Ну, а что до меня, то что я мог сказать в последнем слове, как не что-то такое, что им, наверное, было не очень по душе. Так что я сказал: «Во-первых, мне досадно, что меня судят за русскоязычные листовки, к тому же напечатанные таким допотопным способом. А во-вторых, прошу записать в приговоре, что Бабич — это человек, который окончательно убеждён в правоте идей украинского национализма».
Как я уже говорил, суд был закрытый, не пускали даже родителей, а свидетелей выводили сразу же после того, как они дали показания. Людей впустили только на оглашение приговора. А приговор таков: меня признали особо опасным рецидивистом и дали 10 лет особого режима. Бульбинскому дали 10 лет, а Тарасюку и Трофимович по 5 лет строгого режима.
Мы возвращаемся в тюрьму. Я с Марией в одном воронке, а потому слышу ободряющие голоса её подруг, которые продолжают что-то там выкрикивать, хотя воронок уже тронулся и за шумом мотора можно уловить лишь отдельные слова. Вскоре вручили приговор. Читаю: «…намерен и в дальнейшем совершать особо опасные государственные преступления, о чём заявил в суде» (!). Написали то, чего я не заявлял. А о том, о чём я действительно говорил в «последнем слове», — ни слова.
Я не стал подавать жалобу на пересмотр дела в кассационном порядке. Ведь если бы я преследовал цель получить небольшой срок, то ещё во время следствия во всём признался бы и раскаялся. Да даже если бы просто сказал, что отказываюсь от последнего слова, то больше того, я был бы, как и все, на строгом режиме — в бараке, а не на особом — в камере. А раз я этой цели не преследовал, то чего я должен к ним обращаться, а значит, выпрашивать скидку?
Вскоре после суда мне пришла продуктовая передача. Я отказался, сказав, что мне передача не нужна, буду сидеть на пайке. Я отказался бы ещё сразу после ареста. Но в таком случае нужно было бы как-то это объяснять. Не мог же я сказать, что мне уже сидеть, так что передачи не нужны. Да и родителям была бы лишняя тревога из-за моего отказа. Передача была от отца. Отец привёз передачу и заодно взял со мной свидание. Как только я пришёл в помещение для свиданий, отец сразу же спрашивает, почему я отказался от передачи. Пытаюсь как-то объяснить, что у них своя жизнь, а у меня своя. Что я не хочу быть для семьи обузой, доставлять хлопоты.
Я хотел быть одиноким, ни к чему не привязанным. Только я и тот мир, что открылся мне, — мир бессмыслицы. (Логично было бы после суда покончить с абсурдом. Но, несмотря на то прозрение, в котором уже не существовало ничего, кроме пустоты, — всё же не покидало желание быть в глазах других (оказывается, они для меня всё-таки существовали) тем, кем я был и хотел для них быть, — человеком, который кончает с абсурдом не из-за того, что попал в какую-то передрягу, а оттого, что осознал бессмысленность бытия).
Кроме прочего, отец рассказал и о том, что то ли накануне, то ли в день моего ареста, Николай свозил лошадьми с поля в кагаты картошку. Заехал с полным возом на обед домой. И как только он заехал, так сразу же появилось сельское начальство, составили акт, в котором Николай обвинялся в краже картошки. Хотя Николай и стоял на том, что заехал на обед, но ему не поверили. На Николая завели уголовное дело и, рассмотрев, ограничились большим штрафом. Пришлось продать корову и внести сумму штрафа. И тут из-за меня. Ведь с 20 сентября не только за мной следили, следили и за Николаем. И дом, конечно, был под наблюдением. Для родителей одни неприятности. Уже прощаясь, отец в который раз просит взять передачу, но у меня ответ один: «Нет! Я не возьму. Вези домой».
До выезда в Мордовию в камере, в которой я сидел, побывало трое заключённых-бытовиков. Каждый по-своему объясняет, почему он попал ко мне в камеру. Один из них всё же признался, что его ко мне подсадили. А другой запомнился тем, что имел хороший голос и всё пел *«Почему ты мне не встретилась, юная, стройная»*.
Денег у меня уже не было, и ларьком я тоже не пользовался. Мои сокамерники получали передачи и брали продукты в ларьке, а у меня кроме пайки ничего не было. Они упрашивали, чтобы я хоть что-нибудь взял у них, но я решительно отказывался, объясняя, что я так же мог бы получать (приговор ещё не вступил в законную силу) и передачу, и ларёк. Где-то в этот период приснился сон: я уже совсем старый — дед. У меня что-то с ногой, и я, опираясь на палку, куда-то иду.
Это было уже где-то в апреле. Утром, кажется, ещё до подъёма, меня без вещей забирают из камеры, сажают в воронок и везут в Ровенское КГБ, а там заводят в большой кабинет и оставляют один на один с каким-то полковником. Наверное, это был начальник управления. Мы стояли на расстоянии метров трёх друг от друга. Я не мог понять, зачем меня сюда так рано привезли, что нужно этому полковнику, который, расхаживая по кабинету, лишь спрашивает меня, хотел бы я что-то сказать, может, у меня уже несколько поменялись взгляды и я уже не так враждебно отношусь к советской власти.
— Никаких изменений не произошло. Я такой, как и был, — говорю ему.
— Ну что ж, тогда всё.
Я выхожу из кабинета, в котором пробыл несколько минут. На улице ещё не совсем рассвело. Забравшись в боксик воронка, слышу женский голос. Подумал, что это Мария. Кликнул, но никто не отзывается. А через какое-то время через кормушку зачитывают мне постановление Верховного суда УССР. Оказывается, в тот день, когда меня возили к тому полковнику, Верховный суд рассматривал в кассационном порядке наше дело. Согласно этому решению Марии и Тарасу уменьшен срок заключения. Им уже сидеть не по пять, а по три года. Мне же и Бульбинскому — без изменений.
В середине мая меня, Бульбинского и Тарасюка вывозят воронком в Здолбунов. А там сажают в вагонзак и привозят в тюрьму г. Львова. Мы уже как этапники. Но я сижу отдельно от них. Но когда меня повели в баню, то, раздевшись и зайдя в душевую, вижу — под душем стоит Бульбинский. Я подхожу, а он, увидев меня, говорит:
— Я же не всё рассказал!
В тот же миг какой-то тип, одетый в зэковское, очутился возле нас и, конечно, услышал сказанное Бульбинским.
«Вот дурак», — подумал я и, пробормотав что-то в ответ, пошёл мыться. Бульбинский тут же вышел одеваться. В бане больше никого не было.
Из Львова выехали на Киев. И пошли уже знакомые места: Холодная гора в Харькове, Рузаевка. Но прежде чем добраться до Рузаевки, нас почему-то повезли через Воронеж, где я сидел в каком-то подвале, совершенно изолированный. Кроме меня, в том подвале никого не было. Похоже было на то, что очень долгое время подвалом не пользовались. Камера была очень запущенная. Окно этой камеры было на уровне с землёй. Побывал и в Пензе. А в Рузаевке меня почему-то не высадили (я сидел отдельно от Тарасюка и Бульбинского) и, спохватившись (если это не было запланировано), высадили в каком-то Кузнецовске, откуда я в наручниках в сопровождении милиционера шёл на рассвете по улицам этого городка до небольшой местной тюрьмы. Сидел один. Но когда тюремщики и работники медчасти узнали, что к ним пожаловал политзаключённый, то стали по нескольку человек навещать меня и расспрашивать обо всём, что касалось политики. Мне аж надоело это общение. Были среди них те, которые, возможно, и вправду чем-то интересовались. А были и такие, которые очень негативно воспринимали мою оценку советской действительности. Через несколько дней меня посадили в воронок и привезли в Рузаевку. Вскоре отправили на Потьму и посадили в большую камеру (это уже была новая пересыльная тюрьма), в которой сидели и Бульбинский с Тарасюком. С Тарасюком я уже и до того как-то сидел в одном купе вагонзака. Он новичок, а потому ведёт себя, как ведут себя люди на воле: если какая-то антисоветчина, то говорит шёпотом, чтобы никто не слышал. Моё замечание на него не действовало, и я махнул рукой — приедет в лагерь — обтрётся. Бульбинский в разговоре со мной сказал, что, приехав в лагерь, напишет в прокуратуру, что возвёл на меня навет. Бить его я не стал, даже не ругал, потому что что это уже изменит. К тому же бить нужно было бы не его, а меня, за то, что согласился распространить его листовки.
На Потьме, как всегда, как и в 60-м, заключённых распределили по лагерям. На меня такое не распространялось, ведь для меня был только один лагерь — 10-й. А 17 июня нас вывезли в лагеря. Вот и 10-й. Я выхожу из вагона, а другие поехали дальше. Лагерь рядом. Меня заводят на вахту и после необходимых формальностей отводят в одиночную камеру нового барака, окна которой выходят на прогулочные дворики. В тот же день меня переодели в одежду с поперечными полосами светло-серого и чёрного цветов, шириной 7 сантиметров. Надев полосатый костюм (брюки и курточку без подкладки) и надев на голову такую же полосатую тюбетейку, я выглядел как зебра. В этой одежде я уже действительно был зэком. Я впервые надел такой костюм, и, наверное, поэтому он мне сначала почему-то был не по душе. Но что поделаешь, здесь такая «мода». Ведь это лагерь особого режима. Переодев, меня перевели в старый барак в камеру № 5, в которой, как мне говорили, сидел митрополит Иосиф Слепой, который в 1963 году был отпущен в Рим, где он стал кардиналом. Камера, как и все камеры в старом бараке, небольшая. В камере нары и, конечно, параша. Эта камера, как и все камеры, переполнена. Спать можно было только на боку и нужно было осторожно поворачиваться, чтобы не разбудить соседа. Один из заключённых спал на столе, а другой на лавке. В этой камере, насколько помню, не было никого из украинцев. И вообще никого из таких, чтобы привлекли моё внимание. Был только один заключённый где-то моего возраста, который служил в Германии, что-то там совершил и очутился на 10-м. Если у него раньше не было судимости, то, видимо, был расстрел, который заменили особым режимом. Был какой-то полицай, ещё там какие-то заключённые и те, что прибыли из бытовых лагерей. Но эти заключённые меня не интересовали, я с ними почти не общался, да и вообще мне было не до них, как и до лагерной жизни вообще. Я думал об одном: как совершить побег из лагеря.
Лагерь производил гнетущее впечатление. Он занимал небольшую территорию, состоявшую из жилой зоны и промзоны. В жилой зоне стояло два кирпичных барака и здание, в котором была баня, хлеборезка, прачечная и клуб, в котором раза два в месяц крутили кино. Кухни в лагере не было, а потому еду завозили из соседнего лагеря. Бараки, стоявшие параллельно (старый — короче — и новый, напротив вахты), тянулись со стороны вахты к прогулочным дворикам, которые размещались у запретки с противоположной стороны. В бараках от двери до двери тянулся неширокий коридор, по бокам которого были расположены камеры. А в промзоне, отделённой от жилой запреткой, стоял старый цех, в котором заключённые шили рукавицы, кузница и достраивался большой кирпичный цех.
На территории лагеря, как в жилой зоне, так и в промзоне, ни одного деревца, только вокруг побелённый высокий забор запретки. Такой вид имел лагерь, в который меня привезли отбывать 10-летний срок заключения.
На второй день, наверное, из-за того, что ещё не всё было оформлено, меня на работу не вывели. Когда стали выводить на прогулку тех заключённых, что работали во вторую смену, то вывели и меня с сокамерником. Прогулочные дворики были огорожены колючей проволокой, в двориках вонючие туалеты. Заключённых в двориках было немного. И тут в дворик запускают (?) пассивных гомосексуалистов (они, как правило, сидели в отдельных камерах и отдельно прогуливались). Я впервые увидел эту нечисть. До этого в моём воображении эта патология была такой же редкой, как сиамские близнецы. А тут бегают, хватают друг друга за зад и спереди, хохочут, а в глазах пустота, какая-то дикость, общая недоразвитость проглядывала. А имена: Люба, Маша… Были они разного возраста, некоторым уже за 40. Это были бытовики, которым в уголовных лагерях за что-то влепили политическую статью и привезли на 10-й. У меня позади уже пройденные лагеря. И разве мог я представить, что придётся такое увидеть? Помню, на 17-м какой-то уже в годах занимался только онанизмом, так узнав об этом, на него смотрели если не как на извращенца, то как на психически больного.
Жаркое солнце. Вонь. Я взглянул на побелённый забор запретки, побелённые бараки, колючую проволоку, что окружала всё вокруг, на чертей в полосатом, которые бегали в туалетной вони, и почувствовал, что будто попал в ад. Было гадко и неприятно, что эта нечисть с нами — политзаключёнными. (Хотя, конечно, понимал: каждый чешет то, что ему чешется. Между мужчиной и женщиной тоже нет ничего эстетического — ничего чистого. К тому же у них кроме этого нечистого имеет место ещё и оральный, и анальный секс! Есть и так называемые «полировщики», которые уподобляются быку, что лижет корове под хвостом).
Выйдя в промзону, познакомился с другими политзаключёнными, преимущественно с украинцами. Среди них с Дмитрием Синяком (охранником Марка Боеслава), Игорем Кичаком, Олексой Водинюком, Михаилом Глюзой и Василием Пугачом — с которыми больше всего и общался. Мне тогда было 24 года. Моих ровесников (я имею в виду тех, что пришли по политической статье с воли) было совсем мало, в основном люди старше по возрасту. Всего в лагере было где-то 500 заключённых. Больше всего было украинцев. Это были заключённые, которых после Указа признали особо опасными рецидивистами, или которым расстрел был заменён заключением. Контингент: участники вооружённого сопротивления 40-50-х годов (украинцы, литовцы, латыши, эстонцы и другие национальности), какая-то часть полицаев, верующие (среди них больше всего свидетелей Иеговы. Был там и Зятик, уже совсем немощный человек, который номинально ещё числился руководителем всех общин Иеговы на территории СССР. Он запомнился мне в прогулочном дворике, когда, стуча палкой о землю, говорил: «Люди думают, что это их земля! Это — Божья земля!». Это он в 30-х годах прибыл из Бруклина в Западную Украину и основал там общину свидетелей Иеговы. А когда в Западную Украину вступили советы и стали отправлять свидетелей Иеговы в лагеря и на ссылку, то общины свидетелей Иеговы возникли в разных местах СССР. Этих верующих советы и в дальнейшем беспощадно преследовали, отправляя за проповедническую деятельность в лагеря). Было несколько десятков таких как я — антисоветская агитация и пропаганда — и значительная часть — бытовики, осуждённые в уголовных лагерях за антисоветские акции, которые были своеобразным протестом, в основном, против того жестокого режима, который был введён в лагерях после Указа от 5 мая 1961 года. Были среди них и те, кого не расстреляли за татуировку, которая преимущественно была такого содержания: «Смерть Хрущёву», «Смерть ЦК», «Раб СССР». Если такого заключённого не расстреливали, то чтобы он не был ходячим лозунгом (татуировки наносились преимущественно на лицо), её частично или полностью насильно вырезали. Если же татуировка была нанесена на тело, то могли и оставить. Помню одну из таких: пальцы наколотой на груди руки крепко сжимают горло. Внизу под рукой надпись: «Меня душит КПСС». Работал тот заключённый (Брагин) в токарном цеху. За такую татуировку судили по ст. 77-прим. Хотя в статье ничего не было о татуировках, а тем более о расстреле за такой поступок. Итак, судили по какой-то закрытой инструкции.
Среди бытовиков были и те, которые имели определённые политические убеждения, за что и получили политическую статью, но это были единицы. А другие как жили своей жизнью, так и продолжали жить. С ними политзаключённые если и общались, то на расстоянии, поверхностно. У политзаключённых серьёзных конфликтов с ними не было, потому что бытовики знали своё место. Работали заключённые на достройке большого цеха, шили рукавицы, а небольшая часть выходила в посёлок Ударный на строительство каких-то объектов.
В лагере было голодно. Продуктов в ларьке не было. В нём можно было купить на три рубля лишь курево, мыло, зубной порошок и щётку. И никаких передач и посылок. Дополнительного питания тоже не было, хотя заключённые выполняли на строительстве тяжёлую работу. А потому все были голодные и заметно истощены. Видимо, из-за этих условий ещё до моего прибытия один из бытовиков (к политзаключённым попал ещё в 50-е годы, сидел с ними на штрафном лагере) родом из Белоруссии, по фамилии Парахневич, отрезал себе уши у самой головы и вложил в конверт, на котором стоял адрес получателя: «Москва, Кремль, Хрущёву». За это получил кличку «Генерал Безухов». А в 1963-м один из политзаключённых покончил с жизнью. Прибыв в лагерь, собирался совершить побег. Его заметили, когда он уже собирался лезть в запретку. Дали 6 месяцев одиночки. В одиночке он и повесился. Это произошло 10 декабря 1963 года, в «День прав человека». Как мне, так и другим было не до него, а потому через ряд лет уже не помнили даже, как его звали. Помню лишь по рассказам, что это был молодой парень, в прошлом вроде бы студент и будто бы литовец по национальности.
Ещё будучи под следствием, я думал о побеге. А потому, прибыв в лагерь, познакомился с Василием Пугачом, который и раньше убегал, даже участвовал в разоружении конвоя где-то в Сибири, и Файзуддином Тимуром — татарином. Они уже готовились к побегу. В результате у нас сложилась группа из трёх человек.
Убежать… Подкоп сделать было невозможно — всё просматривалось. А потому мы решили: когда поведут в кино — это вечером, бывало, сумерки уже наступали, а мы ещё были в зале… Думали, в сумерках заскочим в запретку, оторвём доски от забора и попробуем добраться до леса. Даже если заметят, будут стрелять по нам — что будет, то будет, может, прорвёмся. Мы уже и инструмент подготовили для того, чтобы отрывать доски. Нам нужен был также небольшой запас продуктов. Было голодно, но мы отрывали кусочки от пайки и тайно сушили. Насушили, наверное, буханки две сухарей. Мы полностью подготовились к побегу, но когда настал момент и я сказал: «Пошли», Пугач не решался идти. Возможно потому, что с 1961 года, до моего прибытия в лагерь, три или четыре заключённых погибли на заборе. Погиб Усинин, украинец-бандеровец (по сей день помню, с каким восторгом вспоминал его один из заключённых: «Энергичный. А в руках какой был сильный. Мало кто выдерживал пожатие его руки»); Шкляр погиб, ещё кто-то погиб, некоторые были ранены. Они шли напролом, что будет — то будет (наверное, устали от лагерной жизни). Но они шли среди дня, просто брали лестницу, доску и шли на запретку, с вышек били по ним из автоматов — и так они гибли. Наверное, это сдерживало Пугача. Осознавая, что всё-таки мало шансов на побег таким способом, я решил попробовать выйти на работу за зону. Как раз строили новую запретку — расширяли промзону. Я обратился с просьбой к отрядному, и хотя впереди у меня был большой срок, мою просьбу удовлетворили. Наверное, поспособствовало то, что никакого подозрения на мою склонность к побегу не имели. Выйдя с бригадой за зону на строительство запретки, я стал ожидать благоприятного момента для побега. Такой момент мог настать тогда, когда солдат по какой-то причине не видел бы, как заключённый пролезает под ограждением из колючей проволоки. А это ещё и несколько метров до этого ограждения и метров 50 до леса.
Такой момент всё не наступал. Тогда, вскапывая с внутренней стороны уже построенного забора запретку, я соорудил при помощи Сашка Чугая (с Западной Украины) и Александра Кудрявцева (из Ленинграда) небольшой схрон (в нём можно было бы только лежать). Сашко и Александр (они старше меня) также не против были совершить побег, но у них почему-то не хватало решимости. (Возможно, из-за того, что срок у них оставался не такой уж и большой). План был такой: я залезаю в схрон, отверстие закрывают, засыпают землёй, боронят. А ночью я вылезу. Этот план мог бы быть удачным, если бы не стали искать схрон, а думали бы, что я сбежал. Итак, он был довольно рискованным. Но воспользоваться схроном не пришлось. Появился благоприятный момент. Это настало уже где-то через три недели, как я стал выходить на строительство запретки. Это было 14 августа. Нас, как всегда, в 12 часов отвели в лагерь на обед. В камере я один. Внезапно возникает сильное ощущение, что я в последний раз в этой камере, что сегодня я сбегу из лагеря. Можно представить, какой силы было это ощущение, если я позволил себе залезть ложкой в бидончик с топлёным маслом одного из сокамерников, которому каким-то образом удалось его приобрести (позже я ему об этом сказал), и взять оттуда ложку масла. Надо же подкрепиться! А на вешалке висит спортивный костюм. Он постоянно там висит, что меня удивляло, ведь нельзя держать при себе гражданскую одежду. Но до этого у меня никогда не возникало желания надеть его под полосатый. А тут так и тянет взять его. Но ощущение ощущением, а ведь ситуация такая же, как и в предыдущие дни — никаких примет сегодняшнего побега. И я не решаюсь его взять, потому что понимаю: если обнаружат на мне этот костюм, то выхода за пределы лагеря мне больше не видать.
Мы снова на работе. Где-то в два часа дня я с Сашком был недалеко от угловой вышки, что со стороны железной дороги. Вижу, солдат слез с вышки к собаке, которая запуталась под вышкой. А возле нас, метрах в 30 от вышки, тянется за ограду неширокая впадина глубиной где-то до 10 сантиметров. Трава за оградой повторно не выкошена. Я и раньше присматривался к этой впадине и планировал сделать из травы накидку и проползти по ней, хотя это было бы очень рискованно, потому что солдату с вышки всё было видно, как на ладони. А тут такой случай. Быстро даю Сашку молоток и говорю ему: «Стучи по лопате, а когда солдат будет смотреть в мою сторону, то не стучи». Сашко садится тут же напротив впадины, а я, миновав двух бытовиков, что тут же сидели на земле и чем-то там занимались, лёг на землю и пополз по-пластунски к ограде. Пролезши под колючей проволокой, оглянулся. Сашко сидел и стучал по лопате, бытовики как сидели, так и остались сидеть, а заключённый, сидевший в туалете, который стоял недалеко, быстро удалялся от туалета, застёгивая на ходу штаны. Я пополз к лесу. А Сашко всё стучал по лопате. Я слышал эти частые постукивания и знал — солдат не смотрит в мою сторону. Значит, не видит, что колышется трава. Заползя в лес, поднялся, посмотрел на забор запретки, проглядывавший сквозь деревья, снял ботинки и полосатую одежду. Ботинки засунул в куст, а штаны и куртку замотал в нательную рубашку. Остался в одних трусах. Полосатую одежду не выбросил, потому что хотя днём было тепло, я знал: ночью будет холодно. Я был совершенно спокоен: нисколько не волновался, ведь всё произошло так просто, буднично. Только что был в лагере, а уже на воле. Как-то даже не интересно.
Теперь мне нужно было идти к железной дороге, которая была на расстоянии метров семидесяти, пересечь её и направляться на Запад, к реке Вад, за которой где-то более 20 километров начиналась Рязанщина. Чтобы собака не пошла по следу и не знали, в каком направлении я пошёл, я поджёг кусок резины, которую всегда носил при себе, и, описав несколько восьмёрок, быстро направился к железной дороге. Солнце в это время было за облаками, но я не сомневался, что бегу в правильном направлении, потому что, описывая круги, я держал ориентир на железную дорогу. Но бегу, бегу, а её всё нет. Куда же она делась?! И солнце не выглядывает из-за туч. И надо же, чтобы такое случилось... Ведь до моего побега солнце проглядывало. Я понял, что сбился с направления. Но что делать?! Не стоять же на месте. Надо бежать подальше от лагеря. Я уже совсем запыхался. Останавливаюсь, отдышиваюсь и бегу дальше. Наконец увидел сквозь гущу леса забор из новых досок. Новые доски не вызвали у меня никакого подозрения. Это, наверное, я прибежал уже к соседнему лагерю, что был на расстоянии 4-5 километров от 10-го — подумал я. Значит, я бежал параллельно железной дороге, надо повернуть влево, и я выйду на железную дорогу. Чтобы уже не сбиться с направления, ориентируясь по забору, я быстро пошёл лесом. Но этот забор завернул вправо. Повернул и я за забором, чтобы выяснить, где я нахожусь. Но вот забор из новых досок заканчивается, а дальше уже продолжение забора из старых досок. Вот забежал, что ещё и надо обходить — подумал, будучи недовольным тем, что случилось. Пройдя с десяток метров, глянул на забор и увидел за забором здание. На плоской крыше здания я увидел нескольких людей. Подойдя ближе, увидел, что на них полосатая одежда, что это же неоконченный цех промзоны 10-го лагеря, где месяц назад я работал на этой крыше — засыпал шлаком перекрытия, смолил крышу. Я глянул на выстроенную на крыше тумбу и вспомнил: прибыв в лагерь и работая на крыше и думая не только о побеге, но и о том, что всё-таки может есть Бог, который может придать жизни какой-то смысл, я как-то забрался на эту выстроенную тумбу высотой около метра, чтобы ещё лучше осмотреть окружающее пространство — посёлок вдоль железной дороги и бескрайний лес вокруг. Я посмотрел тогда на молодой сосновый лес, который был сразу же за запреткой (ходил слух, что в том леске в 30-х годах были закопаны расстрелянные монашки), и подумал себе: «Если я буду в этом леске, то поверю в существование Бога». И вот я в этом участке леса, на который смотрел тогда с тумбы, а теперь на тумбу смотрю из леса. Воспоминание промелькнуло — и всё. Нет, я не поблагодарил Бога. И даже не подумал: «Значит, есть Бог!». Всё, что случилось, было для меня лишь одним — я у 10-го! Я вышел в то место леса, в которое заполз. Я потратил время и силы.
Я не стал возвращаться, хотя здесь было недалеко до железной дороги, а побежал вдоль лагеря и посёлка, чтобы перейти железную дорогу за посёлком. Пробегая, пересёк сооружения, на которых тренировали солдат. К моему счастью, там никого не было. Мучила жажда. Во рту пересохло. Какая-то лужа. Пригоршнями напился воды и побежал дальше. Оббежав посёлок, я повернул направо, вышел на железную дорогу и, пробежав немного по железной дороге (на всякий случай, чтобы собака сбилась со следа), побежал лесом на запад к реке Вад. Беспокоило то, что нет солнца, и я смогу снова заблудиться. Но, пробежав немного, увидел, что тучи расходятся и выглянуло солнце. Значит, ориентир есть. Я спешил. Но долго бежать не мог — задыхался. А потому останавливался, чтобы отдышаться. Вскоре, когда остановился у куста, спросил себя: «Так как, есть Бог или нет? Я же был в том участке леса!» — «Да так, стечение обстоятельств», — ответил я на свой вопрос и побежал дальше. Ноги несли, но дух захватывало, и я не мог бежать. Всё же я пересилил себя и продолжал бежать. И вдруг, когда казалось, что уже всё, что не смогу бежать, случилось чудо: я стал нормально дышать. С дыханием уже никаких проблем, и я мог бежать, лишь бы несли ноги. Я понял — открылось второе дыхание (чего никогда у меня не было). И тучи исчезли, ярко светит солнце, тепло. Я быстро продвигался на запад. Лес там не был болотистым, да и дождей не было. Бежать было легко. Но вскоре наткнулся ногой на сук и распорол верх ступни. Кровь заливает ступню. Порвал рубашку, перевязал и бегу дальше. Выбежал на заболоченную местность, что-то вроде неглубокой реки. Это Вад, решил я, и, пройдя немного рекой (от собаки), выбрался и побежал дальше. Я всё бежал. Уже красное солнце заходит. С дыханием нормально, а ноги уже отнимаются, дрожат. Густой лес заканчивается, передо мной кусты. А среди кустов — копна сена. Что ж, я уже полностью выбился из сил, и если меня заметят, то я уже не смогу оторваться. Надо отдохнуть. К тому же ночью не будет ориентира, и я смогу заблудиться. А уже должна быть Рязанская область.
Я сделал нишу в копне, оделся и залез в копну. По отдельным звукам, доносившимся, понял — недалеко какое-то село. Когда проснулся и выглянул из копны, увидел, что светает. Я запихнул сено в нишу, прошёл кустами с десяток метров и… очутился на берегу реки — такой, как моя Случь. Так это же Вад! — понял я. А то, видимо, был продолговатый водоём, или река Явас. Значит, до Рязанщины ещё далековато. И почему я наткнулся на эту копну?! Обнаружь я эту реку вечером, то если не нашёл бы какой-нибудь лодки, то что-то соорудил бы (даже из этой копны) и за ночь мог бы доплыть до реки Мокша. Значит, я ещё в Мордовии. Надо спешить. Раздевшись, взял в руку одежду и переплыл реку. Когда плыл, увидел недалеко по течению кладку через реку. Переплыв, оделся и побежал дальше. Светало. Кусты закончились, и передо мной открылось поле, за которым где-то на расстоянии около одного километра снова были кусты. По бокам леса не было видно — одно поле. Значит, надо переходить. Рискованно, но я решил перейти поле, чтобы двигаться на Запад. Добежав до кустов (а уже всходило солнце), я увидел, что это что-то вроде лесополосы, а за ней снова поле, за которым по левой стороне на расстоянии около полутора километров — лес. Взошло солнце. Кусты редкие. Здесь и засада может быть. Значит, надо дождаться, когда будет тепло, и в трусах, не вызывая этим подозрения, попробовать перейти поле.
Вскоре солнце побледнело, небо стало затягиваться тучами. Повеял холодный ветерок, и стал накрапывать дождь, который перешёл в холодную осеннюю морось. Я сидел мокрый под кустом и дрожал от холода. Терпел в надежде, что небо снова прояснится. Поглядывал на небо, но никаких признаков изменения погоды. Я очень промёрз, и уже где-то под вечер терпение лопнуло — я пошёл по кустам, надеясь, что что-то найду, чтобы спрятаться от холодной мороси. Пройдя немного, увидел на расстоянии где-то около 100 метров копны сена. Хотя было рискованно, но решил бежать к копнам. Прибежав, сделал в одной из них нишу. Выдернутое сено перенёс к одной из копен, тщательно убрал остатки сена, и, залезши в нишу, заложил сеном отверстие. Быстро согрелся. Впоследствии слышу, что-то двуногое затопало и будто стало у копны. Тихо. Человек или животное, не могу определить. Согревшись, уснул. Проснувшись, вылез из копны — темень, никаких изменений, холодная морось. Вижу с запада едва заметное сияние. Там, наверное, какое-то село. Имея ориентир, решил идти дальше. Надергав горсть овса, который рос недалеко от копен, пожевал и пошёл на сияние. На ноге ноет рана. Перехожу какие-то болота, падаю в ямы, но это ничего, я и так весь мокрый. Недалеко от окраины села прохожу мимо кузницы. Заглядываю под навес. Но там никакой одежды, а кузница на замке. Иду по дороге к домам. Иду как во сне. Контроль за своим поведением почти потерян. Я иду к домам, хотя знаю, что этого ни в коем случае нельзя делать (это было что-то вроде кролика, который лезет в пасть удава). Выхожу на улицу, которая тянется поперёк дороги, по которой я шёл. Улица кое-где освещена лампочками. Похоже на то, что село небольшое. Пройдя немного по улице вправо, остановился напротив двух домиков, в которых ещё горел свет. Решил: зайду в тот, что с правой стороны. Подошёл к двери, постучал. Дверь открылась, и я зашёл в сени. Передо мной стоял мужчина лет 50-ти. В сенях всё видно, потому что дверь в освещённую комнату открыта. Мы взглянули друг на друга. Мужчина слегка отшатнулся назад. У него на лице смущение. Наверное, от того, что увидел на мне полосатую одежду. Мы зашли в комнату. В комнате, кроме него, и его жена. Скрывать, кто я такой, было бы бессмыслицей — моя одежда сказала обо всём.
— Тебя разыскивают, объявляли по радио, в селе днём были солдаты, — говорит он мне.
— Я поем, согреюсь и уйду, — говорю хозяевам дома.
Женщина поставила на стол миску кислого молока, хлеб. Я приступил к еде, а хозяин стал с женщиной о чём-то говорить по-мордовски.
— Почему говорите не на русском языке? — спрашиваю у него.
— Она не знает русского, — ответил он мне. И говорит:
— Жена хочет сходить во двор оправиться.
— Что ж, пусть выйдет, — говорю ему, а сам думаю, я всё равно сейчас буду выходить.
Женщина вышла. Прошло не более двух минут, как он открывает форточку и что-то по-мордовски и по-русски говорит ей, чтобы не задерживалась. Слышу и её голос. И вдруг какие-то шаги за окном у торцевой стены. Кто-то там стал. Тут же открываются двери и в комнату вскакивает солдат с наведённым на меня автоматом. Приказывает: «Руки вверх, ложись!»
Я ложусь на пол. В комнату заходят ещё двое военных — солдат и капитан. Это произошло где-то в час ночи.
Как?! Как такое могло случиться со мной?! Как мог я так по-дурацки дать им себя поймать? Я как проснулся. Но уже было поздно. Мне связали руки. Я заметил, что солдаты с неприязнью смотрят на хозяев жилья. Как оказалось, в том доме, что был слева, стояла поисковая группа: капитан и два солдата. А меня обманули. Женщина шла не на оправку. Выйдя, она побежала к окну соседнего дома, постучала и, сказав, что я у них, вернулась к своему окну. Через какое-то время меня перевели в тот дом, в котором квартировала поисковая группа. Я, связанный, лежал на полу.
— Сусловца знаешь? — спросил меня один из солдат.
— Знаю, — ответил солдату.
— Мы из 5-го, из его взвода. Он нам сказал: если поймаете, то покажете его мне. (Сусловец А.К. — мой односельчанин, проживал, как и я, недалеко от техникума — на посёлке. Он мой ровесник, а потому иногда в компании и к девушкам заходили. Я с ним не дружил, но и не враждовал. После освобождения, летом 1963 года, случайно встретился с ним на танцплощадке в техникуме. Он был с женой. На нём погоны лейтенанта, портупея. Он тогда был в отпуске. Сказал мне, что в Мордовии охраняет 5-й лагерь, в котором находятся иностранцы). Так вот, Сусловец, наверное, рассказал солдатам обо мне, и они уже знали, кого ищут, — что это не какой-то там бандит или заядлый враг народа, как их специально настраивали против тех, кто сидел в политических лагерях. А потому ко мне очень хорошо отнеслись, поделились своим пайком. Других, бывало, что и убивали на месте, или так били, что беглец ещё долго харкал кровью. Мне повезло… А с побегом не повезло. Хотя… Ну, сбежал бы я, очутился бы на воле. И всё! Дальше уже бежать некуда — от себя не убежишь.
Где-то в 9 часов прибыл вездеход («бобик»). Группа крестьян пришла посмотреть на беглеца. Я иду босиком по грязи к машине. Ноги в грязи. Одна в запачканной тряпке. Зрелище жалкое. Но что поделаешь?! Иду. На дворе такой же холод, такая же осенняя морось. Солдаты в шинелях. И откуда взялся на мою голову такой холод?.. Ведь всё время стояла тёплая солнечная погода. И надо же такому случиться! Мы едем по размытой дороге. Проезжаем через какое-то село. Останавливаемся. Солдат обращается к какой-то женщине, берёт у неё литровую банку молока и даёт мне. Я пью, а из головы не выходит мысль: как я мог так по-дурацки поступить? Досадно… Не столько от того, что потерял свободу, сколько от того, что так по-дурацки её потерял. Подъезжаем к 5-му. Останавливаемся возле небольшой группы военных. Подходит Сусловец.
— Ну, что, попался, собака! — говорит мне.
Подбежала с любопытным, но не сочувствующим видом и его жена. Я не ответил Сусловцу. Молчал. Приезжаем в Управление Дубравлага, в Явас. Меня заводят в большой зал. По периметру всего зала сидят на стульях офицеры, а за большим столом сидит полковник. Перед столом небольшая собака. Я подхожу ближе к столу. Я босой. Ноги и та повязка из рубашки в грязи — вид в этом зале не импозантный. Полковник что-то спросил. Я ответил. А потом говорит:
— Сусловец мне всё рассказал о тебе. Ты был хулиган. В детстве снаряд взорвал.
Я не стал оправдываться, лишь мелькнуло в голове: и почему я ни разу не отдубасил этого паршивого тщедушного щенка. Что-то он там ещё сказал и даёт указание:
— В изолятор, в камеру №…
— Товарищ полковник, та камера с окном к запретке, — говорит ему кто-то из офицеров.
— Ничего, уже не сбежит, — отвечает полковник.
Меня отводят в следственный изолятор, который, наверное, был и штрафным изолятором, потому что там иногда отбывали наказание женщины-бытовички. В изоляторе дежурный надзиратель дал мне воду обмыть ноги и какое-то подобие ботинок.
А через несколько дней меня отвезли на 10-й. Идёт следствие. Я в торцевой камере старого корпуса, окно которой выходит на прогулочные дворики. Заключённые из двориков машут мне, подбадривают. А особенно Григорий Бухта. При каждой возможности говорит мне: «Осенью Хрущёва не станет! Вот увидите, его не будет. А не будет Хрущёва, так будут какие-то изменения». И такую уверенность излучает его лицо, что я уже подумывал: «А не случилось ли что-то с его психикой?» Сводили меня и в баню, где я уже хорошо обмылся, а особенно хорошо выпарил рану на ноге, которая уже не кровоточила, но была распорота. Ко мне подходят заключённые из обслуги. Один из бытовиков даёт пачку махорки. Я не курю, но беру — может, пригодится. Подходит и Николай Кончаковский, даёт пайку хлеба, которую ему где-то удалось достать.
Уже на 10-м мне стало известно, что мой побег был обнаружен в 17 часов, когда снимали с работы: пересчитали заключённых и обнаружили, что одного не хватает. Но обнаружить мой побег могли и раньше. Какой-то военный в чине старшины сказал мне: «Тебя видел мальчик, когда ты пробегал через объект, где тренируются солдаты. Он прибежал на вахту и сказал, что видел мужчину в трусах, но мы подумали, что это солдат тренируется».
На допрос меня водили несколько раз и больше не трогали. Да и не о чем было допрашивать. Я коротко рассказал о своём побеге, и на том всё. Из заключённых кое-кого допрашивали (в том числе и Чугая с Кудрявцевым), но никто ничего «не видел». На следствии я узнал, что меня поймали в селе Коперзань Зубово-Полянского района. Если не ошибаюсь, то это где-то в районе 17-го лагеря.
Меня утешило то, что перевезли на 10-й. Я наметил план побега из изолятора, но не было как достать необходимый инструмент. Штырь, который я нашёл на прогулке, у меня уже был, и я спрятал его в прогулочном дворике. Нужна была ещё пилочка. Обратился за помощью к Пугачу, но он не в силах помочь. Тогда обращаюсь к Михаилу Глюзе, бывшему побегушнику. И Глюза из стальной полосы, которой выкраивали заготовки для рукавиц, изготовил пилочку длиной сантиметров 10 и передал мне в камеру. Теперь бы скорее вернуться в изолятор. Вернувшись в изолятор, сразу же приступаю к работе. А работа такая: между металлических полос, которыми от пола до стены закреплены доски нар, нужно вырезать две доски, ночью залезть под нары и попробовать штырём сделать в стене или фундаменте выход наружу. Из окна мне было видно, что за запреткой надзирают кое-как, даже лампочку не меняют, и часть запретки не освещена. Выпиливать пришлось долго. Доски были берёзовые, до 5 см толщиной. К тому же доски выпиливались по балке. Пилочка быстро затупилась, и я не пилил, а перетирал те доски. Наконец перепилено. Использовав всё, что у меня было, накрыл одеялом. Кукла готова. А сам залез под нары и стал долбить штырём стену. Это уже было после отбоя (спать там можно было, когда тебе заблагорассудится), но открывается кормушка, и надзиратель спрашивает, какая у меня книга из библиотеки. Я просовываю голову под одеяло и отвечаю: «Уленшпигель». (Я эту книгу так и не читал, но название почему-то помню по сей день. А книга мне была нужна для того, чтобы надзиратель, заглянув через глазок в камеру, видел, что я сижу и читаю книгу. Я же, держа в левой руке книгу, смотрел за глазком, а правой выпиливал доску). Кормушка закрывается. И тут слышу топот, приближающийся по коридору. Двери открываются, в камеру заходят и кричат: «Вылезай!» Я вылезаю из-под нар, меня переводят в другую камеру. А на другой день я уже в карцере — 5 суток. Это уже не те ШИЗО, которые были когда-то у меня. Пол цементный — не ляжешь. На ночь дают деревянный щит. Два дня дают только пайку хлеба, соль и кипяток. На третий день дали в обед какую-то еду. Но это ничего — всё же 5 суток. А больше и не могут дать — я же под следствием.
Всё… Из следственного изолятора мне не сбежать.
В октябре здесь же, в Явасе, районный суд рассмотрел моё дело и к неотбытому сроку добавил ещё 3 года, из них 3 года тюремного заключения. На кассацию я не подавал, но заявил протест на неточность в приговоре. В приговоре записали, будто я заявил, что и впредь буду сбегать из мест заключения, потому что меня держат не на Украине. На самом деле я заявил, что буду сбегать, потому что осуждён незаконно. Но Верховный суд Мордовии по этому заявлению пересмотрел приговор и нашёл в нём отклонение от норм закона (санкция основной статьи — 62 ч. 2 — до 10 лет, а значит, сколько бы раз не судили по статьям, санкция которых до 10-ти лет, — общий срок заключения не может превышать 10-ти лет — вступает в действие принцип поглощения срока). Таким образом, у меня снова 10 лет и из них 3 года тюремного заключения.
В этом же месяце произошло ещё одно событие, которое невозможно объяснить: из газеты, которую мне подали в камеру, узнаю, что снят Хрущёв, — предсказание Бухты сбылось. Откуда же у него была такая уверенность, что такое должно произойти, да ещё в такой короткий срок?!
В конце ноября, а может, уже в декабре, возвращается в соседнюю камеру бытовик, которого судили за убийство заключённого в больнице пос. Барашево (будучи в больнице, он напал на медсестру, требуя у неё какой-то наркотический препарат. Санитар бросился её защищать и получил удар ножом). Его камеру закрыли, и надзиратель заглядывает в мою камеру.
— Что там у него? — спрашиваю у надзирателя.
— ВМН (высшая мера наказания — расстрел), — слышу в ответ.
Мы сидим в камерах смертников: он в маленькой, а я — в большой. У него ещё есть надежда на помилование, а у меня — никакой!
Уже со всем покончено, и я жду отправки во Владимир.
Всё же не всё ещё проиграно. У меня оставалась ещё одна попытка — пойти на рывок («рывок» — побег из-под конвоя) на этапе. И вот в декабре меня забирают на этап. Но при посадке в вагонзак, а из вагонзака в воронок, мне надевают наручники или берут под руки. Поэтому до самого Горького (пересылки в Потьме, Рузаевке) возможности рвануть не было.
Я уже в Горьком, на последней пересылке. В камере сижу один. Уже где-то после обеда библиотекарша открывает кормушку и предлагает книги. Взял одну, «У Понта Эвксинского», кажется, она так называлась. Поужинал и чтобы заполнить время, стал читать. Начиналась она с корабля, который куда-то плывёт с воинами на борту. Меня даже заинтересовало: куда же это они плывут? Но тут открываются двери и меня забирают из камеры. Спустившись на первый этаж, захожу в небольшую этапную камеру. Тот, что привёл, говорит:
— Переночуете здесь, а завтра с утра на этап.
В камере ни кровати, ни нар, а потому мне дают деревянный щит, я кладу его поперёк камеры на вмурованные под стенами лавки и ложусь спать. В камере я один. Ложась, думаю: что же завтра меня ждёт; удастся рвануть или нет?
Утром 24 декабря будят, оборвав сон, который снился. Встаю и обдумываю этот сон. Мне приснилось, что я со своим покойным крёстным отцом на строительстве какого-то огромного (концов не видно) сооружения. Цоколь уже есть, а местами и стены заложены. На этой стройке нет никого, только мы вдвоём кладём стену. Но крёстный оставляет меня — уходит прочь от меня, а я продолжаю класть. (Во второй раз крёстный приснился через 38 лет. Это было в каком-то городе. Я сижу на лавке, а по бокам вплотную сидят мои покойные родители: отец с левой стороны, а крёстный — с правой. Отец хочет, чтобы я шёл с ним на рынок. Я собирался идти, но когда глянул на отца, то увидел его в таком рванье, что идти рядом с ним было бы невозможно. Увидев такое, я стал отказываться. А отец продолжает упрашивать. — Нет, я не пойду на рынок, — говорю отцу. Тогда крёстный отцу: «Ну, раз не хочет, так пусть не идёт». На этом сон закончился. А где-то через неделю слабость, боли в животе. Скорая отвезла в больницу, в которой было установлено — воспаление аппендикса. Но я отказался от его удаления, надеясь, что пройдёт. Примерно через сутки повторно прибыл в больницу с диагнозом: острый гангренозный местный перитонит).
Меня выводят из камеры и сажают в один из воронков. Я в боксике. Другие заключённые в общей камере. Едем на вокзал. Напротив меня на лавке два конвоира. Дверь моего боксика неисправна и время от времени открывается. Конвоир её захлопывает. Какая возможность! Надо напасть на них, забрать оружие. Присматриваюсь к конвоирам. Один из них совсем тщедушный. Но как же мне без шума справиться с обоими? Когда дверца открывается — так и хочется броситься на них. Как же их вырубить?! Я не спец. Жаль. А так не было бы никаких проблем: нокаут одному, второму, оружие в руки, открыл дверь и выпрыгнул на слабо освещённую улицу, по которой неспешно движется этот воронок. И так хочется напасть, но понимаю — шансов нет. А впереди у меня ещё две возможности, которые я могу этим сорвать.
Приезжаем на станцию. Прибыли и другие воронки. Нас высаживают. Где-то впереди вокзал. Ещё темно, но от света пристанционных электроламп и снега видимость более-менее достаточная, чтобы видеть вокруг. Мы идём цепочкой по протоптанной в снегу тропинке к железнодорожным путям. Я среди нескольких заключённых, что идут впереди шеренги. За мной в серой шинели идёт майор с папкой в руке. Весь конвой на значительном расстоянии позади шеренги. На меня никакого внимания. Удивлённо осматриваю всё вокруг. Я удивлён тем, что мне не надели наручники, что не берут и под руки, что по бокам и спереди нет никого из конвоиров. Какой шанс — думаю. Но меня беспокоит, что вокруг никого нет. Что-то тут не то, что должно бы быть. Мне дают возможность сбежать. Но у меня никакого прикрытия, никаких препятствий для тех, кто по мне будет стрелять. Странное сопровождение. Такого не бывает. И я не решился. Не хочу быть для них мишенью — идти навстречу их замыслу.
Подходим ближе к путям, останавливаемся. Нас окружает конвой. Светало. Подходит поезд. Нас подводят и сажают в вагонзак. Впереди пункт назначения — Владимир. Вагонзак переполнен. Поскольку все камеры заполнены, то меня посадили в камеру с бытовиками. В полосатой одежде был только я. Я знал, что во Владимире меня посадят в воронок, отвезут в тюрьму и оттуда вырваться я уже не смогу. У меня осталась одна возможность, но для того, чтобы ею воспользоваться, нужно обмануть конвой, потому что если возьмут под руки, то такой возможности не будет. Итак, нужно заменить свой полосатый бушлат на чёрный. Только бушлат, потому что штаны, пиджак и шапка — мои личные вещи, в которых я прибыл в Мордовию, мне отдали, когда отправляли на этап, и они на мне. Помочь мне в этом могли только заключённые, сидевшие со мной в камере, а потому я обратился к ним за помощью. Я много не говорил. Из нескольких фраз они поняли меня, и один из них говорит: «Вот «Змей» сидит, раздевай его». Я не знал, в чём тот «Змей» провинился, а потому сказать ему: «Снимай бушлат!» — я не решался, надеясь, что он сделает это без моего вмешательства, ведь он слышал, о чём шла речь. Поэтому я лишь вперился в него глазами, давая этим понять, что жду бушлат. Увидев, что он не собирается раздеваться (а это уже было явное неуважение к «полосатому»), тот же заключённый, встав, приказал: «Ну, чего ты — снимай бушлат!» Его и другой заключённый поддержал, сказав: «Снимай, снимай!». «Змей» снял бушлат. Я взял бушлат, а ему отдал свой. Он надел мой полосатый, а я его чёрный. И полностью подготовился к рывку: надел две пары носков и расшнуровал ботинки. В носках будет легче оторваться от конвоя. А когда уже подъезжали к Владимиру, то, понимая, что больше шансов погибнуть, а не сбежать, написал и записку. Написал коротко: «Я устал жить». Мне всё же не хотелось, чтобы мой поступок воспринимали как отчаяние от того, что я нахожусь в заключении. Бумажку я положил в карман пиджака.
Вот и Владимир. Заключённых высаживают из вагона. Открывают и нашу камеру. «Змей» выходит с заключёнными. И я с ними. Как только «Змей» сошёл с вагона, двое солдат сразу взяли его под руки и отвели в сторону. Он молча стоял между ними. Конечно, если бы он сказал солдатам о том, что происходило в вагоне, то была бы поднята тревога и меня сразу стали бы искать. Но он хоть и «Змей» — меня не выдал. Когда закончилась высадка, конвоир, стоя в тамбуре и глядя в сторону воронков, прокричал: «45!» «Всё!». Я смешался с заключёнными. Из вагона было высажено 45 заключённых, в том числе полтора десятка женщин. Нас стали строить по пять человек в ряд. Расстегнув бушлат, я подошёл к передним рядам. Поезд отошёл. Нас подвели к перрону. Справа был высокий забор, а впереди неширокий перрон. Между забором и вокзалом стояли воронки. От перрона буквой «Г» выстроились солдаты-автоматчики, по ширине перрона в две плотные шеренги. За шеренгой, вдоль путей, стоял и майор в серой шинели с папкой в руках. Заключённых по пятёркам стали сажать в воронки. Я выбрал для рывка ближайшее к перрону место в шеренге, где между солдатами было расстояние около двух метров. Женщин уже посадили, теперь и нас будут сажать. А станция пустая. Никаких поездов. День хоть и пасмурный, но видимость нормальная. Дальше уже ждать было нечего. Я вынул ноги из ботинок и бросился между солдат, которые стояли от нас на расстоянии 3-4 метра. Солдаты из-за того, что их было много и плотно расставлено перед перроном, никак не ожидали, что кто-то из заключённых может броситься между них, а потому не успели среагировать. Только один, на которого я бежал (он был справа, и я пробегал мимо него почти вплотную), смотрит на меня и, не в состоянии ещё понять, что происходит, смог лишь спросить: «Куда ты?» Я проскочил между солдатами, потом через пару метров проскочил между солдатами второй шеренги. И тут на меня бросился милиционер, схватил за бушлат, который я сбрасывал на бегу, и помог сбросить. Я вырвался и бросился бежать по перрону. Слышу позади один за одним одиночные выстрелы и сразу же за ними очереди из многих автоматов. Впереди на перроне, неподалёку от стены вокзала, стояла женщина. Когда я пробегал, то видел, что она бледная, как стена. Я бежал дальше. А позади автоматная трескотня, крики «Стой!». Солдаты среагировали с опозданием, и им ничего не оставалось, как открыть бешеную стрельбу вверх. Заключённых, наверное, как в таких случаях делается, положили на землю. Перрон был почти пуст. Впереди навстречу шли двое мужчин. Я увидел, что они собираются броситься на меня. Они даже остановились, когда я подбегал. Но свернуть мне было некуда: двери вокзала закрыты, внутреннюю планировку вокзала, его «вход» и «выход», чтобы без задержки выбежать на противоположную сторону, я не запомнил, а пути пустые. А потому я побежал прямо на них. Подбежав, закинул руку назад, рявкнул на них и выхватил руку из-за спины. Они отшатнулись, и я пробежал между ними. (Имитация выхватывания ножа удалась). Потом я увидел, что какой-то старичок выплясывает впереди. Вокзал уже кончился. Снова высокий забор вдоль перрона. Увидев этого «дедушку» (лет 55-ти), я понял, что он собирается вцепиться мне в ноги. Я соскочил с перрона, оббежал того «дедушку» и выскочил снова на перрон. А сзади продолжают строчить из автоматов и кричать «Стой!». Бегу дальше. Вижу, что через метров 40-50 перрон и высокий забор заканчиваются. Мне туда добежать, и я смогу повернуть за забором вправо и выбежать на широкую улицу, что по ту сторону вокзала тянется в центр города. Спереди уже никого не видно. И тут вдруг какое-то беспокойство, чувство опасности впереди: «Там могут убить», — промелькнуло в голове. Пробежав ещё немного, я всё же соскакиваю с перрона и, наверное, на удивление всем, кто меня перехватывал и преследовал, побежал наискось через пути на противоположную сторону станции, где стоял какой-то пассажирский поезд. По всем признакам — пустой. Подбегая к поезду, оглянулся. На расстоянии где-то 70-80 метров бежали двое солдат. Они стреляли на бегу короткими очередями. «Стой!» никто уже не кричал. Стреляли только эти два солдата. Я понял: им уже ничто не мешает стрелять в цель. Подбежав к поезду, бросился под вагон. Когда переполз на коленях через первый рельс, меня что-то кольнуло в бедро левой ноги. Я машинально глянул и увидел, как хлестнула вырванная штанина, вырвался оттуда клубочек пара. Я понял, что ранен, но думал, что может ещё сбегу. Выбравшись на высокую платформу, побежал вдоль поезда, в сторону города в сторону депо, как мне сказал кто-то об этом позже. Уже добегал до конца поезда, как нога стала отказывать. Когда миновал поезд, нога совсем перестала функционировать, и я сел на снег, подогнув правую ногу и вытянув левую. Опершись левым локтем и повернув немного голову влево, глянул на платформу и поезд. Всё закончилось, но всё же интересно, насколько я оторвался и был ли шанс скрыться из поля зрения преследователей, если бы не был ранен. Преследователей не видно. Я смотрю на этот пустой поезд и думаю: это же, наверное, и есть та пригородная электричка, на которой 13 апреля прошлого года, в послеобеденное время, я отъезжал на Петушки. Жду преследователей. И вот вижу, на расстоянии где-то около 100 метров, в том, наверное, месте, где я вылезал, выбирается из-под вагона на платформу солдат. Увидел, что я полулежу, трусцой приблизился и стал на расстоянии где-то более 5 метров. Долгонько! За это время я, если и не скрылся бы из поля зрения преследователей, то всё же был бы на таком расстоянии, что стрелять по мне в сторону города было бы опасно. Возможно, мне не стоило менять направление, хотя бежать по той улице, по которой я ходил 13 апреля за паспортом, было бы опасно. Солдаты могли бы вскочить в один из пустых воронков и если не встретили бы меня, когда я, миновав забор, выбегал бы на улицу, то догнали бы. Неизвестно, как там было бы, а вот тут уже известно — я проиграл. Стали подходить другие солдаты. Я достаю из пиджака записку и подаю солдату.
— Прочитай, — говорю ему. Я подумал: а почему бы не использовать эту записку, которая ставит этот побег под вопрос: был ли это побег или желание таким способом покончить с жизнью? Появился какой-то офицер, который стал командовать солдатами, посылая одного из них в медпункт за носилками. А в отдалении собралась группа гражданских, которая наблюдала за нами. Близко их не подпускали. Вот и солдат с носилками. Раскладывают возле меня, и я переползаю на носилки. На том месте, где полулежал, кровавое пятно. Небольшое, потому что кровь ушла под снег. Солдаты относят меня в медпункт вокзала. Мне наложен жгут. Я лежу на полу на носилках неподалёку от двери. Дверь открывается прямо на перрон, её часто открывают, а потому всё больше начинает пробирать холод. А нога распухла, посинела, и от этого очень болит. В больницу почему-то долго не отправляют. Медработник сначала спокойно, а потом стала кричать на офицеров, объясняя, что так долго нельзя держать ногу в жгуте, что нужно везти в больницу. Задержка была связана с тем, что долго не могли решить, куда везти — в городскую или тюремную больницу. Наконец относят в машину — газик со снятым тентом.
— Автоматы брать? — спрашивает солдат.
— Не нужно, уже не сбежит, — отвечает офицер.
Меня отвозят в тюрьму. При помощи солдат захожу на первый этаж второго корпуса, в котором находится больница, сажусь на стул. Подходит какой-то майор, говорит что-то неприятное относительно моего побега, что-то вроде: «Ну что, убежал?». Я реагирую на это в резком тоне, и он замолкает. Подходят двое заключённых из обслуги с носилками и несут меня наверх в операционную. Там уже всё готово. Елена Бутова (хирург и зав. больницей) приступает к операции. Ей помогают две женщины в белых халатах. Бутова спрашивает:
— Откуда, за что посадили?
Отвечаю. Вижу, у одной, что помогала Бутовой, из глаз выкатываются слёзы. Бутова прочищает рану, протягивает что-то через дыру в бедре и говорит мне:
— Пуля прошла у самой кости (разорвала внешнюю мышцу посередине бедра). Вам повезло.
Мне действительно повезло. Ведь я был в такой позе, что пуля могла бы войти в задний проход, а выйти через макушку головы. Вот была бы для них загадка: где же вошла пуля?
— А Вы герой! Такой стрельбы у нас на вокзале ещё не было, — продолжает Бутова.
После операции заключённые отнесли меня на второй этаж больницы, в камеру на двух человек. В ней уже сидел какой-то заключённый из бытовиков. Ничего интересного он собой не представлял, а потому не о чем и вспоминать. Камера была чистой, пол покрашен, кровать мягкая, постель чистая и приятная. Питание было хоть и недостаточное, но более-менее качественное.
От участия в следствии я отказался. Но когда в камеру зашёл какой-то майор выяснить, кто из его солдат меня ранил, то я ему сказал, что меня ранили под вагоном. В больнице я пробыл до 22 января 1965 года. Рана не заживала, началось нагноение. Дыра в бедре была наполнена гноем и, где вышла пуля, была такой большой, что мог бы войти большой палец. Хотя нагноение не прошло, меня перевели на первый этаж 1-го корпуса, где преимущественно держали заключённых, которые прибыли из лагерей и должны были пройти через строгий режим с первым месяцем пребывания на пониженном питании. Условия содержания заключённых были такие, как и раньше. Только раньше я сидел с осуждёнными к строгому режиму, а теперь к особому. Меня на пониженный паёк не поставили, потому что я уже пробыл в тюрьме почти месяц. Находясь в камере, я, как и в больнице, ложился так, чтобы вытекал гной из раны. Но, как известно, от подъёма до отбоя лежать не разрешалось. Меня предупредили раз, второй, потом выбросили постель из камеры и написали рапорт. Правда, при обходе камер медсестра через кормушку спрашивала меня, выписать ли разрешение на то, чтобы лежать в запрещённое время. Но я промолчал. Ведь я ходил на перевязку и было видно, в каком состоянии нога. На третий день зачитали постановление о переводе меня на месяц на пониженное питание за то, что лежал на кровати. Пониженное питание — это утром пайка хлеба с кусочком селёдки или с десяток тюлек, на обед — суп или борщ без жира и мяса, а на ужин — пюре (где-то со стакан жидковатой картошки или каши, тоже без жира). Камера, в которой я сижу, на 5 человек, кроме меня ещё четверо. Все из уголовных лагерей. Среди них Зоричев, которому расстрел за антикоммунистическую (по приговору — антисоветскую) татуировку на лице заменили 15-ю годами заключения, и Кобзев — казах, производивший впечатление психически больного. Он как мумия — маленький, худенький, лицо землисто-жёлтого цвета. Кобзев сидит неподвижно, ничего не рассказывает и ни о чём не спрашивает. Кто он и за что здесь, неизвестно. Когда выводили на прогулку, то этот доходяга, бывало, бежал куда-то в сторону от двориков. За это его сажали в карцер. (В 1966-м или в 67-м он погиб в лагере на 10-м. Когда заключённых в промзоне снимали в 17-й с работы, Кобзев полез возле вахты в запретку. Солдат, стоявший на вышке, стрелять по нему не стал, потому что заключённые крикнули, что это больной. Но вышел с вахты офицер, подошёл с внешней стороны к запретке и, дождавшись, когда он вылезет на забор, выстрелил из пистолета, и Кобзев мёртвым свалился с забора).
Я с сокамерниками почти не разговаривал. Ведь о чём с ними говорить?! Да и вообще — о чём говорить! Сидим молча в полутёмной камере (на окна нацеплен «намордник» — щит, солнце в камеру не заглядывает). Каждый что-то там «гонит» — прокручивает в голове что-то своё. А в какой-то день открывается кормушка, и мне подают обвинительное заключение. Я беру, не заглядываю в него и так, чтобы это видели сокамерники, рву на куски и бросаю в парашу. Через какое-то время, а было это 19 февраля (ровно через год после суда в Ровно), меня забирают из камеры, и надзиратель ведёт меня почему-то к административному корпусу. Когда зашли внутрь, спрашиваю у надзирателя:
— Зачем меня сюда привели?
— У тебя сегодня суд, — отвечает надзиратель.
Поднимаемся на второй этаж. Захожу в большую комнату. За столом — одни женщины. В комнате, кроме меня, ни одного мужчины. Я стою у стола. В общем, вид имею жалкий: я совсем измождён. На мне обшарпанный бушлат в заплатках, одна штанина короче, ботинки расползаются. Смотрю на женщин. Одна из них, что рядом, ест пончики. У меня подкатилась слюна. Незаметно проглатываю и напрягаю волю, чтобы не реагировать. Мне это удаётся, и я спокойно стою перед ними. Немного удивляюсь, что в составе суда ни одного мужчины. А удивляюсь потому, что ночью, которая прошла, мне приснился сон: я в каком-то помещении — один среди группы женщин, которые упрекают меня за какую-то вину. Наконец началось заседание суда. После некоторых процессуальных формальностей я сделал в суде заявление, в частности, сказал: «Коммунисты вычеркнули термин революционер-профессионал. Этот всем известный термин они заменили термином «особо опасный рецидивист», но суть не меняется, как бы ни называли, во что бы ни одевали и в каких бы условиях ни содержали борцов за благополучие народа». (А что оставалось? Не говорить же, что я инопланетянин. Я был в роли революционера, и мне ничего не оставалось, как продолжать играть эту роль).
Я заявил, что отказываюсь участвовать в суде, так как в достаточной степени знаком с деятельностью коммунистических судов. Попросил, чтобы меня вывели из помещения. Меня не вывели. Стали вызывать свидетелей. Среди них и солдата, который ранил меня под вагоном. Фамилия солдата литовская. Дрожащим голосом солдат отвечает на вопросы. Его всего трясёт. Что с ним и почему он в таком нервном состоянии — неизвестно. Говорит, что целился в ноги. (Возможно, когда я бежал, потому что когда переползал, то какие уж там были ноги). Второй солдат, с азиатской фамилией, сказал, что целил в голову. А женщина, стоявшая на перроне, рассказала о том, как бежал за мной майор и стрелял из пистолета, что пули неподалёку рикошетили от перрона и что те пули могли бы в неё попасть. Ну, а «Дедушка» показал, что, увидев, как я прорвался сквозь двух мужчин, решил вцепиться мне в ноги, что он как фронтовик знает, что в таких случаях надо делать. Дал показания и майор. Он сказал, что стрелял в ноги. Он сказал правду. Только не добавил, что стрелять прямо он не мог, потому что спереди по той же прямой была женщина, а дальше ещё трое людей.
После совещания суд зачитал постановление о направлении меня на психиатрическую экспертизу, потому что я её никогда не проходил. Через какое-то время меня свозили в город к психиатру. Вернувшись в камеру, я думал, что это уже всё, что экспертиза пройдена. Но однажды в марте, после завтрака, открывается кормушка и слышу:
— Бабич, сдайте миску, кружку и ложку.
Сдаю.
— Это на этап, на психэкспертизу, в Москву, наверное, — говорит мне сокамерник, который с Украины, если не ошибаюсь, по фамилии Пасичник. И добавляет: «Мы тебе в этом помогли». Меня переводят в соседнюю камеру. В камере я один. Снова открывается кормушка, и в камеру вбрасывают мои вещи: пиджак, рубашку, кальсоны, штаны — то, в чём я бежал. Кальсоны и штаны окровавлены. Рассматриваю вырванный кусок штанины, размером где-то сантиметров 5 в ширину и 7 в длину, по форме буквы «П». Кусок с трёх сторон как вырезан ножницами. Держится с одной стороны. Нахожу и маленькую дырочку, куда влетела пуля. Думаю: для чего они мне это вбросили? Разве они не понимают, что мне не нужны эти окровавленные штаны и кальсоны. Беру себе пиджак, рубашку, которые отец передал мне осенью 63-го года, а окровавленное бросаю в угол камеры. Вскоре приносят сухой паёк, и в обеденное время я уже в вагонзаке поезда, на котором в декабре ехал из Горького. При пересадке из воронка в вагонзак мне, как и раньше, надевают наручники. Когда в вагонзаке глянул в зеркало, то увидел худое и бледное лицо, зубы местами покрыты каким-то чёрным налётом. Я уже знал, куда меня везут, потому что когда спросил у конвоира, он сказал: «Тебя везут в Москву на психэкспертизу в институт имени Сербского».
По прибытии в Москву отвозят в Бутырку. Я один в камере. Стены камеры облупленные, разрисованные разными знаками. Наверное, это здесь я буду проходить экспертизу — промелькнула мысль. Здесь и кормят лучше. К тому же я один в камере, и лежать можно, когда захочется. Но меня почему-то никто не вызывает и никто не приходит, да я и не выясняю, почему не ведут к психиатру. Куда мне спешить?! Но дней через пять меня забирают из камеры, сажают не в воронок, а в какой-то шикарный микроавтобус с гражданской обслугой в белых халатах. Наручники не надевают. Провезя по улицам, подвозят к какому-то зданию, не похожему на тюремное, потому что не видно, чтобы на окнах были решётки. Захожу в приёмную. В приёмной светло, чисто, вежливый медперсонал. Оказывается, это и есть Институт судебной психиатрической экспертизы им. Сербского.
— Вы будете проходить здесь психэкспертизу, — сообщают мне. Тут же приходит медсестра и отводит меня в ванну. Помывшись в ванне, надеваю новые пижаму, носки, тапочки. Поднимаюсь на второй этаж и захожу в палату для политзаключённых.
— Вот ваша кровать, — говорит медсестра, показывая рукой. Кровать мягкая, белые простыни, новое одеяло. В палате большое не зарешёченное окно, начищенный до блеска паркетный пол. Моя кровать от входа справа. Напротив в углу сидит няня. В палате нас четверо. Двое из Мордовии, из лагерей строгого режима, и какой-то учёный с воли, обвинённый в шпионаже. Скорее всего, армянин по национальности (в 1974 году я встретился с ним на 19-м). Приносят обед. Я удивлён: неужели здесь так кормят? Аж не верилось! Что там только не подавали: и омлет, и котлеты, и сосиски, и сардельки, колбасу… И если суп — то это был суп! И каша — не какая-то там синяя, а с мясом, и рассыпается. Большинство людей на воле так не питается, соглашались с нами няни. Палата была из двух комнат. Была и третья комната, вход в которую из коридорчика. Наш туалет в коридорчике. Мы туда свободно выходим. Но пойти в противоположную сторону и заглянуть через глазок в закрытую комнату нам запрещалось. Если из той малой комнаты кого-то выпускали в туалет, то нас в коридорчик не пускали. Мы пробовали выяснить, кто там сидит. Удалось лишь узнать, что это историк из Украины. От уголовных мы были полностью изолированы. Могли их видеть лишь тогда, когда переходили через их большой коридор на прогулку или для чего-то другого. У них были такие же условия содержания, как и у нас. С нами в палате постоянно находились две няни — женщины возрастом от 40-а лет и уже пенсионного возраста. Одна из них, Мария, была с Украины, где-то с Полтавщины, русая, красивая женщина, которая не выглядела на свои годы. Как-то спросила меня:
— А сколько бы Вы мне дали?
— Бывает, что выглядите на 20, — говорю ей.
— Мне уже 45, — с грустью говорит Мария.
Она, почти как и все няни, довольно благосклонно относилась ко мне, сочувствовала. Тайком, чтобы никто не видел, угощала домашними пирожками. А как-то сказала мне шёпотом:
— Зачем Вы такое говорите? Всё доносят.
— Мне всё равно, — ответил я на это.
Конечно, я знал о том, что няни отчитываются о поведении каждого подопытного, но не обращал на то внимания и говорил о советской власти и коммунистах то, что думал. Помню, как-то мы обсуждали неудачный захват в воздухе самолёта. Не помню уже деталей хода нашей беседы, а лишь сказанное мною, как бы я поступил на месте того террориста. А я сказал тогда на всю палату:
— Я бы взорвал, лишь обломки полетели бы с того самолёта.
— А пассажиры? — мне на то няня.
— Если экипаж не жалко, то почему я должен жалеть? — ответил я няне.
Среди заключённых, которые были со мной в палате, были такие, которые вели себя нормально, были больные, а были и симулянты. Запомнился мне один из таких симулянтов. Это был моряк из Одессы, наверное, немного старше меня. Был он коренастым, весом за 100 кг. Ему за что-то там дали пять лет и отправили в Мордовию. Сначала он вёл себя нормально, а потом начал слегка «гнать». Вот лежит он на кровати ногами к няне, которая сидит в углу на тумбе, и подпускает ей. Вонь аж до меня доносится. Няня крутит головой, вскакивает, садится на мою кровать, недовольно поглядывая на него. Смотрю на этого бывшего моряка, а он, почему-то красный как рак, смотрит в нашу сторону… и подпускает. А то начинает плакать, жаловаться на свою судьбу. (Я тоже перед прибытием намеревался симулировать, чтобы попасть в больницу, откуда попробовать сбежать. Но, прибыв, решил не унижать себя).
Кажется, раз в неделю группа психиатров во главе с Главным делала обход палат. Заходила и та, которую мне назначили. Это была на вид лет 30-ти красивая шатенка. А вот звать? Забыл! Вызывала на беседу раза два или три. Сказала мне, что получила с Украины дело (досудебное расследование КГБ) и знакомится с ним.
В институте я, как и другие заключённые, прибывшие из лагеря, быстро поправился (ведь ешь сколько влезет), набрал немалый вес. Я был там с 26 марта до 13 мая 1965 года. Перед выпиской на комиссии меня спросили:
— Вы любите Украину?
— Да, я люблю свой народ, люблю Украину — это моя родина, — ответил я. (А что оставалось?! Ведь скажи им, что любить можно только девку да вареники, а всё остальное — миражи, то это было бы воспринято как моя попытка облегчить свою судьбу).
— Вы женитесь, если Вас освободят?
— Нет!
— Вы же знали, что за такое преследуют. Почему же Вы не боялись КГБ?
— Если я не должен бояться смерти, то почему я должен бояться КГБ.
— Чем будете заниматься, если Вас освободят?
— Не знаю, — отвечаю на последний вопрос.
На этом всё закончилось. Меня уже никто не вызывал, а через какое-то время переодели в то рваньё, в котором я прибыл, и уже воронком отвезли в Бутырку. На переодевание меня повела няня, звали её Настя. Увидев меня в полосатом, в заплатках, одна штанина короче, няня с какой-то растерянностью смотрит на меня. Она ничего не сказала, но выражение её лица и глаз, которые враз стали опечаленными, свидетельствовали, насколько она поражена увиденным. По прибытии в Бутырку меня повели на второй этаж и завели в большую камеру, заполненную бытовиками. В полосатой одежде — никого. Кровати двухъярусные — вагонка. У двери сверху свободная кровать. Я закинул на неё постель, расстелил. Только влез наверх, как открываются двери и надзиратель, зачитав четыре фамилии, в том числе и мою, приказывает выйти с вещами из камеры. Нас переводят в другую камеру. Мы спускаемся на первый этаж, заходим в какой-то широкий коридор с камерами по бокам. Нас запускают в одну из этих камер. Камера была необычной не тем, что двойные двери и за оконными решётками густая металлическая сетка, а тем, что кроме вбетонированных низких четырёх кроватей, сваренных сплошь из широких металлических полос с возвышением для головы, и унитаза в камере ничего нет. Эти особые кровати вдоль стен камеры свидетельствовали, что это особая камера. Мои сокамерники недовольны переводом. К тому же один из них говорит, что мы в отделении для смертников. И заключённые начинают стучать в двери и требовать, чтобы пришёл кто-то из начальства. Вскоре в камеру заходит майор. Все трое требуют, чтобы их вывели из камеры смертников. А я, отойдя немного в сторону, молчу. Майор поглядывает на меня, ожидая, наверное, что и я начну проситься. Но я продолжаю вести себя так, будто меня это не касается. Спросив у каждого из этих заключённых фамилии и записав в блокнот, майор говорит:
— Ну, если вы не хотите здесь быть, то пойдёмте. — И выводит их из камеры. Я остаюсь в камере. Меня это устраивает: есть где походить, да и хочется побыть в одиночестве. Заняться в камере нечем. Так что прогуливаюсь туда-сюда по камере, рассматриваю стены, на которых предыдущие заключённые отмечали выцарапанными черточками свой срок пребывания в камере. А то просто лежал и что-то вспоминал или обдумывал. Питание уже не то, что в институте, но сразу же, без проблем, я вернулся к тюремному. Не знаю, как другим, но каши мне накладывали полную миску. Дни проходили размеренно, в покое. Некоторое развлечение приносило лишь то, когда проверяли камеру и водили под душ. Камеру проверяли каждый день. Проверка проводилась таким образом: открываются двери, и в камеру заходят тюремщики. Один из них с деревянным молотком. Сразу же команда: лицом к стене, руки на стену, ноги расставить. Прислоняешься плотно к стене и выполняешь то, что приказали. Один из тюремщиков прижимает рукой тебя к стене, а тот, что с молотком, ходит по камере и обстукивает решётки и кровати — проверяет, не отпилено ли что-то. Я спокойно выполняю команду, потому что знаю, что здесь действуют определённые правила, и ты, как смертник, должен их соблюдать, потому что они заботятся о своей безопасности. Последним из камеры выходит тот, что прижимал к стене. Не знаю, знали ли они, кто я такой. Но если и знали, то в таком случае я подыгрывал им в этой комедии. Это даже было забавно. Так же, как и тогда, когда выводили в душ. В той душевой мне пришлось побывать два раза. А процедура там такая: выходишь из камеры, а тебе сразу же шёпотом: тш.., тш.., то есть приказывают, чтобы ты вёл себя тихо. В коридоре больше десятка тюремщиков. Полная тишина. Чтобы не нарушать тишину, тебе и ступать нужно мягко. И чуть что, тебе сразу же шёпотом: тш, тш. Идёшь почти в конец коридора в сопровождении тюремщика к парикмахеру. Садишься. Парикмахер электромашинкой стрижёт голову, бороду, усы. Рядом стоят тюремщики. Кроме работы электромашинки — никакого звука. Как только постригли, сразу же подводят к дверям душевой. На двери не глазок, а иллюминатор диаметром где-то до 15 сантиметров. Заходишь в небольшую раздевалку. Раздеваешься и заходишь в такое же небольшое помещение, становишься под душ, моешься, а на тебя из коридора через такой же иллюминатор, что в стене, смотрит кто-то из тюремщиков. Помылся, оделся и снова: тш, тш, и тебя отводят в камеру. Забавно. Потому что для меня это было комедией. Но не для тех, кто сидел в камерах этого отделения под «вышаком». Ночью слышал тихий плач женщины, который сквозь двери доносился из соседней камеры. Слышен был и тихий голос надзирателя, который её успокаивал. Как-то поздним вечером, или уже ночью, я ходил по камере. Подошёл надзиратель, открыл глазок и тихо спрашивает:
— За что?
— Да, двух коммуняк замочил, — отвечаю ему.
Глазок закрывается, и одновременно из-за двери доносится тихое:
— Ай! Ай!..
Это «Ай!» надзирателя, удалявшегося от камеры, звучало как сочувствие и как понимание того, что уже всё — что уже нечего рассчитывать на помилование.
В Бутырке я пробыл 10 суток. Если бы то было по моей воле, то и дальше сидел бы, потому что меня устраивала камера среди камер смертников. Но утром открываются двери, и какой-то майор забирает меня на этап.
В тот же день я уже был во Владимирской тюрьме, где уже и не приляжешь, и полную миску густой каши тебе не наложат. Ну, и в одиночестве уже не побудешь. Я снова в камере с бытовиками на строгом режиме содержания. Очень быстро избавился от той массы тела, что налилась в институте. Но хотя я сбросил вес, но всё же то питание очень помогло улучшить своё физическое состояние после того истощения, вызванного ранением и пониженным пайком. По прибытии обратился в спецчасть с просьбой ознакомить меня с актом психэкспертизы. Вскоре в камеру зашёл начальник спецчасти и зачитал этот акт. Согласно акту, никаких отклонений в психике не выявлено.
А 6 июня снова заседание суда. Суд в том же составе. Снова вызвали тех же свидетелей. Я, как и на предыдущем, отказался участвовать в рассмотрении дела. Зачитали приговор: три года за побег и три года на тюремном заключении. Из-за поглощения санкцией ст. 62-й общий срок 10 лет. Начало срока — 27 января 1965 года. Я не стал выяснять у них, почему 27 января, а не 24 декабря 1964 года (со времени задержания), и не подал на рассмотрение в кассационном порядке. Зачем, если я не собираюсь спокойно отсиживать этот срок.
С бытовиками я сидел до тех пор, пока с меня не был снят строгий режим содержания. А когда сняли, переведя на общий тюремный режим — а это было аж в ноябре, — то перевели на третий этаж, где я впервые со времени прибытия попал в камеру, в которой сидели политзаключённые. Политзаключённых — особо опасных рецидивистов, которые носили полосатую одежду, — в то время во Владимирской тюрьме было 9 человек. А тех, что прибыли из уголовных лагерей, получив в тех лагерях политическую статью, — где-то с полтора десятка.
Коротко о тех политзаключённых: Витас Кланаускас, лет тридцати пяти, литовец, участник освободительной борьбы. В лагерь попал где-то в конце сороковых или в начале пятидесятых со сроком 25 лет. В первой половине 50-х — снова суд. Уже за какие-то лагерные дела, Витасу возобновили срок — 25 лет со дня ареста в лагере, с отбыванием всего срока в тюремном заключении. Таких тогда называли «глухарями».
Ещё был один литовец, которого через несколько дней отправили в Мордовию на 10-й, латыш Владимир (вероятно, Вольдемар), лет сорока, и русский по имени Владимир, который сидел за то, что, будучи в полиции, что-то там натворил. А у латыша, кроме того, судимость была связана с периодом войны. Не помню и того, почему он оказался на особом режиме. А ещё, Пётр Тупицын, лет тридцати, и мои ровесники Анатолий Бондаренко (с Украины), Виктор Балашов и Зайцев, которые попали в заключение за антисоветскую агитацию и пропаганду. Тупицын — преподаватель из Карелии, который перешёл границу в Финляндию и надеялся, что его, как карела, Финляндия не выдаст. Но Советский Союз направил в Финляндию фиктивные материалы — обвинение Тупицына в краже — и Финляндия его выдала. Он часто вспоминал о своём пребывании в тюрьме в Финляндии и корил себя за то, что не послушал надзирателя, который хотел помочь ему выбраться из тюрьмы. А также за то, что не воспользовался случаем, когда следователь вывел его на улицу и на какое-то время оставил одного. Он был уверен, что его не выдадут, а потому считал, что бежать в Швецию, с которой у Советского Союза не было договорённости о выдаче, — нет нужды. Во Владимирской тюрьме заболел туберкулёзом. А во Владимирскую тюрьму попал за побег. Находясь в 7-м лагере, преподавал в средней школе и, воспользовавшись тем, что имеет свободный доступ в помещения школы, с Бондаренко, Балашовым и Зайцевым — зимой 63-го сделал из школы подкоп. В начале марта, ночью они выбрались из лагеря. Но утром их всех переловили. Бондаренко на руке ампутировали два пальца — отморозил, когда, выбравшись из подкопа, долго полз по снегу. Суд признал их особо опасными рецидивистами. Всем добавили к неотсиженному сроку по три года и отправили на три года во Владимирскую тюрьму.
Во Владимире мне довелось сидеть с литовцами, Тупицыным, Бондаренко и латышом Владимиром. Бондаренко что-то там иногда писал. Он ещё в лагере до побега что-то сочинял в прозе. В тюрьме была довольно богатая библиотека. В ней были книги даже из дореволюционных изданий. Я книгами не увлекался. Для меня там был (да и не только там) небольшой выбор. Это те книги, в которых было что-то из моего мировоззрения, моего видения бытия. С удовольствием прочитал «Братьев Карамазовых» Достоевского, «Мартина Идена» Д. Лондона и некоторые очерки Стефана Цвейга.
В конце февраля или в начале марта 1966 года Тупицын и его подельники по побегу, отсидев назначенный им тюремный срок, выехали в Мордовию на 10-й. Возможно, и я выехал бы из тюрьмы, может, даже и на волю, потому что в январе 1966 года меня вызвал кагэбэшник и предложил написать прошение о помиловании. Тогда, в связи со снятием Хрущёва, некоторых освобождали, но я отказался, дав ему понять, что об этом и речи быть не может. (Я был бы не против, чтобы меня выгнали за ворота тюрьмы. Но проситься за ворота я не мог, потому что это было бы подобно тому, как если бы тот монах, что замуровал себя в келье, стал просить, чтобы то, что он выстроил, разломали).
Вскоре и Кланаускаса перевели во 2-й корпус. (Это он, когда нас вели по двору тюрьмы, показывая на трёх женщин, которых вели позади недалеко от нас, сказал мне: «Это Екатерина Зарицкая, а это Галина Дидык. А ещё есть Дарка Гусяк. Они давно сидят тут. У них по 25 лет тюремного заключения». Была там и третья женщина. Видимо, моложе их, с двумя косами, заплетёнными по бокам. Но Витасу она была неизвестна. Уже позже я узнал, что это была Мария Пальчак, которая 14 апреля 1960 года возле Бережан на Тернопольщине в составе подпольной группы ОУН (Пётр Пасечный и Олег Цетнарский) вступила в свой последний бой с оккупантами. Будучи тяжело раненной (выстрелила себе в голову), была схвачена кагэбэшниками и осуждена на 15 лет тюремного заключения. Тем боем, 14 апреля 1960-го, закончился героический период Украины. Уже прошло полвека, а Украина так и не смогла породить героев. Героичен не народ, а его отдельные поколения). В камере из политзаключённых — только латыш. Но осенью и он уезжает в лагерь. Я снова один среди бытовиков. Тем заключённым-бытовикам было под 30 и за 30 лет. Большинство низкого роста, с подорванным здоровьем, как физическим, так и психическим. Они прошли нелёгкую жизнь, и это запечатлелось на их измученных, серых лицах. И всё же каждый из них был своеобразной личностью. Они не объединялись в стаю, не признавая чьего-либо превосходства над собой.
Оригинальными были те бытовики. Чего стоят хотя бы те методы борьбы с администрацией тюрьмы, к которым они прибегли. Бороться с такими методами администрация тюрьмы была бессильна. Эти методы держали её в страхе. Правда, очевидцем я не был, но знал, что происходило в других камерах. Об этом знали все, рассказывая друг другу об экстравагантных эпизодах. Вот приведу несколько эпизодов этого противостояния.
Был там такой заключённый по фамилии Буряков. Ростом он был метра полтора. Имел два убийства. Он и сам удивлялся, что был помилован за второе убийство. Не помню уже из-за чего, но у него случился конфликт с надзирателем. Буряков решил его наказать. И вот когда тот надзиратель снова заступил на дежурство, Буряков постучал в кормушку. Подошёл надзиратель, и Буряков, в отличие от предыдущей перепалки, приятным голоском стал что-то щебетать, показывая этим, что он идёт на примирение. Надзиратель открывает кормушку и, нагнувшись над ней, собирался, видимо, и Бурякову сказать что-то приятное. Но как только он открыл рот, рука Бурякова, в ладони которой лежал кусок кала, метнулась к его рту.
— Э… — разнеслось по коридору.
А ещё такой эпизод, который произошёл ещё до моего прибытия в тюрьму. Того заключённого звали Николаем, по национальности армянин, и фамилия армянская — Мартатьян, а вот почему он Николай — неизвестно. Помню лишь из его рассказа, что до ареста он пристал в примаки в каком-то селе Чудновского района на Житомирщине, а работал на ферме. Так вот, будучи не довольным той медицинской помощью, которую оказывала ему врач, обслуживавшая 1-й корпус, решил наказать её, придерживаясь при этом «юридических норм». А потому, прежде чем наказать, написал приговор, в котором перечислил все злодеяния этой врачихи, и вынес наказание. (Я сидел с ним, читал копию того приговора, и из-за его оригинальности концовка этого приговора запечатлелась в моей памяти навсегда. Вот эта концовка: «…за перечисленные злодеяния приговаривается к высшей мере наказания — расстрелу. Но учитывая её моральное и физическое уродство, подлежит замене помазанием человеческими экскрементами»). Когда уже всё было приготовлено, записался на приём к врачу. И вот надзиратель открывает камеру, и Николай, прихватив с собой приговор, со спрятанной под мышкой кружкой со смесью кала, мочи и казеина, идёт к врачу, кабинет которой находится в этом же коридоре. Надзиратель остаётся в коридоре, а Николай заходит в кабинет. Зайдя, кладёт на стол перед врачихой приговор, выхватывает из-под мышки кружку, выливает ей на голову эту гадость и, бросившись к ней, втирает вылитое в волосы… Раздаётся неистовый крик. Сбегаются тюремщики. Избитого Николая отводят в камеру. Возбуждают уголовное дело. Суд. За хулиганский поступок дали 5 лет.
Борьба с администрацией с использованием эффективного оружия — экскрементов — была безопасной. За это под расстрел не подведут. Кашкет (расстрел Денисова) уже никто не сбивал и табуреткой никто не замахивался. Поэтому заключённые стали поливать тюремщиков экскрементами. Слышал, что полили и начальника Владимирской тюрьмы Завьялкина. Конечно, такими средствами борьбы могли пользоваться лишь те, кто считал, что цель оправдывает средства, даже если они крайне неэстетичны. Всё же насчёт поступка Николая, думаю, ему не следовало прибегать к такой мере. И не потому, что это была женщина, а потому, что как на питание, так и на лечение заключённых был установлен лимит. А потребность в лечении в тех условиях, видимо, была у многих заключённых, и врач не мог должным образом пролечить больного. А ещё этот Николай проявил себя, также оригинально, в помощи бывшему полицаю, о котором я упоминал, — Владимиру. Тому полицаю уже не хотелось дальше терпеть муки, и он решил покончить с жизнью, о чём и заявил сокамерникам. Решил вешаться. Николай и говорит ему:
— Ну, что ж, давай я тебе помогу.
Взялись вдвоём плести из какого-то материала верёвку. Когда верёвка была уже готова, Николай сел на свою койку, а Владимир, закрепив верёвку на вешалке, просунул в петлю голову и в конвульсиях задёргал ногами. Николай сидел и наблюдал за конвульсиями. А другие заключённые — кто отвернулся, а кто, сидя на койке, накрыл голову одеялом. Когда конвульсии прекратились, Николай подошёл, проверил пульс и снова сел на койку. А тут надзиратель разносит газеты и, открыв кормушку, смотрит на койки и не видит пятого заключённого. Тогда он прислоняется к кормушке, заглядывает в углы камеры и, увидев, что пятый висит на вешалке, поднимает тревогу. Сразу же сбегаются тюремщики, открывают камеру и вынимают Владимира из петли. Прибегает и врач. Владимира относят в больницу. Его спасли. О том, как всё происходило, мне рассказывали не только те, кто был свидетелем того события, но и сам Николай. Рассказав, Николай говорит мне: «Ещё бы немножко, и он был бы готов. И надо же, чтобы такое случилось! — появился надзиратель с газетами». А насчёт помощи Николай сказал так: «Раз человек решил покончить с жизнью, то почему бы не помочь ему». Может и так. Почему бы не помочь? Кстати, Николай не был каким-то там дебилом. Он и языки изучал. Овладел немецким, в какой-то мере французским и испанским. Английский принципиально не изучал. Он почему-то недолюбливал англичан. Интересовался и философией ницшеанского направления. И довольно глубоко проник в суть этой философии. («Падающего — подтолкни». С этим можно было бы согласиться, если бы было доказано, что есть смысл в существовании здорового). Рассказывал, что даже приходилось угождать Вандакурову, знатоку философии, чтобы тот читал ему лекции по философии. (Вандакуров — русский, студент, арестованный где-то в середине 50-х годов. Во второй половине 50-х совершил с каким-то заключённым удачный побег из 7-го лагеря — выехали из промзоны в вагоне. Где-то примерно через год был задержан).
Экстравагантной личностью был Николай Мартатьян. И в мир иной отошёл экстравагантно: по освобождении поселился в селе Ольшанка Чудновского района. У него был пёс. Умер в 2008 году. По сообщению местной журналистки и поэтессы Аллы Роль, согласно завещанию, похоронен на старом кладбище рядом со своей собакой.
Почти у всех тех бытовиков не всё было в порядке с психикой, а потому и уродовали своё лицо татуировками, и металлические предметы проглатывали — черенки от ложек. Любители черенков: Шапиро, Тарасов Алексей, Мусатов Павел — по нескольку раз проглатывали обломки ложек. Был и рекордсмен, фамилии которого не помню, но помню, что ему Бутова девять раз вспарывала живот и доставала из желудка то, что он проглатывал. И глотали, как правило, совершенно беспричинно. Вот, бывало, утром встаёшь с койки, а сокамерник уже на ногах. Похлопывая себя по животу, говорит тебе: «Посидит!» И добавляет: «Пойду на больничку, полежу, сухариков принесу». Это дословно из сказанного Тарасовым. Да если бы хоть там долго держали, а то ведь ещё швы не сняли, а он уже снова с тобой в камере. Проходит какое-то время — и снова глотает.
Был там ещё один экземпляр — Николай Кукушкин. Он из послевоенных беспризорников. По нему видно, что в жизни ему досталось. От уголков рта тянутся два давних шрама. Видимо, это ему когда-то разорвали рот. И руки в шрамах. О шрамах от уголков рта он ничего не рассказывал, а насчёт руки говорил, что это он сам у локтя надрезал вокруг кожу и стянул как чулок до кисти руки. Для чего так было издеваться над собой — непонятно. А раньше этот Николай занимался и литературным творчеством, показывал мне небольшой сборник, скорее всего, автобиографических рассказов, и рецензию на них какого-то литератора, который указывал на ряд несовершенств в его творениях. Мне запомнился лишь фрагмент одного из рассказов, в котором описывается, как подросток тайком покидает дом, залезает в вагон поезда, в котором полно всяких людей с узлами. Он голоден, но ему удаётся вытащить у какой-то старушки из мешка кольцо колбасы. Досыта наевшись, в приподнятом настроении, он бормочет себе: «Стучат по рельсам колесы, а я полопал колбасы».
Как я уже рассказывал, среди этих заключённых были и те, кто попал во Владимирскую тюрьму за татуировки. Были и помилованные. Из тех, кого помиловали, во Владимирской тюрьме выделился лишь Василий Черников, который повторно нанёс себе антисоветскую татуировку. Черников родился где-то в середине 30-х. В начале 60-х участвовал в ограблении магазина. Получил 10 лет. В лагере нанёс себе татуировку «Раб КПСС». Суд вынес смертную казнь. Помиловали, заменив 15-ю годами особого режима. В 1964 году он прибыл во Владимир. Осенью 66-го сидел в камере, в которой и я был с латышом. Почему-то повздорил с сокамерниками и перешёл в другую камеру. Вскоре узнаём, что Черников снова нанёс себе антисоветскую татуировку. А в начале 1967 года — суд. Расстрел. Меня почему-то вызвали на это «заседание суда», которое проходило в том же здании, где судили и меня. Более того, вызвали по требованию самого Черникова. Но что я мог сказать, если не был свидетелем? И чем мог помочь, зная, что за повторную татуировку смертного приговора ему уже не миновать. Оставалось лишь одно. И я сказал:
— Считаю, что этот человек психически ненормальный. Если вы его расстреляете, то будете за это отвечать.
Судье не понравилось, что какой-то зэк в полосатом угрожает ему ответственностью, а потому он сразу же прервал моё выступление, грубо скомандовав:
— Уведите!
Я стоял у дверей, а рядом стояло ограждение, в котором сидел Черников. Я лишь успел сказать Черникову «Прощай!» — и оказался за дверью. Моё заявление, как и раскаяние Черникова в своём поступке, ему не помогли. Где-то посреди весны из тюремных репродукторов прозвучало: «Нет больше Черникова!». В голосе замполита чувствовалось удовлетворение случившимся.
Вот такие были полосатые заключённые, которые прибыли тогда во Владимирскую тюрьму из уголовных лагерей по политической статье. И когда ты остаёшься один среди них, то чувствуешь себя как в зверинце. Особенно если тебе впервые пришлось с ними сойтись. Помню содержание копии заявления Генеральному прокурору известного диссидента Валентина Мороза, который уже позже сидел с ними; копию этого заявления он передал на 10-й. Он писал, что уже четвёртые сутки не спит, просил, чтобы перевели в одиночную камеру.
Как-то, когда я был один среди них, зашла в камеру Бутова. Она взглянула на них, на меня и говорит:
— Как вы это выдерживаете?
— Ничего! Всё нормально, — говорю ей на это.
Да, тяжело с ними сидеть. Даже если кто-то из них и овладел каким-то направлением в философии или что-то пишет. Правда, лишнего они себе ничего не позволяли в моём присутствии, и всё же — ты среди зверья. Были среди них и такие, с которыми можно было сидеть, нормально себя чувствовать, общаясь с ними. Это тот же Павел Мусатов (я даже не знаю, был ли он из бытовиков, потому что в лагере для политзаключённых (штрафном) он сидел ещё в 50-х годах), Тарасов, Сергей Цветков. Но с ними не приходилось долго сидеть в одной камере. Бывали и конфликты в камерах. И до незначительных драк иногда доходило. Что касается меня, то я старался вести себя таким образом, чтобы не доходило до крайностей. К тому же физически равного мне среди них не было. И всё же эти люди (уголовные) в целом были мне ближе, чем те, что на воле, на которых и держалась коммунистическая система. Мне был ближе тот, кто с наступлением ночи шёл воровать, грабить, а не к станку во вторую смену.
Долго быть одному в среде бытовиков мне не пришлось. Уже где-то перед новым годом — 1967-м — отсидев отведённый срок строгого тюремного режима, ко мне в камеру перевели Ивана Лащука. Он из 11-го лагеря. Проявил там какое-то неповиновение администрации. Его судили (обвинили в хулиганстве), добавили три года, из них первые три года на тюремном заключении. Изменили ему и режим. Теперь он заключённый особого режима — особо опасный рецидивист. Иван выглядит очень измученным. Ничего удивительного. Ведь месяц отбывал на пониженном питании и месяцы на строгом режиме содержания. Он родом со Львовщины. После войны учился во Львове в медицинском техникуме на фельдшера. Из техникума ушёл в подполье. Незадолго до ареста у кого-то скрывался. Более того, его выдали. Пробовал вырваться из окружения, отстреливаясь из автомата. Взяли тяжелораненым. На теле остались большие шрамы от пулевых ранений навылет. Дали 25 лет. Долгое время нам удавалось сидеть в тройнике. Третьим в камере был кто-то из бытовиков. Дольше всех с нами был Тарасов. Иван был не из разговорчивых. Чувствовалось, что он уже от всего очень устал. Много времени мы проводили за шахматами. В тройнике нам было намного лучше, потому что там нет стола посередине камеры. Так что и прогуливаться было где. И в камере трое, а не пятеро. Но через какое-то время нас оттуда вытурили. В камерах вместо параш устанавливали унитазы, а потому нас перевели в другую камеру. Это уже было где-то в сентябре. С Иваном я пробыл в одной камере почти до окончания тюремного заключения. Мой тюремный срок подходил к концу. За этот срок я лишь два раза побывал в карцере по 10 суток. Старался обойти его, но не удалось. Один раз отсидел за то, что зимой не вышел на прогулку, а второй — за то, что добивался возвращения в тройник. Это мне не удалось, но побывать в карцере пришлось. Ларьком я не пользовался. Сидел на одной пайке. Да и денег у меня не было, но я не хотел получать от кого-либо какую-то помощь. Ни с кем и не переписывался. Родители разыскали меня, присылали периодически посылки, но я отказывался их получать, и посылки отправляли назад. И не брал ни у кого ничего. Даже после выхода из карцера, хотя меня упрашивали взять хотя бы кусок хлеба. Так что я сам себе создал режим. А что?! Тот монах, что замуровал себя в келье, мог создать себе режим. Так почему не могу создать и я себе?! Разница была в том, что он был с Богом, а я с Пустотой.
Досиживал свой тюремный срок в камере, в которой сидел Шустов — политзаключённый, прибывший летом с 10-го. Он был моим ровесником, родом из Перми. А вот за что «залетел», вылетело из памяти. Кроме Шустова в камере было ещё трое заключённых (бытовиков), которые прибыли также с 10-го. Рассказали мне, что то ли летом, то ли уже осенью (1967 г.) на 10-м покончил с жизнью один из заключённых. Он вылез на крышу цеха, подошёл к проводам высокого напряжения, которые от высоковольтной линии подходили к карнизу цеха, нагнувшись, взялся за провода и факелом полетел вниз. (Недавно я пробовал выяснить что-то о том заключённом. Обратился к Игорю Кичаку, но он лишь не совсем уверенно сообщил, что это был студент из Ленинграда, который незадолго до этого прибыл в лагерь. А фамилия его была русская). Из этой камеры меня забрали на этап в конце января 1968 года.
Я возвращался в Мордовию на 10-й. Снова пошли знакомые пересылки. Горьковская запомнилась тем, что после Владимирской тюрьмы меня впервые досыта накормили. Кроме большой пайки хлеба, раздатчик подал мне большую миску ухи, в которой была почти одна рыба. Не думаю, что и другим тогда давали такую большую миску. Наверное, дали потому, что в камере я был один, к тому же в полосатой одежде, которая вместе с моим измождённым видом свидетельствовала, что я прибыл из тюремного заключения. На пересылках я собирал в большую сумку оставленные куски хлеба — думал, что в лагере так же, как и раньше. Мне хотелось хоть что-то привезти, угостить хотя бы куском хлеба, потому что знал, какую он там имеет цену. Но когда приехал, то увидел, что положение стало лучше. В ларьке, как и раньше, продуктов не продавали, но на тяжёлых и вредных работах стали давать дополнительное питание. Хлебом делились, и его стало хватать всем. Так что собранный хлеб не пригодился, и я отдал его коню, который был при обслуге лагеря.
По прибытии в лагерь меня поместили в новом корпусе (бараке) в камеру, в которой кроме других сидели мои знакомые Григорий Бухта и Николай Кончаковский. Бухта, если не ошибаюсь, проживал на территории Белоруссии, фронтовик, дошёл до Берлина. А вернувшись домой, стал помогать уповцам. Его арестовали и дали 10 лет. Но в лагере снова суд. Получил уже 25 лет. У Кончаковского тоже 25 лет. Он со Львовщины. История его жизни довольно интересная. Перед Второй мировой войной он служил в польской армии. Во время войны попал в плен к немцам. Когда началась война между немцами и советами, ушёл в подполье, со временем в УПА. За участие в УПА получил 25 лет, а в первой половине 60-х годов (Мордовия) снова суд. Ему сфабриковали какое-то бытовое дело и добавили к неотсиженному сроку 5 лет. А так как это уже была вторая судимость, то был признан особо опасным рецидивистом и переведён в лагерь особого режима — 10-й. (Кончаковский освободился в октябре 1978 г. Вернулся в своё село Рудники Николаевского района, в котором не был с 1939 г. Через месяц умер).
В камере среди других были Максим Шевцов и Иван Сак. Шевцов недавно прибыл в лагерь из-под «вышака» — камеры смертников. Он с востока. Служил в немецкой полиции начальником какого-то там нижнего звена. Согласно приговору, застрелил одного из жителей села, которого обвинял в убийстве односельчанки. Расстрел заменили 15-ю годами особого режима.
Ну, а Сак из Сумской области. Он прибыл из уголовного лагеря, хотя в нём никаких черт, свойственных уголовнику. Он интересуется политикой, философией. Правда, целиком пребывает в плену идей Маркса, враждебно настроен к частной собственности, а потому его воспринимают как марксиста и относятся к нему как к представителю враждебной идеологии.
В камере, как и в других камерах, уже было свободнее, потому что за это время часть заключённых была переведена судом в лагеря строгого режима. А какая-то часть освободилась по окончании срока. Нет уже в лагере и Сашка Чугая — перевели на строгий в 11-й. (Где-то в 68-м или 69-м, как рассказал мне Анатолий Шевчук, который в то время сидел с Сашком в одном лагере, Чугай освободился. Ехать ему было некуда. Наверное, как бандеровцу, возвращаться в Западную Украину ему не разрешили, а потому Владимир Гринь направил Сашка в Верхне- или Нижне-Стеблиевскую станицу на Кубани, к своей матери, у которой он какое-то время проживал, пока не нашёл себе пристанище. Долго на Кубани ему не пришлось быть, потому что через какое-то время Александра арестовали и, обвинив в убийстве какой-то женщины, расстреляли. Так трагически закончилась жизнь Александра Чугая).
Спрашиваю у сокамерников о слухах насчёт намерения Хрущёва ликвидировать заключённых особого режима.
— Да, о таком говорили вольнонаёмные. Они говорили, что уже и траншея была вырыта бульдозером в лесу, — говорят мне. Но правда это или нет — неизвестно. Хотя вполне возможно, что Хрущёв не собирался вступать в коммунизм (о котором он провозгласил) с теми, кто не подлежал исправлению — особо опасными рецидивистами. Возможно, и планировал провести очередную чистку советского общества.
Меня направили в новопостроенный цех. Этот цех является филиалом Московского автозавода: выпускает переднюю балку и запчасти к автомобилю «Москвич». Основная масса заключённых задействована в новопостроенном цеху. Работают в две смены. Другие заключённые, как и раньше, шьют рукавицы — также в две смены. За зону никого не выводят. Заключённые уже имеют более полный вид. Не такие заморенные, как в 64-м году. Они уже несколько веселее. Всё-таки дополнительный паёк дал положительные результаты.
Выйдя в промзону, встретился с Василием Пугачом, который, как он сказал мне, уже с нетерпением ждал моего возвращения из тюрьмы. Василий работает в цеху, вывозит тачкой отходы от металлообрабатывающих станков и малых прессов. Работа у Василия не тяжёлая. И, как оказывается, мне повезло — напарник Василия перешёл на другую работу, и я могу занять его место и получать добавку к пайку. А это дополнительные 300 г хлеба, двойная порция сахара и, видимо, граммов 30 жира. Как же не согласиться! Я принимаю предложение Василия, ведь это одно из лучших рабочих мест в цеху, к тому же много свободного времени. Это не пресс, у которого как на привязи и на котором кисть руки можно потерять.
В первый же день встречи Василий спрашивает меня:
— Так какие у тебя планы?
— Бежать, — говорю Василию.
— Я так и думал, — произнёс Василий с сияющим от радости лицом.
Василий знакомит меня с Виктором Андреевым, который, как и мы, вывозит отходы, но от больших прессов. У него, как и у Василия, срок 25 лет. Андреев — полицай из Белоруссии. В 1961 году он совершил побег из 11-го (ремонтировал за зоной с группой заключённых дом какого-то офицера. Накрапывал дождь. Андреев снял с вешалки его плащ и кашкет, надел и пошёл к выходу за зону оцепления. Своей внешностью он соответствовал тому офицеру, а потому часовой принял его за офицера, проживавшего в доме. Таким образом Андреев оказался в лесу). Солдаты обнаружили Андреева в стоге сена и так избили, что он и во Владимире ещё харкал кровью. Василий с Андреевым намеревались совершить побег, но, как Василий объяснил, не могли ничего придумать. Когда мы сошлись все трое в васильевом углу, оборудованном для отдыха, и каждый сказал о своём решении бежать, Василий, взяв в руки нож, сказал:
— Того, кто предаст, ждёт нож.
Меня удивил этот спектакль. Зачем?! Ведь среди нас не может быть предателя. Наверное, Василий уже впадает в маразм. Но если он так хочет, то пусть так и будет, — подумал я и сказал:
— Согласен.
Андреев несколько неохотно, но также примкнул к такому решению. Видимо, и ему это не по душе. Мы стали обдумывать, как осуществить побег. Стали и готовиться к побегу. Так что каждый сделал себе хороший нож. А я изготовил и по компасу для каждого, чтобы можно было двигаться ночью или в непогоду. Решили делать подкоп от ящиков с отходами. Подготовка заняла много времени. Да ещё и меня то и дело сажают в ШИЗО на 15 суток. И то как не за какую-нибудь мелочь, так тогда, когда при мне есть что-то из того, что может выявить подготовку к побегу. Приходится убегать от надзирателя. А надзиратель подаёт рапорт — и ты в ШИЗО. Всё-таки пришли к выводу, что подкоп от ящиков нам не сделать. А время шло. Уже осень 1969 года, а мы так и не можем выбраться из лагеря. Предлагаю делать подкоп от кузницы из-под двух металлических ящиков, ёмкостью по 3 куба, которые уже с месяц лежат перевёрнутые вверх дном. И копать тут недалеко. Соглашаются. Приступаем к работе: Андреев с Пугачом на «атасе», а я копаю лаз под ящик. На второй день я уже под ящиком выкопал яму и стал копать в сторону запретки. Но тут несколько ударов по ящику, которые означали: «Выскакивай из ящика и беги!». Я не выскочил. Подумал: может, что-то перепутали с количеством ударов по ящику. Сижу. Жду, чем это закончится. Ведь если и выскочу, то меня узнают. Далеко не убегу. И вот снова: «тук-тук!». Сигнал означает: «Никого нет, вылезай!». Вылез и спрашиваю, почему был подан сигнал тревоги.
— Я перепутал, — говорит Андреев.
Ну что ж, и такое может быть, подумалось мне.
На другой день вышел на работу и вижу, что ящиков уже нет, а на их месте лишь горстка земли. Проанализировав всё, пришёл к выводу: кто-то «сдаёт». Подозрение падает на Пугача. С самого начала он и ведёт себя не так, как тогда, в 64-м. Иногда у него и чай появляется. Он почему-то и сидит в камере с бытовиками. И Андреев в Пугаче уже в чём-то не уверен. Имеет сомнения и Тимур, потому что когда в середине 60-х Василий отошёл от подготовки к побегу, и Тимур стал готовиться к побегу вместе с другими заключёнными, то Василий, узнав об этом, дал Тимуру пинка, считая, что Тимур не имел права так действовать, потому что могли бы заподозрить, что и он, Василий, собирается совершить побег. Обдумав всё, я предложил Андрееву ничего не говорить Пугачу, общаться с ним как и раньше, а за его спиной готовиться к побегу. Вскоре я обратил внимание, что уже несколько раз перед тем, как локомотив должен зайти в промзону за вагоном, загруженным металлическими отходами (это происходило через два-три месяца), надзиратель залезает на вагон, а заключённых, пересчитав, отпускают. Так что возникла возможность подойти к вагону, обложенному вокруг большими пустыми ящиками, и залезть в вагон, в котором над люком пульмана был бы сооружён тайник. Способов проникнуть в тайник было два: первый — это сделать лаз к этому тайнику. А второй — двое заключённых должны подойти и закрыть за нами люк. Андреев согласился с первым вариантом. Наконец подают вагон под загрузку. Я лезу в вагон, выпиливаю против металлических стоек вагона три доски, закрепляю их между собой, прикрутив с одной стороны петли. Лаз готов. А в ящике с металлическими отходами уже лежат заготовленные двое крепких козел с перекрытием. Я с Андреевым у вагона, ждём автокран. И тут (чего никогда не бывало) к вагону подходит начальник лагеря в сопровождении кого-то из администрации (начальник лагеря в 64-м был начальником оперативной части — опером, «кум» по-лагерному). Подойдя, заглядывает через щель в вагон, улыбаясь при этом. Андреев занервничал. Когда начальник отошёл, Андреев говорит мне:
— Всё! Ты как хочешь, а я больше ничего не буду делать.
Прибывает автокран, и мы загружаем вагон (Пугача тогда не было). А вагон забирают не днём, а ночью. Проходит недели две. Выйдя на работу, узнал, что до выхода заключённых на работу в промзоне провели обыск и в огромной куче отходов из паронита (на прессах вырубали паронитовые прокладки) нашли бачок, в котором был комбинезон. Об этом бачке с тёмно-синим комбинезоном, спичками, куском резины и перевязочным материалом, который лежал в отходах уже несколько месяцев, знал лишь Андреев. (У меня был ещё вариант: в подходящую погоду попробовать незаметно пробраться к забору запретки — на определённом расстоянии солдат с вышки через внутренний проволочный козырёк над забором мог бы и не заметить, — оторвать внизу пару досок и вылезти наружу). Всё ясно. А Пугач нервничает. Когда внезапно подхожу к нему в глухом углу, вздрагивает. А чего?! Если твоей вины нет, то кто тебя будет резать?! (Он уже знает, что я подозреваю его в предательстве). Мы уже почти не общались. А когда я снова спросил его об Андрееве, то Пугач мне говорит: Андреев ещё во Владимире дал подписку о сотрудничестве. Я не среагировал на это сообщение. Лишь подумал: «Дурак! Так с кем ты меня знакомил?!» Казалось бы, Василий должен был бы что-то делать, чтобы снять с себя подозрение. Но вместо того, чтобы снова собраться втроём и всё обсудить, Василий, будто ничего не случилось, встречается с Андреевым, и они о чём-то беседуют. А шёл уже 1970 год.
Вернувшись на 10-й, я общался не только с теми, с которыми собирался совершать побег. Общался я со многими заключёнными, в том числе со Свидетелями Иеговы, которых решил использовать для прикрытия. Пусть, думал я, администрация лагеря считает, что Бабич уже думает не о побеге, а лишь о Боге. Стал у них даже книжечки брать. Это такие, изготовленные из полутора-двух десятков листочков размером с пол-ладони, исписанных очень мелким почерком. То были материалы из Библии и из журнала «Сторожевая башня». Свидетели Иеговы были из разных республик, но больше всего среди них было украинцев. Были и те, кто принимал участие в вооружённой борьбе, а уже в лагерях примкнули к Свидетелям Иеговы и за это даже получили дополнительные сроки заключения. А это Скрипчук Константин с Буковины и Стойко Илья из Бучача. У них по 25 лет заключения. Скрипчук был в УПА пулемётчиком, а Стойко — участником аттентата на какого-то там палача из НКВД. А было так: узнав, что должен прибыть из райцентра один из руководителей НКВД, прославившийся своей жестокостью не только в отношении участников подполья, но и к непричастным к активной борьбе, двое юношей, одним из которых был Стойко, надели солдатскую униформу, пришли в клуб, в котором будет проходить собрание жителей села. Их пропускают в клуб. Юноши сели на переднюю скамью. А перед ними, за столом, застеленным материей красного цвета, восседал президиум во главе с тем палачом. Юноши выхватывают пистолеты и расстреливают энкавэдэшника. Их судили. Напарнику, если не ошибаюсь, дали расстрел. А каким образом удалось спастись Стойко, уже не помню.
Из всех Свидетелей Иеговы я больше всего общался со Стойко. Даже тогда, когда он понял, что книжечки, которые я беру у него, являются моим прикрытием, мы продолжали общаться, обмениваясь мыслями о религиях, о духовной сфере, о бытии вообще. Стойко был из тех верующих, которые глубоко проникали в суть вещей, а потому нам не трудно было понять друг друга. В некоторых вопросах мы придерживались и одного мнения. Дискутировал я и со своими сокамерниками-иеговистами, также украинцами. В камере основным моим оппонентом был Антон. Но он не очень мудрил. Когда не хватало весомого аргумента, то он заявлял: «В тебе сидит дьявол». И на этом дискуссия с иеговистами заканчивалась.
Что ж, раз затронул сектантскую тему, то продолжу этот рассказ. Были в лагере верующие и других сект. Среди них выделялись Ершов и Калинин, которые создали Братство «Истинно-православная церковь», ИПЦ. Было ещё двое русских, которые настолько не воспринимали сатанинскую российскую империю — СССР, что в своей молитве, прося погибели СССР, один из них несколько раз повторял фразу: «Китай набирает силы», «Китай набирает силы», а второй, уже совсем старый (будучи зэком, строил Беломорский канал), говорил: «Стопудовым молотом по голове…». Молотом, видимо, потому, что был кузнецом. Сектанты вели проповедническую деятельность, но лишь Свидетелям Иеговы иногда удавалось привлечь кого-то из зэков к своему вероучению, и то — из бытовиков. Был там один из привлечённых. Его звали Саня. Этому Сане во время работы на прессе отрубило кисть руки, и он надеялся, что после Армагеддона, которого иеговисты ждали в 1975 году, он, как Свидетель Иеговы, спасётся, а кисть руки у него отрастёт. Он ещё питал надежду, но говорил мне: «Если в 75-м Армагеддона не будет, то я иду в твою банду». В 1975-м Армагеддон не состоялся, так что Саня, видимо, вышел из секты иеговистов.
Кроме тех, что поклонялись Иисусу, был один (из бытовиков), который почитал старшего сына иудейского Бога — Люцифера. У него и кличка была «Люцифер». А потому все знали его не по фамилии или имени, а по кличке. Как-то, увидев на его груди дощечку на шнурке, на которой был нарисован человек с рожками и хвостом, я заинтересовался его отношением к Люциферу и его видением этого библейского персонажа. Выяснилось — ничего оригинального. Тогда я предлагаю ему идею: носить Люцифера не на дощечке, а распятым на кресте, объяснив при этом, что не Иисус распят — обречён на смерть. Распят Люцифер, который, став почти наравне со своим отцом — Богом, захотел отойти от отца, иметь свою вотчину, быть независимым от отца. Отцу это не понравилось, и он обрёк его на смерть. А младшего сына, Иисуса, — никто не убивал. Да, Иисуса распяли. Но его убили бы в том случае, если бы он был всего лишь человеком, а не Сыном Божьим. Тогда ему можно было бы и посочувствовать. Если же он был Сыном Божьим и перевоплотился в человека, чтобы пообщаться с людьми, то разве он собирался навсегда оставаться с людьми — быть в оболочке Человека?! Ведь если бы человек мог перевоплощаться в другое существо, то, пожелав пообщаться, например, с муравьями, не остался бы навсегда в муравейнике. Без сомнения, человек захотел бы вернуться назад к людям. Но для этого нужно содрать ту оболочку, в которой ты находишься, — нужно, чтобы тот муравей умер. Сын Божий и проходил через эту необходимую процедуру — сдирал с себя человеческую оболочку. (Не понятно лишь, для чего он забрал её с собой на небо). Да, это было болезненно, как любая операция без наркоза. Но ведь это была не смерть, а через эту процедуру возвращение к себе подобным — к богам. Так что нужно не оплакивать Сына Божьего — Иисуса, а радоваться, что его распяли — помогли вернуться к своему Отцу. Сочувствовать нужно не Иисусу, а обречённому на смерть старшему сыну Бога — Люциферу. Моё объяснение и идея пришлись по душе «Люциферу»: через какое-то время, встретившись со мной, он обнажает грудь и показывает мне искусно сделанный крест с распятым на нём Люцифером.
В 1969 году у меня было свидание с отцом. Это было тогда, когда американские астронавты летели к Луне. Я был в промзоне. И тут подходит надзиратель и говорит мне, что приехал отец. Ну, что ж — надо идти. (А где-то за месяц до этого кто-то из заключённых подошёл ко мне и говорит:
— Там у цеха какие-то двое военных хотят с тобой повидаться.
Я выхожу из цеха. У входа стоят двое военных. Один из них, капитан, спрашивает меня:
— Узнаёшь?
Скорее всего, что при других обстоятельствах в этом коренастом капитане я и не узнал бы Сусловца. Я сперва узнал его по голосу. Глянул на него, сказал: «Узнаю», развернулся и вернулся в цех. Мне с ним не о чем было говорить.) Я зашёл на вахту. Отец уже сидел в комнате для краткосрочных свиданий. Мы поздоровались — так, будто всего с неделю не виделись. Сидим на скамьях несколько наискось друг против друга, на расстоянии метра полтора, и беседуем.
— Почему не пишешь? — спрашивает отец. — Мы тебя разыскивали. Сусловца, когда приезжал, просили, чтобы выяснил, есть ли ты в лагере.
Хотя я и не очень расспрашиваю, отец рассказывает о братьях, сёстрах, кто из них где проживает, кто из них уже имеет свою семью. Так за тихим разговором пробежал где-то час. Отцу уже надо идти. Можно было бы ещё какое-то время пообщаться, но надо не опоздать на поезд, чтобы добраться до Потьмы. Да и говорить фактически уже было не о чем, ведь та жизнь, которой жили мои родные, знакомые, село — была для меня не интересной. А вообще, что могло меня интересовать?! Поднимаясь со скамьи, отец уже в который раз просит надзирателя, который сидит неподалёку от нас, разрешить передать мне продукты, которые он привёз для меня.
— Нет, нельзя, — повторяет своё надзиратель.
Я кладу в карман что-то там из разрешённого, а отец берёт сумку и выходит из комнаты.
Объём изготовления продукции на прессах постепенно сокращался. С Пугачом я уже не работал. Из Владимира прибыл Иван Лащук, и какое-то время подвозил с ним к фрезерному станку чугунные заготовки, а потом пошёл в помощники к Роману (иеговисту), который ремонтировал штампы. О, эти штампы!.. Не одного сделали они калекой. На прессах увечье получили не менее полдесятка заключённых. Лишился трёх пальцев и части ладони и Иван Сак. Малые прессы, которые работали в быстром автоматическом режиме, были очень опасными. Стоило чуть-чуть замешкаться, как твои пальцы, а то и кисть руки, уже на штампе в виде тоненького лоскутка, в котором лишь ногти выдают его принадлежность.
А заключённых на 10-м всё меньше. В старом бараке уже никого нет. По окончании срока вышел на волю и Жогло. Но домой не прибыл. Родители его разыскивали, писали об этом кому-то из его приятелей в лагерь, но так и осталось неизвестным, куда он делся. Некоторые из тех, кто знал его прошлое, подозревали, что по дороге домой он был убит. Заподозрили в этом отца одного из заключённых, который был убит где-то в начале 50-х годов. А убит тот заключённый был за то, что был стукачом. Какое именно участие в этом убийстве принимал Жогло (в отличие от других, его не расстреляли), я уже не помню. Но помню, что отец того заключённого занимал, кажется в НКВД, какую-то довольно высокую должность. После суда, он сказал Жогло:
— Я тебе этого не прощу.
Некоторым из тех, у кого 25-летний срок, снизили до 15-ти. Администрация лагеря направила в суд ходатайство на снижение срока и В. Пугачу и В. Андрееву. Об этом стало известно уже тогда, когда в лагерь прибыл суд и, рассмотрев их дела, ходатайство в отношении Пугача удовлетворил, а Андрееву — отказал. Пугачу до выхода на волю остаются месяцы. Так что заключённые освобождались, а прибывало мало.
Среди тех, кто прибыл в лагерь, есть и наша знаменитость — Костя Диденко. Он родом из Каменца-Подольского. Срочную службу проходил на Черноморском флоте. Когда в 1967 году эскадра находилась в Средиземном море, он создал группу по захвату корабля, на котором служил. Корабль (тральщик) стоял ночью неподалёку от острова Мальта. Подготовившись к захвату, Диденко взял с собой одного из группы и пошёл в каюту капитана. В этот момент напарник (испугавшись возможных последствий) ударил его по голове прикладом автомата. Диденко прыгнул в море, надеясь доплыть до острова. Но на кораблях эскадры сразу же была поднята тревога, и его выловили из моря. Суд. Диденко дали расстрел, который по помилованию заменили 15-ю годами особого режима. (Диденко отсидел срок. Погиб в ноябре 1989 года — разбился на мотоцикле).
Прибыл в лагерь и Жерноклеев, который во время войны был в какой-то карательной команде. Его судили с группой этих карателей. Всем дали расстрел. Но Жерноклееву повезло. Продержав год в камере смертников, ему заменили расстрел 15-ю годами особого режима. Когда он прибыл, то лицо у него было землисто-жёлтое, как у мертвеца. Жерноклеев после войны в 40-х годах учительствовал в моём селе, а потом, каким-то образом оказался в Житомирском облоно на должности инспектора. Приезжал и в Рогачев, где у него были любовницы.
Не помню, откуда он был родом, но я был удивлён его осведомлённостью об истории села Рогачева, панского имения и Барановского района вообще. Не знаю, насколько это правда, но вот такой рассказ Жерноклеева о владельце того имения Воловнике.
В начале 20-го века, где-то во время революционных событий 1905 года, Воловник получает известие, что в Санкт-Петербурге его сына-эсера приговорили к смертной казни, и приговор должен быть исполнен такого-то числа. Воловник знал, в какие дни идёт поезд через Полонное до Санкт-Петербурга. Чтобы успеть к казни в Санкт-Петербург, ему необходимо было сесть на первый поезд. Он хватает все свои сбережения, вскакивает в бричку и мчится в Полонное. Лошадей он загнал, но успел вскочить в поезд. Прибыв в Санкт-Петербург, подкупает кого-то из тех, кто мог выручить, и вместо сына вешают кого-то другого. А сына Воловник отправляет за границу.
(Уже в 2010 году, будучи в Барановке у сестры жены брата Татьяны — Нины, рассказывал что-то из истории Барановки, услышанной от Жерноклеева.
— Так ты с ним сидел? Так он же из Барановки, — говорит Нина и рассказывает о Жерноклееве.
Оказывается, отсидев свои 15 лет, он прибыл в Барановку. Хотел вернуться в семью (семья не знала о его прошлом во время войны). Но жена и дети отказались его принять. Он там где-то покрутился какое-то время и, ненужный никому, покончил с жизнью — повесился).
Работа у меня была не обременительная. К тому же я имел много свободного времени. Штампы были исправны, и бывало, что по нескольку дней подряд не приступал к работе. Имели довольно много свободного времени и Игорь Кичак, Дмитрий Синяк и Николай Евграфов по кличке «Анархист». У нас и своя кабинка была — пристройка к бывшему швейному цеху, размером где-то в 5 квадратных метров. Вот, особенно зимой и в непогоду, мы там собирались и вели бесконечные дискуссии на разные темы. Бывало, так увлечёмся, доказывая друг другу что-то противоположное, что и в столовую приходим, когда уже все пообедали. Игорь отличался тем, что был очень быстроговорящим, строчил словами, как из пулемёта. Заводился и Евграфов. А вот Дмитрий в основном слушал нашу перепалку, улыбался и преимущественно поддерживал того, на кого насели двое. Игорь неплохо знал историю Украины. (Знатоки истории — это те, что носятся с давно минувшим, — как дурак с писаной торбой). А Николай отдавал предпочтение философии экзистенциализма. Он в совершенстве овладел этой философией и мог часами читать лекции о творчестве того или иного философа-экзистенциалиста. Он был экзистенциалистом. Поэтому его понимание и отношение к жизни во многих случаях совпадало с моим. Был он в восторге и от хиппи — молодёжного движения, которое охватило в те годы ряд стран, приобрело массовый характер. Он почему-то надеялся, что это движение, его массовость — навсегда. На что я, вникнув в суть этого движения, не раз говорил ему: эти молодые люди до первого дождя, намокнут и побегут под крышу родительского дома (что и случилось, ибо отказ от прелестей, аскетизм — для немногих). Николай был исключительным экземпляром. Родился в начале 30-х годов. Проживал в г. Славянске. (Это в том Славянске Донецкой области, в котором, согласно его рассказу, в 1947 году судили какую-то старушку, которая съела свою внучку). Официальное образование — начальное. Сидел в уголовных лагерях. В тех же лагерях, исповедуя анархизм, и получил кличку «Анархист». Прибыв на 10-й, примкнул к националистам, но фактически его философия не совсем согласовывалась с философией национализма, а потому считаю, что национализм у него был неглубоким. Он, видимо, стал националистом в силу сложившихся обстоятельств, из-за отсутствия анархистского движения. В душе он оставался анархистом. Сидя в одной камере, мы очень часто дискутировали. Бывало, он хватался за сердце и говорил:
— Ты меня специально заводишь.
Он был интересным собеседником. И, фактически, духовно был мне самым близким среди солагерников. «Анархист» выделялся своим мышлением среди окружающих. Что касается всех остальных, то их мышление было стереотипным. Оно хотя и было в яркой обёртке, но не близким мне.
Где-то в то время кто-то из украинцев передал Евграфову в камеру книгу Дзюбы «Интернационализм или русификация?». Я также немного полистал это произведение, но ничего достойного внимания в нём не нашёл. Даже не знаю, для чего эту книгу доставили в лагерь. Ведь о русификации, которая проводилась в Украине, украинцы 10-го знали ещё раньше Дзюбы, и он ничего нового не мог нам сказать. Ну, а насчёт количества школ, переведённых на русский язык, то что в таком сообщении может быть интересного?! Другое дело, если бы он сообщал, какое количество русскоязычных школ взлетело на воздух.
Общался я довольно часто с Олесем Водынюком. Родом он был со Львовщины, студент института. В конце 40-х уже сидел на Севере. Он был одним из организаторов подпольной организации в лагере, за что уже после освобождения получил новый срок и звание «особо опасный рецидивист». Также с Кириллом Банацким, с Ровенщины, судьба которого аналогична судьбе Водынюка. А ещё с Кончаковским и немного с Андреем Туриком. Турик до перевода на 10-й сидел на штрафном. Не знаю, как на 10-м, но на штрафном с группой заключённых собирался захватить вахту. Но заключённый, который был в этой группе, испугался (рассказывал мне), что их постреляют. И сделал так, чтобы Турик отказался от той затеи. Турик, узнав об этом, часто упрекал его. Ну, и с другими общался.
Что касается бытовиков, то хотя они были несколько перемешаны с нами по камерам, но они были в стороне от нас. Они общались между собой, а с нами, политзаключёнными, — в случае какой-то необходимости, в основном по работе, и если уже в одной камере. Была на 10-м и камера «для неприкасаемых» — пассивных гомосексуалистов. Это были те, о которых все знали и которые не скрывали своей принадлежности к «неприкасаемым». Экстравагантные были с ними истории. Вот, например, такие известные мне.
Выйдя на пенсию, начальником санчасти 10-го лагеря была Транина, которая до того была начальником лагерной больницы в Барашево. И вот, как рассказывал политзаключённый, который работал помощником в санчасти, заходит на приём к Траниной «Люба». А было это ещё до того, как стали давать дополнительный паёк. Зайдя, эта «Люба», которой уже было где-то под 50 лет, падает на колени и, обращаясь к Траниной, говорит:
— Ты женщина и я женщина! Ты должна меня понять: дай Валерке диету.
И что вы думаете, говорит этот помощник Траниной, — Транина дала Валере диету (диетическое питание сроком на один месяц). Транина была с причудами. Она, как рассказывали, и серёжки подарила одной из тех «Люб». Был и комичный случай с одной «Любой». Лето. В 17 часов заключённых снимают с промзоны. Одна из этих «Люб» не зашла в камеру, а раздевшись догола ходит между бараками. Когда уже всех заключённых позапирали в камерах, надзиратели стали загонять и «Машу» (или как её там?). Но она не хочет заходить и убегает от них. На подмогу надзирателям пришли офицеры. Все бегают за этой голой «Машей», а заключённые через окна смотрят на это зрелище. Наконец загнали они эту «Машу» за прогулочные дворики, окружили, ей некуда деваться, вот-вот схватят. Тогда она вскакивает в выгребную яму, наполненную фекалиями, вылезает из неё и бросается на преследователей. Все врозь! Бегут в сторону вахты, а «Маша» за ними. Из камер — гомерический хохот.
Или ещё такой случай. Заходит отрядный в камеру к этим «Любам», а там двое из них занимаются «любовью» (один из них сидит на другом). И хоть бы что, никакой реакции на отрядного. Отрядный возмутился, что на него не реагируют, и говорит:
— Наглец! Хотя бы слез. Отрядный же зашёл.
Оригинальные были сценки. За 13 лет пребывания в уголовных лагерях и тюрьмах УССР я подобного не слышал и не видел. Конечно, они (геи) были, но их поведение не бросалось в глаза.
Кстати, тот отрядный (лейтенант Пяткин), видимо, имел какие-то психические отклонения. Он закончил пединститут, но более того, был непригоден к преподавательской деятельности, и потому перешёл в МВД. Но злобным он не был. Старался объяснять, убеждать. Любил выступать с лекциями на политзанятиях. Вот как-то и я, чтобы не сидеть в камере, вышел на то политзанятие, которое проводилось в клубе… Отрядный стал рассказывать что-то там о Ленине. Что-то он там говорил-говорил о нём… И тут Зоричев, с которым я вот после ранения сидел в одной камере, встаёт со скамьи и говорит: «Я еб… твоего Ленина!» Отрядный замолчал. Потом с обидой в голосе, к Зоричеву: «Еб… Ленина, еб… Ленина! А ты его видел?!» В зале хохот. И ничего. Зоричев не был наказан.
Удивлял своими поступками и Парахневич, тот, который отрезал себе уши. В промзоне, увидев, что кот играет с недодушенной мышью, Парахневич схватил кота, забрал мышь, бросил её себе в рот и, пару раз проведя туда-сюда челюстями, — проглотил (я был одним из тех, кто наблюдал за этим безумием). А Брюховецкий (также из бытовиков, сидел и во Владимире) то ли действительно хотел себя сжечь, то ли, может, имел лишь намерение чего-то добиться у администрации лагеря, облил себя небольшим количеством бензина и поджёг. Его отправили в больницу в Барашево. В лагерь вернулся без руки по локоть.
Проходило лето 1970-го. Приближалось 1 сентября, на которое я уже давно наметил провести учебный урок — проучить тех, кто предал. И вот 1 сентября. Решил начинать с Василия. Выйдя в промзону, ищу его. У мойки встречаемся. Я подхожу, даю ему пощёчину, хватаю его, валю на пол лицом вверх и, изобразив разъярённый вид (я в значительной мере был вне эмоций, ибо эмоция — это из животного, а потому эмоцию приходилось изображать), делаю движение рукой, будто собираюсь что-то доставать из-за пояса, и одновременно спрашиваю:
— Ты с кем меня знакомил?!
— Сергей! Сергей! — кричит Василий.
Я отпускаю его и иду искать Андреева. В цеху Андреева нет. Я снова у мойки. И тут в распахнутых дверях появляется Андреев. Заходит в цех. Я иду навстречу. Подойдя, даю пощёчину. И моментально с его стороны летит в мою сторону кулак. Я даже удивился такой реакции. Ведь до последнего, в отличие от Василия, я делал вид, что ни в чём его не подозреваю. Увернувшись от его кулака, который был направлен мне в голову, я хватаю его левой рукой за правое плечо, разворачиваю, и он, потеряв равновесие, грохнулся спиной на бетонный пол всем своим ростом. Упав, переворачивается лицом вниз и лежит, прижавшись к полу. Я нагнулся, дал ладонью по уху и начал переворачивать. Но Андреев обхватил руками голову и не даётся перевернуть. И ни звука. Лишь прижимается к полу. Сделав пару безуспешных попыток перевернуть его, я ещё раз дал ладонью по голове и пошёл от него. Андрееву, как и Василию, уже под 50. Но он и выше меня, и в плечах шире. Он ещё довольно крепкий. И, видимо, я правильно сделал, что подключил к этому делу двух заключённых, которые своим присутствием, видимо, отбили у Андреева желание сопротивляться.
Пугача больше в цеху не видел. А к Андрееву ещё подошёл, когда тот сидел на скамейке за цехом. Кроме нас никого не было. Я подошёл и, сказав, что это ещё не всё, пошёл в цех. Ко мне подходит один из заключённых и говорит, что двое стукачей побежало к воротам в жилую зону, что один из них и через ворота перелез. Вскоре подходит надзиратель и забирает меня в жилую зону. Заводит в кабинет. В кабинете опер и режимник («режимник» — начальник режимной части). Сразу же допрос. Обвиняют в том, что я бил Пугача и Андреева.
— Вы что?! О чём вы говорите, это же мои друзья! — изобразив удивление, говорю им. Меня ведут во второй кабинет. В кабинете Пугач и Андреев. Спрашивают Андреева:
— Бил?
— Бил, — отвечает Андреев. — Вот и ухо рассёк, — показывает им ухо.
Спрашивают Пугача:
— Бил?
Пугач молчит.
— Так бил или не бил? — наступают на Пугача.
— Ну, он меня, я — его… Ничего серьёзного, — говорит, улыбаясь, Пугач.
Меня отводят в камеру, а где-то через час я уже сидел в ШИЗО. Дали 15 суток. Сижу один в камере. Камеры в ШИЗО на 10-м рассчитаны на одного заключённого, как карцер. Я в торцевой камере, окном на вахту. Знаю: через неделю у Пугача заканчивается срок заключения, и он будет проходить мимо моей камеры. Поглядываю в день его освобождения в окно. Вот и Пугач появился. Прошёл к вахте, но ни разу даже не оглянулся. Думаю, что если бы не был виноват, то должен был бы хотя бы оглянуться и обозвать меня дураком, добавив при этом, что он передо мной ни в чём не виноват. Я смотрел ему вслед и думал: наверное, всё-таки я неправильно поступил в отношении Василия. Он же тогда, в 64-м, не выдал мою подготовку к побегу. Если бы я тогда так по-дурацки не попался, то и не было бы у меня с ним повторной встречи, не было бы того, что случилось между нами. Наверное, всё-таки не стоило его унижать перед освобождением после стольких отсиженных лет. Ведь и вреда, фактически, мне не было причинено, хотя меня могли бы схватить, когда под ящиком рыл подкоп. А это уже было бы три дополнительных года и снова на три года во Владимир. Да, те частые ШИЗО, которые задерживали подготовку к побегу, ничто в сравнении с тем, что могло бы быть. (Мне как-то начальник лагеря сказал: «Да, ты много поработал». Думаю, что он мне всё-таки сочувствовал ещё с 64-го, когда был опером). То, что со мной не случилось чего-то худшего, видимо, является результатом того, что Пугач и Андреев договорились с администрацией лагеря, что будут ей помогать, но с условием, что эта помощь не обернётся для меня серьёзными последствиями. Отсидев 15 суток, вернулся в свою камеру. На другой день на работу не вывели. Я уже ждал худшего — отправки во Владимир. Но вызывают в кабинет и зачитывают постановление о переводе на три месяца в одиночную камеру. На три месяца! А могли бы и на год. Беру свои вещи, постель и перехожу в одиночную камеру. Моей одиночной камерой стала камера в противоположном торце барака — окном на промзону. Это была камера, в которой повесился в 1963-м тот неизвестный заключённый. В промзоне ещё действовал небольшой цех, в котором шили рабочие рукавицы, так меня выводили в рабочую камеру, где я эти рукавицы выворачивал. Выполнения норм никто не требовал. К тому же рукавиц для выворачивания поступало мало, а то, бывало, я и совсем был без работы. Пребывание в одиночке прошло без всяких приключений. Отсидев, вернулся в камеру, в которой сидел до одиночки.
Большинство украинцев было недовольно тем, что я, никому ничего не сказав, так поступил с Пугачом и Андреевым. Особенно с Пугачом. Ко мне подходили, расспрашивали. Подошёл и Николай Курчик, не скрывая при этом своего возмущения. Но когда я ему ответил на некоторые вопросы относительно приготовлений к побегу и того, как повёл себя Пугач во время допроса, то Николай сказал: «Пугач, имея большой опыт, не мог так поступить. И его поведение на допросе… Тут что-то не то». Со мной соглашались, но говорили: они пользовались авторитетом. Надо было нам сказать и в узком кругу дать ту пощёчину. Наверное, они всё-таки были правы. Тогда бы и в ШИЗО, и в одиночке не пришлось бы сидеть. Да, я не должен был игнорировать общину, к которой всё же принадлежал.
Администрация лагеря снова представила Андреева в суд на снижение срока. Но суд снова отказал. А где-то через день-два после суда подходит ко мне Витас Кланаускас и говорит: когда заседал суд, то заключённый из обслуги подслушивал под дверью. Отказывая администрации в ходатайстве, судья сказал: «Да, он вам помогал, но тем же самым он занимался и в полиции». Так что после повторного отказа суда снизить Андрееву срок до 15 лет администрация подаёт ходатайство на перевод его на более лёгкий режим содержания. Это ходатайство суд удовлетворил, и Андреева перевели в лагерь строгого режима.
В 1971 году режим содержания заключённых на особом режиме ослабел — в ларёк завезли продукты, и заключённые впервые за 10 лет смогли их купить. И хотя это было на 4 руб. в месяц, но это было для заключённых большим событием. Кроме баланды и клейкого хлеба тюремной выпечки, появились батоны, повидло, маргарин и конфеты «подушечка». У меня уже были какие-то там заработанные деньги, и я также стал отовариваться.
Весной и летом 1971 года меня ещё не покидала надежда на побег. Стараясь не привлекать внимание, встречался с Костей Диденко, который также имел желание выбраться из лагеря. Мы перебирали разные варианты, но среди них не было такого, который давал бы шанс на удачный побег. К тому же и срока у меня уже оставалось столько, что было бы неразумно идти на большой риск. За 1971 год я лишь осуществил подготовку для подкопа. А именно: в том году прокладывали теплотрассу, которая тянулась от котельной вдоль запретки и поворачивала к баракам. Забравшись в теплотрассу, я повыбивал подпорки, положив трубы на землю. Оставалось сделать лаз в теплотрассу.
За 71-й год мне ещё два раза пришлось побывать в ШИЗО. Первый раз за то, что дал по морде своему сокамернику (полицаю с Одесщины) за оскорбление, когда я упрекнул его тем, что, будучи раздатчиком пищи, он не передал продукты заключённому, который сидел в ШИЗО. И второму, также из обслуги, пришлось дать за грубость по морде. (А как же не дать?! Не дашь — не будут с тобой считаться). Зимой с 1971 на 1972 год, хотя для того и не было нужды, мне удалось съездить в больницу в Барашево. Там в одном из корпусов (терапевтическом) были две небольшие камеры для особого режима. Нас, полосатых, выпускали в коридор, в котором были палаты для политзаключённых строгого режима, лишь во время посещения столовой и к врачу. Столовая находилась в этом же корпусе, и во время посещения столовой мы имели возможность общаться с заключёнными строгого режима. Хотя в палатах было много заключённых, но среди них не было никого, с кем мне приходилось сидеть во время первого срока заключения. Из тех заключённых запомнились лишь Юрий Галансков, который болел и, видимо, из-за этого всё время пребывал в депрессивном состоянии (вскоре его не стало — умер), и литовец по имени Йонас. Йонасу было где-то лет 40. Выражение его лица с большими светло-серыми глазами сразу привлекло моё внимание. Это лицо отличалось от других лиц. Оно было бледным и неподвижным. Он был ростом не менее 180 см, голова этого заключённого всегда была поднятой, а неподвижные широко раскрытые глаза выражали какую-то неземную скорбь. Этот взгляд притягивал меня своей таинственностью. Выйдя в коридор, я всматривался в это лицо, стремясь понять, что кроется за той скорбью. Я заметил, что и он стал посматривать на меня. Видимо, мои настырные взгляды привлекли его внимание. Так вот все заключённые ходили, общались между собой, а он почти неподвижно возвышался над всеми, как некий ангел скорби. Я всё-таки подошёл к нему и спросил, что с ним.
— У меня рак желудка. Скоро должен наступить конец, — ответил Йонас.
Мы стали общаться. Йонасу не хотелось умирать в лагере. А особенно быть в том морге, который стоял на противоположной стороне зоны и в окошко которого он уже, видимо, не раз заглядывал. Ему не хотелось, чтобы его там потрошили. Он знал и того заключённого, который работал в морге и, будучи помощником патологоанатома, должен был разрезать его тело. «Я убью его», — не раз повторял Йонас. Обдумывал Йонас и то, как совершить побег и, добравшись до Литвы, умереть уже там — в родном краю. Терять ему уже было нечего. Я предложил ему единственный для него вариант побега: накрывшись простынёй, попробовать ночью пролезть через запретку.
Уже весной 1972 года спросил у Кланаускаса, известно ли ему что-нибудь о Йонасе.
— Он умер, — ответил Кланаускас.
А заключённых в лагере всё меньше и меньше. Уже не было в лагере и Кичака Игоря, и Водынюка Олеся, которые, отсидев по второму заходу, вернулись в Украину. Прибывали же единицы. Среди них Эдуард Кузнецов, Юрий Фёдоров и Алексей Мурженко — участники попытки группы евреев захватить самолёт и перелететь в Швецию. Сроки большие: у Кузнецова и Фёдорова по 15 лет, а у Мурженко — 14 (Мурженко — цыган из Лозовой, но об этом в лагере никто не знал. Все считали, что он украинец. С Мурженко я какое-то время сидел и в одной камере). Все трое уже сидели в 60-х годах в мордовских лагерях по обвинению в антисоветской агитации и пропаганде. С ними у меня сложились дружеские отношения. Всё же больше всего я общался с Фёдоровым. Он не был разговорчивым. Чувствовалось, что он углублён в свой отстранённый от суеты духовный мир. Если не ошибаюсь, это был романтик, христианин, который стоически переносил удары судьбы. Его душа не бушевала — в ней был покой. Психологически мы больше подходили друг другу, что нас и сближало. Все трое любили крепкий чай. Бывало, заварит кто-нибудь из них кружку чая, усаживаемся и пускаем кружку по кругу — каждый по два глотка. Вот так глотнул своё — и передавай другому. Помню случай с Кончаковским. Как-то бытовики сидели в кругу и пили чай. Мимо проходит Николай. Увидев, зовут Николая в компанию, подают кружку, зная, что Николай не такой уж и любитель чифиря. Наверное, просто решили пошутить. Но Николай берёт кружку, опрокидывает и выпивает весь чай. Бытовики в отчаянии.
— Ну, — я думал, что это всё мне, — улыбается им в ответ Николай.
Конечно, Николай знал о двух глотках, но тоже решил пошутить. Это так — чайная церемония для многих была самым приятным моментом в лагерной жизни.
О побеге с «самолётчиками» (так называли тех, кто был причастен к захвату самолёта) я почти не заводил речь. И они обходили эту тему, видимо, понимая, что со своим сроком я им уже не попутчик. Всё же, понимая, что им не остаётся ничего другого, как попытаться как-то выбраться из лагеря, я намеревался помочь им, а потому обдумывал, как сделать лаз в теплотрассу. А когда уже что-то придумаю, то тогда сообщу им о возможности выбраться на волю. Желающих сделать подкоп — хватало. В теплотрассу я бы уже не залезал, но когда подкоп был бы готов, то в лагере я не оставался бы.
Где-то в конце 71-го или уже в начале 72-го в лагере произошло событие: судили троих бытовиков за антисоветские татуировки. Это были Сергей Цветков, Алексей Тарасов и Буряков. Они, как на подбор, низкорослые, двое из которых явно с подорванным здоровьем. Все трое не так давно прибыли в лагерь из Владимирской тюрьмы. Цветков не только выделялся среди бытовиков своей порядочностью, он был и незаурядным художником-карикатуристом. Кроме карикатур на советскую действительность, рисовал карикатуры на представителей администрации. Его за это постоянно преследовали и во Владимире, и в Мордовии. Он часто болел. Его должным образом не лечили, а за систематическое невыполнение нормы выработки сажали на 10-м в ШИЗО, в одиночку. Тарасов, как и Цветков, также имел болезненный вид, часто болел и также за невыполнение нормы отбывал ШИЗО. Ну, а третий — Буряков, то это была личность неадекватная. Так вот, осенью, находясь в этапной камере, в знак протеста против отправки на три года во Владимирскую тюрьму за нарушение лагерного режима, все трое нанесли себе антисоветские татуировки. Тарасов уже повторно. Судили их в клубе лагеря. Тарасов не раскаялся. Видимо, понимал, что после повторной татуировки никакое раскаяние уже не поможет. Вёл себя мужественно. А в последнем слове сказал судьям: «Дуйте мне в х.., чтобы я на луну улетел». Тарасову дали расстрел, а остальным по 15 лет и отправили во Владимир. (В 1976 году Цветков вернулся из Владимирской тюрьмы на 10-й, который к тому времени уже был для бытовиков, и в том же году умер. Не знаю, была ли на то время ещё жива его старенькая мать, которая когда-то очень бедствовала. Помню (в 60-х годах), смогла вложить в посылку лишь сухари и вермишель. Даже администрация Владимирской тюрьмы была тронута содержимым посылки, а потому кто-то из надзирателей отнёс ту вермишель на кухню, где её для него сварили). После суда Тарасов какое-то время ещё сидел в одиночной камере, что напротив бокового выхода из барака. Там был узкий коридорчик и две камеры. Коридорчик от общего коридора закрывался дверью из решёток. Двери в камеру к Тарасову также были из решёток, и мы, выходя утром в туалет, имели возможность через двойные решётки видеть его, сказать ему что-то. Он сидел на нарах, смотрел на нас с выражением безразличия на лице. Чувствовалось, что ему уже ничего не нужно, что он примирился с неизбежностью.
Заканчивалось лето 1972 года. Уже не помню, то ли в конце августа, то ли уже в начале сентября мне внезапно объявляют: завтра на этап. Объявили и другим, в том числе и Николаю Евграфову. Нас набралось восемь человек: я, Николай, бывший полицай и бытовики. На другой день на работу уже не выводят и через какое-то время забирают из камеры № 7, в которой я пробыл более трёх лет. Мы уже знаем, что нас везут в столицу Мордовии — Саранск. Туда и до нас возили заключённых с 10-го. Значит, где-то через месяц мы должны вернуться в лагерь.
Путешествие в Саранск запомнилось нашим пребыванием на железнодорожной станции. Высадив из автозака, конвой ведёт нас между путями вдоль перрона к воронку. Среди нас больше половины низкорослых в засаленной полосатой одежде. Измождённый вид этих заключённых никак не выдавал в них каких-то опасных преступников. А на перроне полно людей. По их растерянным лицам видно, что такое зрелище они видят впервые. Они сочувственно смотрят на нас, стремясь постичь то, что внезапно предстало перед их глазами, что, без сомнения, ассоциировалось у них с виденным в кинофильмах о фашистских лагерях. Наша группа действительно выглядела жалкой в окружении упитанного конвоя с собакой. Некоторые подходили и спрашивали у солдат, можно ли нам что-то передать из продуктов.
— Нельзя, — неловко отвечал конвоир, понимая, что в глазах более сотни людей, смотревших на нас, он отнюдь не выглядит героем.
В Саранске нас поместили в камеры КГБ и стали водить в кабинет на собеседования. Повели и меня. Как только я сел на стул, кагэбэшник взял бумагу и стал читать характеристику, которую на меня дала администрация лагеря. Кагэбэшник читал, а я слушал и одновременно думал: «Наверное, собираются возбудить новое дело». Ведь в характеристике было: «антисоветчик, националист, высказывался против социалистического строя, создаёт группы, оказывает давление на заключённых». Но, прочитав, кагэбэшник не сделал никакого заявления и, поговорив со мной несколько минут, велел отвести меня обратно в камеру. В камере нас было трое: я, тот полицай и бытовик. Через некоторое время меня ещё раз вызвали, о чём-то там незначительном поговорили (потому и не запомнилось) и завели с несколькими заключёнными в какое-то большое помещение с телевизором, где мы минут 20 смотрели телевизионную передачу. Вот в Саранске, в КГБ, я впервые увидел телевизор. Больше меня не вызывали. В камерах нам сиделось неплохо. Кормили нас значительно лучше, чем в лагере — еду доставляли из какой-то столовой. К тому же разрешили закупить продукты, чай на сумму до 10 рублей. Продуктов почти не брали, брали чай — самый ценный продукт в лагере. Разрешили получить посылки. Некоторые их получили. Конечно, посылки были в основном с чаем и кофе. У всех приподнятое настроение — столько чая! Ведь в лагере чая не продают. Его можно купить, если каким-то образом раздобыл деньги наличными, у того заключённого, которому тайно передаёт кто-то из администрации лагеря. К тому же, намного дороже. В Саранске мы пробыли месяц. Какая надобность была нас туда возить — неизвестно. Но, думаю, основной причиной для кагэбэшников Саранского КГБ была необходимость показать, что и они работают. Ведь шпиономании уже не было, вся контра истреблена, а потому оставалось лишь периодически привозить политзаключённых к себе для профилактики.
Ещё до отъезда мы знали, что на 10-й уже не вернёмся, потому что остаток заключённых 10-го лагеря переместили в посёлок Сосновка. По прибытии в Сосновку нас повели в сторону лагеря № 1 (когда-то на нём находились верующие) и подвели к небольшому объекту, огороженному частоколом — запреткой. На вахте нас почти не шмонали (не обыскивали). Администрация лагерей знала: приобретённые в КГБ чай и продукты конфискации не подлежат. Внутри этого объекта был небольшой дом. Наверное, это было то ШИЗО, в котором в 1962 году мы ждали отправки во Владимирскую тюрьму. А не узнал из-за того, что помимо прочего к нему пристроили несколько камер, кабинетов и цех. Видно по всему: это подготовлено для нас, «полосатых», которых осталось мало, и поэтому более рационально содержать нас в небольшой зоне, а не в лагере. Камеры были переполнены. Снова, как в 1964-м, заключённые не помещались на двухъярусных нарах и в отдельных камерах спали на цементном полу. Многих из тех, кого мы оставили на 10-м, в этой зоне уже не было. Не было уже и Николая Кончаковского, Андрея Турика, Кирилла Банацкого, Михаила Глюзы, Стойко Ильи. Все заключённые с 10-го не поместились бы в этих камерах (более 10 камер), а потому администрации ничего не оставалось, как часть из тех, которых закон позволял ещё годами ранее перевести на строгий режим, всё-таки перевести на лучшие условия содержания в заключении — на строгий.
Я попал в камеру № 8, в которой кроме других сидели Даниил Шумук, Святослав Караванский, Николай Евграфов, прибывший из Саранска немного раньше. Шумук только что прибыл из Киева. Ему дали 10 лет особого режима и 5 лет ссылки за написание книги «Воспоминание о прошлом». В то же время прибыли из Украины с новыми сроками Иван Гель и Михаил Осадчий. А Караванский прибыл из Владимира. Кстати, когда нас везли из Саранска, то в Потьме я виделся с его женой Ниной Строкатой. Узнав, что среди тех, кто вышел на прогулку, есть украинец, пани Нина крикнула из зарешёченного с «намордником» окна: «Слава Україні!». В лагере мы этим приветствием не пользовались, а потому оно для меня было таким неожиданным (на пересылке, от женщины!), что я даже замешкался с ответом. Пани Нина была живой и смелой. Когда нас запустили в камеру, а пани Нину выпускали на прогулку, то, увидев, что наша камера не заперта, эта невысокая женщина вскочила в камеру, спросила меня о Святославе и, услышав от меня, что я не знаю, где он находится, сказала: «Он уже должен быть в лагере. Передайте ему привет». Тут же в камеру забежал надзиратель и выпроводил пани Нину из камеры.
На новом месте уже не было промзоны. Пространство ограничено: камеры, прогулочные дворики и небольшой цех, в который заходили из коридора этой маленькой тюрьмы. В цеху вредное производство — шлифовка стекла для люстр. Заключённые работали в две смены. В воздухе, на одежде, руках и лице заключённых — стеклянная пыль. Стекло я не шлифовал. Я лишь выносил из цеха битое и бракованное стекло, которого было мало, да зимой обогревал печкой цех. Работа летом занимала совсем мало времени, а потому я в основном прогуливался во дворике, беседуя с теми, кто вышел отдохнуть или уже выполнил норму выработки. А зимой сидел у печки и подбрасывал уголь. Заполнить время было нечем. Думать также было не о чем, потому что о побеге уже нечего было думать, а обо всём остальном уже давным-давно было передумано. Монотонность жизни нарушало лишь то, когда кто-то, а это в основном кто-то из «самолётчиков», заваривал чай, и мы пускали по кругу кружку. По сравнению с этой зоной 10-й уже вспоминался нам как привилегированное место заключения. Интересовались мы и тем, что там, на том 10-м, творится. И о кое-чём узнавали. Узнали и о том, что по прибытии на 10-й бытовики побросали штампы от малых прессов в бассейн с водой. (От больших, конечно, не бросишь — очень тяжёлые). Что ж, похвально! Да, в 60-х и 70-х годах действенное неповиновение администрации мест заключения уже оказывали не политзаключённые, а бытовики. Это в их лагерях вспыхивали бунты, горели бараки. Кстати, в конце 70-х годов полыхало и в промзоне 4-го лагеря, что у тюрьмы в Житомире. После ликвидации бунта кого-то расстреляли, а некоторым дали новые сроки заключения.
Кроме политзаключённых, которые прибывали с воли — из большой зоны, в нашу зону продолжали изредка прибывать и бытовики. И всё же осенью 1972 года произошли изменения. Если до этого бытовиков держали среди политзаключённых и после того, как заканчивался их срок по политической статье, то в конце 1972-го тех, у кого этот срок заканчивался, стали вывозить из мест заключения для политзаключённых. От нас, кроме прочих, вывезли ещё до Нового года Ивана Сака и Николая Евграфова, место которых должно было быть среди нас, а не среди бытовиков. (Позже, после освобождения, Николай уже пошёл по политической статье и оказался в Перми. Пришлось отсидеть ещё 10 лет. В 90-х я встретился с ним в Киеве. Говорил мне, что Черновол предлагал ему возглавить Рух Донетчины, но он отказался). Не стало в камере и Караванского, который, прибыв из Владимира, всё что-то там протестовал и объявлял голодовки, и его перевели в одиночную камеру. Вскоре, уже где-то после Нового года, перевели и нас в камеру № 7, которая была почти напротив предыдущей. В ней было пятеро бытовиков, я, Шумук и тот сектант, который строил Беломорканал. (Я с ним мало общался, потому что о чём было говорить со старым человеком, зацикленным на каких-то сектантских представлениях? Вот и всего, что он запомнился своей молитвой со «стопудовым молотом по голове»). В камере нормальная атмосфера. Шумук в свободное от работы время занялся писаниной — писал какое-то художественное произведение, в котором что-то и о любви было, и отдельными листами отправлял письмами на волю. Давал мне те листки прочитать и спрашивал, какого я мнения о написанном. «Ну, может быть, но это не мой духовный мир. О таком и писать не стоит», — говорил я Даниилу. А Даниил, несмотря на то, что уже прожил около 60 лет, со мной не соглашался. Он почему-то считал, что любовь — это что-то святое, такое, во что хочется безоглядно погрузиться, раствориться в нём, а не противостоять этому чувству, которое базируется на нереальном восприятии объекта.
Расходились мы и в ряде других вопросов. Да разве только с Даниилом! Возможно, я и обидел его, хотя он мне об этом ничего не сказал. Но, несомненно, это было для него неприятно. Как-то в камере возникла дискуссия, в которой Даниил высказал мысль, что те, кто воевал без оружия, более достойны, чем те, кто воевал с оружием в руках. Он даже похвастался, что в УПА был лишь инструктором. В его голосе чувствовалось какое-то превосходство над людьми с оружием. Я не удержался и выпалил: «Если кто-то призывает к оружию, а оружия в руки не берёт, то он либо провокатор, либо тот, кто хочет загребать жар чужими руками!» (Но кто знает: возможно, это Даниил говорил для какого-то стукача, который, без сомнения, был в камере). Даниилу и другим я не раз говорил, что больше ценю Кармелюка, Довбуша, а не поэта Шевченко, который призывал к топору, а сам никогда его в руки не брал. (Как известно, призывы Шевченко ничего не дали, топор никто не брал. Его взяли почти через 60 лет, когда Россия потерпела поражение от Германии (хохлы не любили кацапов и без Шевченко). А что мешало Шевченко (ему же не кандалы, а оружие царь дал) сесть на кобылу и поскакать в Украину — подать пример?! Может, тогда Украина смогла бы породить своих народовольцев, эсеров, а не хлопоманов). Призывать и не брать оружия в руки — это привилегия лишь женщины, ребёнка, немощного. Когда-то этим занимались слепые кобзари. Ну, и известно, что не кобзари, а люди типа Кармелюка при благоприятных обстоятельствах поднимали народ на восстание, становились вождями. Имело бы большинство украинцев психологический тип Кармелюка, а не Шевченко, то Украина не находилась бы так долго в неволе. Так что лучше было бы, если бы в Украине господствовала не шевченкомания, а кармелюкомания, если бы пели не «Як умру, то поховайте…», а «Ви на мене, Кармелюка, всю надію майте».
В 1974 году, когда до конца срока оставался один год, меня перевели на строгий режим. Это случилось 4 января. Перевели и того сектанта, который строил Беломорканал. Перед отъездом я передал Шумуку своё рабочее место, и он избавился от той грязной работы — шлифовки стекла. Шумук остался в камере с бытовиками. Впоследствии узнал, что бытовики сразу стали наглеть, и ему пришлось перейти в другую камеру.
Перед нашим отъездом в зоне произошло забавное событие. В той камере, в которой мы раньше сидели (в 8-й) и которая стала этапной камерой, сидело двое заключённых, о которых я уже упоминал — Кукушкин и армянин Мартатьян, которых за какие-то там нарушения режима оформили на три года во Владимирскую тюрьму, и они ждали отправки на этап. Так вот Кукушкин решил перед отъездом устроить концерт. Действие такое: перед выходом на прогулку Кукушкин догола раздевается, вымазывает всё тело заготовленным калом, берёт в руку и сумочку с калом и ждёт, когда откроются двери. Как только двери открылись, Кукушкин с сумочкой в руках выскакивает в коридор. Надзиратель хотя и отпрянул, а всё же испачкал калом свой мундир. А Кукушкин бросился к выходу, у которого была комната для дежурного офицера и надзирателей. Вскочив в комнату, в которой за столом сидел лейтенант, Кукушкин замахивается сумочкой, чтобы ударить его по голове. Лейтенант успевает среагировать и нырнуть под стол. Удар сумочкой приходится не по голове, а по спине. Но лейтенант, хотя и спасает голову от сумочки, но всё же, ныряя под стол, разбивает до крови себе голову. (Потом ему наложили повязку). Загнав лейтенанта под стол, Кукушкин выходит в коридор, в котором уже никого не было, и, прохаживаясь с сумочкой по коридору, заглядывает через глазки в камеры. Заглянул и в нашу камеру. Улыбаясь, сказал, что коридор в его руках. Заключённые, которые были на работе, видели с прогулочного дворика, как в каких-то балахонах до пят прошли надзиратели брать Кукушкина. Из камер была слышна какая-то возня на коридоре. Вскоре шум затих. Кукушкина всё-таки скрутили и втолкнули в баню, которая была на этом же коридоре.
Через какое-то время, проходя мимо надзирателя в цех и увидев на его галифе мокрое пятно, я спросил с сочувствием в голосе:
— Досталось Вам?
— Да мне-то ещё ничего. А вот кое-кому досталось, — отвечает надзиратель.
Меня вывезли. Чем закончился этот «концерт» для Кукушкина — не знаю. Но, кажется, не стали с ним заморачиваться — возбуждать уголовное дело (ведь за это не расстреляешь), а быстро отправили на этап.
В январе 1974 года я прибыл на 19-й лагерь (посёлок Лесной Зубово-Полянского района). Тут уже было намного свободнее. Это не то что камерная система. Ведь здесь можешь общаться с кем захочешь, в любое время выйти из барака на свежий воздух, походить по территории зоны, пойти в туалет, а не к параше. А вскоре мне удалось съездить в больницу в Барашево. За весь лагерный период я лишь один раз побывал в больнице. В санчасть почти не обращался, не было такой нужды, а потому когда прибыл в лагерь и заявил о каких-то там побаливаниях, то меня сразу же оформили на обследование в больнице. А почему бы не проехаться, когда выпадает такая возможность?! Уже не помню, где именно, но в воронок посадили ещё двоих заключённых. Знакомимся. Это были Черновол и какой-то прибалтиец, которые, как было понятно из их разговора, давно уже знали друг друга. Они были рады, что встретились, и, пользуясь случаем, обменивались информацией. Им было не до меня — неизвестного им заключённого с особого режима. А я, конечно, не мешал им поговорить о своём. Да они меня и не интересовали, потому что я с ними никогда не встречался. Мы о чём-то там перекинулись парой слов, и на том всё. В Явасе пересели в вагонзак и вскоре были в Барашево. Меня поселили в палату, плотно заставленную двухъярусными койками. В эту же палату поместили и Черновола. А напротив нашей, в палате, рассчитанной на одного заключённого, лежал Максим Шевцов, который раньше был на 10-м.
Максим умирал — у него был рак лёгких. Он уже не вставал. Когда я рассказал Вячеславу об умирающем, мы то поодиночке, а то и вдвоём заходили к нему, одинокому, чтобы хоть немного заполнить чем-то тот отрезок времени, который ему ещё оставалось прострадать. Особенно когда заканчивалось действие обезболивающего препарата. Вячеслав всегда что-то рассказывал Максиму. Помню, как-то долго рассказывал Максиму о голоде 1932–1933 годов, что меня удивило. Ведь Максим, наверное, и в полицию пошёл потому, что прошёл через тот голодомор. И всё же Максим не останавливал Вячеслава. Жёлтый, высохший, лежал себе навзничь. Ему, наверное, уже было совершенно безразлично, о чём ему рассказывают.
Обследование я не прошёл. Уже на второй вечер я выкрутил на веранде нашего терапевтического корпуса лампочку — сотку, а на её место вкрутил лампочку из нашей палаты, которая, как какой-то каганец, едва освещала палату. Не то что читать, но и находиться в палате при таком освещении было тяжело для глаз. Вкрутив, залез на свою верхнюю койку. В палате оживление — заключённые радуются, что у них уже так светло. Но радоваться долго не пришлось. Вскоре в палату заходит «шнырь» (уборщик) с руганью в адрес того, кто поменял лампочки. Поставив табуретку, он выкрутил лампочку, а на её место вкрутил ту, что была раньше. В палате снова полумрак. Кто-то лишь недовольно проворчал, и на том всё. Я соскакиваю с койки, подхожу к нему.
— А ну вкрути назад сотку! — приказываю я ему. В ответ — ругань. Я сразу же даю ему несколько раз по бокам. «Шнырь» выскакивает в коридор. Не прошло и десяти минут, как в палату заходит латыш. Если не ошибаюсь, его звали Валдис. Он был где-то моих лет. Раньше был на 10-м. Я хоть немного и общался с ним, но не могу сказать уверенно, что он не прибыл на 10-й из бытового лагеря. Последнее время на 10-м он возглавлял бригаду слесарей. Был бригадиром слесарей, а теперь каким-то «лепилой». У него не было медицинского образования, поэтому, когда днём я увидел его в белоснежном халате, то с удивлением сказал ему:
— То ты прессы ремонтировал, а теперь людей ремонтируешь!
Вот этот Валдис и вызывает меня в коридор. Как только я вышел, он сразу же, да ещё и грубоватым тоном, высказывает своё возмущение моим поведением по отношению к его земляку. Я пробую объяснить ему, почему так произошло, что на веранде может быть и лампочка меньшей мощности. Но он и слушать не хочет. Тогда я ему резко:
— Пошёл на х..! (Такие люди понимают только такой язык).
Валдис сразу же замолчал и ушёл. На следующий день меня, ничего не сказав, отправили обратно в лагерь.
На 19-м встретился с приятелями с особого режима. Здесь, кроме прочих, уже были Дмитрий Синяк, Николай Кончаковский, Илько Стойко. Познакомился и с заключёнными строгого режима. Из украинцев этого режима, с которыми приходилось часто общаться, были Роман Семенюк, Игорь Кравцив, Кузьма Матвиюк, Зорян Попадюк, Любомир Старосольский. Больше всего общался с Романом Семенюком, родом из города Сокаля, который в 1965 году с Антоном Олейником совершил удачный побег из 11-го лагеря. (Добравшись до Украины, они скрывались в Ровненской области в домике лесника, который стоял пустой посреди большой поляны. Но как-то утром увидели солдат, которые выходили из леса и кольцом приближались к ним. Антон ещё заскочил в сарай в надежде найти там какой-нибудь тайник, но спрятаться было негде. Их либо кто-то выдал, либо каким-то образом узнали, что они могут скрываться в той местности, и решили, что они могут быть в том домике лесника. Роману за побег добавили три года. А на Антона, который несовершеннолетним в послевоенные годы был в УПА, сфабриковали новое дело по обвинению в причастности к убийствам мирных граждан и по приговору Ровненского областного суда расстреляли. Об этом судилище было сообщено летом 1967 года в газете «Известия».)
Антон Олейник был неординарной личностью. Побег из Мордовии был не первым. Были и другие побеги. Один из них — из Тайшета. У Антона были большие способности. Хорошо овладел философией, литературой, пользовался большим авторитетом у заключённых. Вандакуров, о котором я уже упоминал, говорил, что среди украинцев не было равных Антону. Он был прекрасным организатором. «Из него был бы хороший командир», — не раз, рассказывая об Антоне, говорил Роман. КГБ, без сомнения, знало, что Антон бежит из лагеря не для того, чтобы просто быть на воле, а с целью продолжить борьбу, которую вёл в рядах УПА. С Романом я встретился в последний раз в Киеве в 1990 году. Вскоре его не стало. В 1992 году в г. Сокале попал под грузовик.
А уже позже я познакомился со своим земляком Василием Овсиенко, который весной прибыл из Украины. Василий моложе меня на 10 лет. Он впервые в лагере. Свыкается с лагерной жизнью, но чувствуется, что его душа ещё где-то там — на воле. Бывало, зайду к нему в барак, о чём-то расспрашиваю. Василий отвечает, а мысль его сосредоточена на чём-то другом. Не знаю, то ли оттого, что он был моим земляком, политзаключённым из Житомирщины, которого я впервые за много лет встретил в заключении, то ли из-за чего-то другого, что давало почувствовать в нём что-то близкое моей душе, но в его поведении было что-то из уже далёкого 1960 года — моих первых дней пребывания на 14-м. Общаясь с ним, я чувствовал, что он не остановится на достигнутом. И я не ошибся: ему таки была оказана честь носить полосатую одежду.
Там, на 19-м, я познакомился и подружился с Кронидом Любарским и Борисом Азерниковым. Вскоре после знакомства Любарский обратился ко мне с предложением подключиться к отправке из лагеря корреспонденции, освещавшей условия содержания заключённых и борьбу некоторой части узников (в основном диссидентов) за предоставление политзаключённым Статуса политзаключённого. А почему бы не помочь? Я принял это предложение. В моих руках оказались письма, заявления и обращения к руководству стран Запада, руководству СССР, общественности. Эту корреспонденцию я запрессовывал в фанеру, наклеивал сверху фото (помню фотографию матери Зоряна Попадюка), покрывал лаком. Эту доску полировали — и портрет для отправки за пределы лагеря готов. Вольнонаёмный и не подозревал, что он выносит из лагеря. Перед тем как запрессовать материал, я кое-что просматривал. Помню, просмотрев написанное Кузьмой Матвиюком, увидел, что если такой материал попадёт в руки КГБ, то Кузьме можно новый срок получить. Я запрессовал написанное им, но, встретившись с Кузьмой, осторожно перешёл на тему отправки заключёнными различных обращений и сказал, что нужно быть осторожным, не писать своей рукой такого, что могут квалифицировать как антисоветчину, потому что запросто могут дать новый срок.
— А разве в лагере за такое судят? — спросил Кузьма.
— А какая разница: в лагере или на воле, — отвечаю ему.
А ещё, работая в гараже (ремонтировал автомашины), сделал в автобусе возле одного из сидений тайник, из которого пассажир мог бы незаметно извлекать корреспонденцию. Кроме этого, похитил из гаража автомобильный радиоприёмник, в котором литовец, многолетний заключённый Людвиг Симутис, работая в электроцехе, что-то там переделал, прослушивал передачи и рассказывал мне и Любарскому новости из-за «бугра».
Я лично ничего не писал и не участвовал в акциях с требованием предоставления Статуса политзаключённого. Лишь один раз согласился поставить свою фамилию под одним из обращений. Не принимал участия в акциях не потому, что боялся попасть в ШИЗО, а потому, что на возню диссидентов, на их требования я смотрел как на детскую забаву. Конечно, им хотелось чем-то заниматься, заявить о себе. Но стоило ли ради забавы идти в ШИЗО, ПКТ (помещение камерного типа), Владимирскую тюрьму, объявлять голодовку? Что касается голодовки, то на голодовки диссидентов я смотрел как на капризы детей, которые, добиваясь чего-то у родителей, даже причиняют себе какой-то вред, чего бы, конечно, они не делали, если бы имели дело не с родителями, а с чужими людьми. А кем были до заключения диссиденты? Они, как правило, были комсомольцами, а некоторые и коммунистами. Ещё не так давно многие из них отмечали советские праздники, поздравляли с этими праздниками своих родных, друзей. Коммунистический режим они воспринимали ещё не совсем как нечто чужое, враждебное. (Поджог колхозной скирды, сельского совета? — это не для них). Они даже не осознавали, что подсознательно им ещё многое было близко из того советского (возьмём хотя бы большую привязанность украинских диссидентов к «расстрелянному возрождению» — психологически близкому диссидентам). Диссиденты жили в деспотической стране, где само общество в своей основе было деспотичным (преступным), а вели себя так, будто они живут в демократической стране, в которой кем-то нарушены права человека. Поэтому диссиденты так болезненно воспринимали нарушения прав человека в стране, в которой жили. Если выразиться образно, то в моих глазах диссидент был тем человеком, которого медведь затащил в свою берлогу, а этот человек кричит: «Права человека! Права человека!..». Человек почему-то не принимал во внимание, что у него свои права, а у медведя — свои. Что бессмысленно в его берлоге объявлять голодовку (в немецких лагерях голодовку не объявляли) или накалывать на своём лице татуировки, как это делали бытовики. Другое дело, если эта голодовка не подорвёт твоего здоровья — не причинишь себе вреда. Если ты будешь симулировать — не голодать, а лишь, заявив общественности о голодовке (чтобы охала и ахала), поиграешь в «голодовку». Скажу ещё такое о диссидентах: будучи психологически не готовыми завоёвывать свободу для себя лично (не бежали даже из ссылки, откуда легко было сбежать), диссиденты брались завоёвывать её для других. Комично.
К диссидентскому движению я относился отрицательно. Ведь у них как было: «Вот он я! Я ваш противник!» Так из этого и выходило: «Вот он я! Вяжите меня!» И вязали. А что делать, когда просят?! Такую роскошь (диссидентство) могли позволить себе такие, как Сахаров, а не простые смертные, которых, как только высунулся, вскоре — вязали. По моему мнению, КГБ не воспринимало диссидентов как опасных противников, а потому играло с ними, как кот с мышью. Диссиденты, как комары, досаждали им своим жужжанием, а потому приходилось их изолировать. Изолировать, а не прихлопывать, как это они делали с теми, кто становился на настоящий путь борьбы, — расстрел руководителей Украинского Национального Комитета Богдана Грицыны и Ивана Коваля и Фёдора Процива (Ходорковская группа).
(Как известно, до перестройки официальное диссидентство было незаметным и из-за своей малочисленности не играло никакой роли в жизни империи. Влияния на массовое сознание оно не имело. В этом плане самую весомую роль сыграл непризнанный диссидент Леонид Брежнев. Хотя его никто и не зачислял в круг диссидентов, но это был самый выдающийся диссидент. Он сделал то, чего не сделала вся та агитация и пропаганда, за которую через лагеря прошли тысячи антисоветчиков. Это он своим либерализмом, в основном в отношении чиновничества (распалил у него аппетит: захотелось стать независимыми от государственной кормушки), и «иконостасом» (ходил даже анекдот о расширении груди) окончательно подорвал приверженность коммунистическому руководству, выставив себя и руководство партии в роли клоунов. При его руководстве Кремль из логова хищного зверя превратился в дом престарелых. В результате исчезал страх, на котором держалась империя. А исчезает страх — исчезает империя. Приведя советское общество к моральному и духовному упадку, Брежнев тем самым заложил фундамент для перестройки — для развала империи. Известно же, империю развалила не оппозиция (её не было), а те самые коммунисты, которые захотели стать капиталистами.)
Наверное, та подпись под заявлением и моё общение с активными диссидентами и стало причиной, из-за которой осенью меня вывезли в Барашево — 3-й лагерь. Вывезли на 3-й и Бориса Пенсона (самолётчика). Отправили и Любарского с Азерниковым. Любарского, которому оставалось до конца срока около трёх лет, — до конца срока во Владимирскую тюрьму, а Азерникова — в ПКТ. Итак, через 13 лет я снова в той зоне, из которой меня вывезли в 1961 году. Но этой зоны я уже не узнал. В ней всё перестроено и перегорожено на изолированные друг от друга отделения — зоны. Здесь, кроме зоны для мужчин-политзаключённых, была зона и для женщин-политзаключённых. Женщины-политзаключённые — это остатки с 17-го и новоприбывшие. В зоне для мужчин было где-то около 70 человек. Здание, в котором мы размещались, было разделено на две части: большая для проживания, а меньшая, с входом с торца, была швейным цехом, в котором заключённые шили рабочие рукавицы. Кроме Пенсона и Михаила Маслова, который раньше был на 10-м, из моих знакомых никого не было. Из тех, с кем я познакомился поближе, были Израиль Залмансон, Юрий Мельников (самолётчики) и Поздеев — один из тех двух самолётчиков, которые, захватив в воздухе лёгкий самолёт, совершили удачный перелёт в Турцию.
Эти молодые люди — Гилёв и Поздеев — действительно совершили героический поступок, но из-за своего легкомыслия превратили этот поступок в комедию. Пробыв где-то с полгода в лагере для беженцев, они добровольно вернулись в Советский Союз. И каждый получил более 10 лет заключения. Поздеев в деталях рассказывал мне о перелёте через Чёрное море, о посадке на аэродроме на побережье Турции и о пребывании в Турции.
Когда они достигли побережья, их торжеству не было предела. Но очень быстро наступило разочарование, потому что с самого начала всё происходило не так, как им представлялось. Да и как было не разочаровываться: самолёт, пробежав по посадочной полосе, остановился вдали от аэродромных зданий. Они сидят в самолёте, а к ним никто не бежит. Вокруг тихо, будто ничего не случилось. Прошло более 15 минут, как они увидели приближающийся джип. Подъехали. Их посадили в машину, привезли в какое-то помещение аэродрома. Выяснив, кто они, поместили в лагерь для беженцев. Они должны были находиться в нём, пока какая-нибудь страна не примет их к себе, обеспечив жильём и работой. Как же было не разочароваться?! Они ждали, что их как героев будут «носить на руках». Будет беззаботная, наполненная одними развлечениями жизнь, а тут — одна обыденщина… И обратились в советское посольство с заявлением о своём намерении вернуться в СССР.
Познакомился я здесь и с двумя Василиями — Стусом и Лисовым. Лисовый был подельником моего земляка Василия Овсиенко. В 1973 г. Лисового, Овсиенко и Евгения Пронюка осудили за издание журнала «Украинский вестник». Я, Стус и Лисовый часто встречались. Бывало, заварим крепкого чая, зацепим какую-нибудь тему, а к нашей беседе и другие присоединяются… И пошла дискуссия. Стус писал стихи. Как-то я сказал ему, что писать стоит только в том случае, если ты уверен, что скажешь что-то новое или напишешь лучше Шевченко, Шекспира. Он не соглашался и уверял, что его устроило бы место среди поэтов где-то посредине их иерархической лестницы. Василий не предлагал послушать написанное им. И я не просил, потому что равнодушен к стихам. Кроме «Рубаи» Омара Хайяма — и то где-то полтора десятка, к которым уж никак нельзя быть равнодушным. Вот один из них:
Не одерживал смертный над небом побед,
Всех подряд пожирает земля-людоед.
Ты ещё жив и бахвалишься этим,
Погоди, попадёшь муравьям на обед.
Это написано для тех, которые ведут себя таким образом, словно они бессмертны. Прекрасные строки! Это тебе не про щебетание соловья, не про любовь и не про гул боя.
Правда, есть и среди украинских поэтов близкий мне поэт. Это — Владимир Самийленко. Но лишь одним стихотворением — «Неуверенность».
Якби знаття, що треба жить
І сподіватись, і бажати,
То жив би так, щоб кожну мить
Для цілі одної віддати.
Якби ж знаття, що все дарма,
Що в русі вічному творіння
Мети ніякої нема —
Навіщо радощі й боління.
Навіщо нам і жизнь сама
Якби знаття, що все дарма.
Я прочитал его весной 1961 года. Написанное было настолько созвучно моим переживаниям, что я запомнил это стихотворение на всю жизнь. Тогда я ещё был в пути к той вершине, где уже отсутствуют такие понятия, как «желание», «цель», «Бог», где с тотальной переоценкой ценностей обесценивается и всё до того желанное — исчезает «желание». А с исчезновением желания исчезает и цель, потребность в божестве. Ты уже выше Бога, потому что можешь покончить с бессмыслицей. Ты уже на грани безумия.
Из разговоров со Стусом я догадывался: Василий подобного не пишет. Ну а поэзия, в которой воспевается природа, борьба, любовь или ненависть к ближнему, к какому-то сообществу, или о том, как «Ванька полюбил Маньку, а Манька — Ваньку» (известно же: «Любовь — паскудное чувство, которое работает на продолжение человеческого рода»), — где душевное превалирует над духовным — меня не привлекала. Ведь всё это если не обман, то не значащее. (Жизнь — это умирание, растянутое во времени, шествие к яме. Идя к яме, цветочками и голубым небом не любуются).
Тогда же, в 1961-м, но уже летом, мне попалась в руки небольшая книжечка (захалявного формата), автором которой был высокопоставленный военный, кажется, американец, который вспоминает о встрече с Жуковым. Кроме встречи с Жуковым, в которой ему не понравилось, что Жуков пришёл на встречу со своим охранником-детиной, запечатлелось в памяти его наставление: «Не следует пускаться в бесцельное философствование, ибо под тонким покровом привычного хода мыслей кроется зияющая бездна, подстерегают великие загадки мира, которых никогда не разгадать, да и не следует затрагивать вовсе». Конечно, я с ним не соглашался. Я неустанно приближался к той вершине, с которой открывалась «зияющая бездна», чувствуя при этом себя в одиночестве среди людей. Это уже позже, когда отбывал второй срок, познакомился с мыслями близких мне Экклезиаста, Хайяма, Шопенгауэра, Камю и других и уже не чувствовал себя таким уединённым.
И всё-таки, под конец моего пребывания на 3-м, мои отношения со Стусом несколько испортились. Мы прекратили совместные чаепития, а следовательно, и другие отношения стали в большей степени формальными. А причиной было следующее. Как-то Василий рассказывает мне, что через «вольняшку» передал в женскую зону записку, но уже прошло немало времени, а ответа оттуда нет. Наверное, не передал. А взял же за это 10 рублей. Так что нужно снова передать туда записку, а денег нет. Надо продавать «ларёк».
— Одного «ларька» не хватит. Так, может, сможете помочь? — спрашивает Василий.
— Нет, на такое я «ларёк» продавать не буду. Было бы что-то более важное, тогда другое дело, — говорю Василию.
И действительно, это же не на подготовку к побегу! Разве это так важно: будешь ты там знать о чём-то или не будешь из жизни в той зоне?! А Василий, как я понял, всё-таки продал кому-то свой «ларёк». Заварив чай, я приглашал его, но Василий отказывался. Ну что ж, и я поступил бы так на его месте.
Движения за Статус политзаключённых в нашей зоне уже не было. Женщины ещё чего-то добивались — возможно, и Статуса. Они отказывались работать, и их возили в какой-то лагерь в ШИЗО.
Мой срок заключения приближался к концу. Месяца за два до фактического конца срока я обратил внимание начальника спецчасти на неправомерность установленной в приговоре даты освобождения. Ведь меня задержали (в результате ранения) 24 декабря, и согласно закону начало срока должно было бы быть 24 декабря, а не 27 января. (Почему в приговоре 27 января — неизвестно). Начальник спецчасти хотя и заметил, что нужно было обратиться раньше, всё же сказал, чтобы я немедленно обратился в суд, который вынес приговор. Я так и сделал. Но наступило 24 декабря, а ответ из суда так и не пришёл. Можно было бы спокойно досиживать то, что значилось в приговоре, раз не требовал изменения в приговоре на протяжении почти 10 лет, но мне захотелось не подчиняться требованиям лагерного режима. Тем более что с 24 декабря моё пребывание в лагере фактически было незаконным. Итак, с 24 декабря я перестал выходить на поверку и на работу (хотя и работа у меня была какая-то такая, о которой я и не помню. Хотя, кажется, Маслов, который работал ремонтником, оформил меня своим помощником. Помню только, что прогуливался). Все выходят из секции во двор, строятся в колонну, а я сижу в секции. Посчитав заключённых, надзиратели заходят в секцию, вписывают и меня, но заодно подают рапорт о нарушении мной лагерного режима. То ли перед Новым годом, то ли уже в первых числах нового я оказался в ШИЗО на 19-м. Дали 15 суток. Когда везли на 19-й, то немного пообщался со Стефой Шабатурой, которая сидела в соседней камере вагонзака. Её также везли в какой-то лагерь в ШИЗО за отказ от работы. Разговор у нас вёлся вяло, потому что о чём было говорить?! В ШИЗО застал Лисового. Где-то больше недели, до окончания Лисовым своего срока в ШИЗО, мы сидели в одной камере. Камера на двоих. Василий кое-что рассказывал о своей тяжёлой жизни в студенческие годы, о своей преподавательской деятельности и кое-что о следствии и судебном процессе. А преимущественно, будучи в рабочей камере, молча что-то там делали, каждый думая о чём-то своём. Хотя Василий и был преподавателем философии, но философию мы почти не затрагивали. Мы были разными — находились в разных измерениях. Без сомнения, если я был знаком с философией в основном из произведения Рассела «История западной философии», в которой кратко изложена суть мыслей того или иного философа (а зачем пропускать через себя и всю ту макулатуру?!), то Василий, конечно, лучше знал (и помнил) те или иные направления в философии. Но чувствовалось, что он это знает как усвоенный предмет, что он был из тех, которые не заглядывали «под тонкий покров привычного хода мыслей» — не заглядывали в бездну. У него была семья, и он, наверное, переживал разлуку с семьёй, потерю всего того, чем он дорожил. Ему не были свойственны переживания Гильгамеша, и его депрессивное состояние, которое было заметным, имело совсем другую природу. К тому же, он находился в том периоде, когда уже всё, что было связано со следствием, судом и начальным периодом пребывания в лагере, осталось позади и наступили однообразные, серые дни лагерной жизни. А впереди не дни, а годы заключения и ссылки. Когда Василия забрали из камеры, мне оставалось ещё дней пять, и я уже думал о возвращении в лагерь и о днях, которые останутся до освобождения.
Но вернуться в лагерь и провести последние дни заключения с приятелями мне не пришлось. За два дня до окончания срока ШИЗО меня внезапно забирают на этап и привозят в Потьму. В Потьме переодевают в новый бушлат, новые штаны и куртку и отдают кое-что из моих вещей, доставленных из Барашево. На мои протесты относительно того, что большинство вещей не доставлено, никакого внимания. На следующий день меня принимает спецконвой, доставляет в вагонзаке поезда в Москву, а там в пересыльную тюрьму «Красная Пресня». В тот же вечер, после того как принял душ, спецконвой забирает меня из тюрьмы и привозит в аэропорт. Мы заходим в самолёт первыми и занимаем места в хвосте. Я сижу в наручниках у иллюминатора, а рядом один из конвоиров. Вскоре ТУ-134 пошёл на взлёт. Через какое-то время подошла к нам стюардесса, держа в руке конфеты. Увидев меня, одетого в бушлат и в наручниках, замерла, не зная, наверное, как ей быть: подавать мне конфету или нет. Я пошёл ей на выручку, отвернулся к иллюминатору, наблюдая за ритмично вспыхивающим в темноте ночи пламенем мотора. Где-то через час мы уже были в Борисполе. А там в воронок и в Лукьяновскую тюрьму. Было где-то за полночь. Спецконвой сдал меня дежурному на вахте, сказал, что через несколько часов заберут меня из тюрьмы. Я сидел в коридоре, где не было ничего такого, на что можно было бы прилечь. Утром появился спецконвой, посадил меня в воронок, и вскоре я уже был в камере Житомирской тюрьмы. То, что КГБ пошло на лишние расходы, доставив меня спецконвоем в Житомир, давало основание думать, что они, наверное, подозревали о моём намерении навестить в Москве диссидентов, а потому решили лишить меня такой возможности. До окончания срока было ещё дней десять, и мне ничего не оставалось, как ждать того дня.
Наконец наступило 27 января 1975 года. Мне выдают более 300 рублей, которые были на моём счёте, справку об освобождении, в которой указано, что я направляюсь в Барановский район, село Рогачёв (на мои протесты — указывал другое место — не обращают внимания). В справке указано и о том, что мне должны оформить админнадзор. Уже где-то после обеда представитель администрации тюрьмы посадил меня на автовокзале в автобус, который шёл до Новограда-Волынского. Погода была хоть и пасмурной, но по-весеннему тёплой. Снега не было. Я был легко одет, потому что зэковскую одежду оставил в тюрьме, но из-за того, что было тепло, своей внешностью не привлекал особого внимания пассажиров автобуса. Уже смеркалось, когда мы прибыли в Новоград. Слегка моросило. Прибыв, зашёл в магазин, купил куртку, шапку и, дождавшись автобуса (а что ещё оставалось делать?), выехал в Рогачёв. Выйдя в Рогачёве из автобуса, направился напрямик к родительскому дому. В доме темно. Зайдя во двор, подошёл к двери, постучал. В первой комнате вспыхнул свет.
— О, здесь уже электричество! — мелькнула догадка.
— Кто там? — слышу за дверью голос матери.
— Это я, Сергей!
Дверь открывается, и я захожу в освещённые сени. Смотрим друг на друга. Меня не ждали… Я всё-таки вернулся. И это возвращение выглядело возвращением блудного сына (за весь срок я не написал ни одного письма — никому. Никаких сантиментов!). Сказав «Добрый вечер», иду в комнату. А там и отец, услышав, наверное, кто приехал, уже сидит на кровати и ждёт моего появления. Поздоровался и с отцом. Я не бросаюсь к ним с объятиями. И они не бросаются, лишь смотрят на меня. Прошло 11 лет и 4 месяца, как я в последний раз был в этом доме. Изменились они. И я уже не тот, каким был в 23 года. Мне досадно. Ведь я полагался лишь на себя, а тут снова к родителям, потому что, выходит, некуда деться! И снова, как почти 12 лет назад, с пустыми руками. Поужинав, ложимся спать. Перед тем как лечь, сообщаю, что ещё затемно выеду из Рогачёва, потому что потом не смогу съездить к своему приятелю: меня поставят под админнадзор. Утром встал с постели. Ещё было темно, когда я сел в автобус, который ехал в Новоград-Волынский. Из Новограда выехал в Ровно, а оттуда в Луцк. Перед заходом солнца сел в Луцке в автобус, который шёл в Рожище. И тут в автобус заходят двое — милиционер и в штатском. Подходят.
— Вы дальше не поедете. Выходите из автобуса, — говорит мне милиционер.
Я протестую, но понимая, что автобус я задерживать не могу, да и пассажиры уже стали протестовать, выхожу. Меня посадили в автобус, идущий в Ровно. Я возвращаюсь, не только не встретившись с Павлом Андросюком, но даже не выяснив, проживает ли он в селе Раймисто. Ночью, поймав попутный грузовик, который шёл на Житомир, я, думая, что оторвался от тех, кто следил за мной (наверное, меня подвела моя близорукость), в Новограде не сошёл, а, прибыв в Житомир, собирался навестить кое-кого в Киеве. Но в Житомире меня снова задержали, и мне пришлось ни с чем вернуться в Рогачёв к родителям.
Кроме родителей в доме уже никого не было. Все разбежались кто куда. Надя на Харьковщине, Николай в Ракитном на Киевщине, Ольга в Житомире, а самый младший — Андрей — в Крыму. У всех уже свои семьи. Родители на пенсии. Мать получает ту колхозную — 12 рублей. А отец как инвалид-фронтовик и что-то там по инвалидности — 77 рублей. Огород свой ещё обрабатывают. Хотят, чтобы я был возле них. Но ведь если сложить руки, то для чего тогда было сидеть столько лет? Что ж, на какое-то время надо примириться с тем, что есть, потому что куда же деваться. Ведь нигде ничего. А если и выкопаешь в лесу крыивку, то что ты там сам будешь делать?! И кто туда с тобой пойдёт?! И для чего им идти туда?! Диссиденты меня не интересовали. Мне не подходила эта бумажная полулегальная возня тех, которые хотели принести себя в жертву, стать мучениками. Можно было бы попытаться перебраться за границу, но меня туда не тянуло. И что мне там было бы делать?! Разве что прибыть туда со своим капиталом. Что в СССР, что за границей зарабатывать себе на кусок хлеба у меня намерения не было. Почему я должен работать?! Пусть работают те, кто видит смысл в продолжении человеческого рода, кто превратил планету в муравейник, а тех животных, что не истребили, — в коровок в этом муравейнике.
Из всего, чем я мог бы ещё заниматься, это что-то связанное с оружием. Была мысль реализовать кое-что из того, на что были намерения в первые годы заключения — 1960–61-й годы. Хотя тоже: для кого и для чего?! И всё же, раз живёшь, то и должен чем-то занять себя, найти и себе какую-то забаву.
Меня поставили под административный надзор сроком на 1 год. Пообещали, что через полгода снимут, если не будет нарушений. Я уже не имею права выезжать без разрешения за пределы Барановского района. А с 10 вечера до 6 утра должен быть дома, иначе — новый срок за нарушение требований админнадзора. Сидеть тихо и ждать окончания админнадзора я не мог, а потому со временем перешёл в наступление. Мои требования были таковы: снимите надзор, чтобы у меня была возможность найти себе лучшее пристанище, а нет — то выделите мне квартиру в Житомире, потому что дом, в котором проживают родители, непригоден для современного проживания, или предоставьте возможность выехать за границу.
В заявлении (в КГБ или МВД) также указал, что если ни одно из моих требований не будет удовлетворено, то самовольно выеду за пределы Житомирской области. Моё наступление закончилось для меня тем, чего я никак не ожидал. Во время пребывания в Житомире (не помню, в каком месяце это было, но весной) возле меня останавливается машина скорой помощи, оттуда выходят двое в белых халатах, берут меня под руки и, посадив в машину, отвозят на Гуйву в 15-е отделение. Меня переодели и поместили в палату, которая под особым контролем. На мне зэковское (в отделении были и больные из мест заключения) бывшее в употреблении бельё и халат — всё затрапезного вида. А на кровати только засаленный матрас. Не просто грязный, а весь в каких-то больших разноцветных пятнах. Эта небольшая палата — для тяжелобольных. Кто-то из тех, кто был в палате, говорит мне, показывая рукой на мою кровать: «Здесь лежал с белой горячкой. Вчера умер». Я не сопротивлялся, потому что знал: это будет не в мою пользу. К тому же, откуда тем, кто меня переодевает, знать, кто я такой?! Я понял: я далеко зашёл со своей игрой, а потому теперь надо как-то выкручиваться. Уже на второй день мне дали бумагу и ручку. В обращении в управление КГБ по Житомирской области я написал, что произошло какое-то недоразумение, что надеюсь на вмешательство и помощь КГБ, что если меня немедленно не выпустят, то моя жизнь будет окончательно искалечена. Вскоре меня перевели в нормальную палату. Я уже свободно ходил по отделению. Хотя зав. отделением сказала, что меня долго держать не будут, я всё же сломал три ложки и сделал из черенков ключ-треугольник к входной двери и в одном из шкафчиков наметил спортивный костюм. Решил: если в скором времени не выпустят, то буду бежать. Бежать не пришлось: где-то примерно через неделю меня отпустили. И я уже не обращался с такими требованиями и угрозами ни в КГБ, ни в МВД.
Деваться некуда, а потому пришлось всё-таки в мае устроиться на завод культбыттоваров столяром в мебельном цеху по изготовлению канцелярских столов. А летом тайно съездил в Киев. Уже где-то в полночь позвонил в квартиру Леониды Светличной. На вопрос «кто?», ответил, что я из Мордовии и что мне нужен адрес Павла Кулика. Муж Лёли (так её все звали), Иван, находился в заключении, и я думал, что мы будем разговаривать через дверь. Но, на удивление, Лёля тут же открыла дверь и вышла ко мне. Я взял адрес и поспешил к выходу. Тем же летом, также тайком, побывал в селе Раймисто и в Ковеле. Павла Андросюка не застал: за несколько месяцев до моего приезда по обвинению в хулиганстве Павлу дали один год заключения. А Павла Кулика с его женой Груней (Агриппиной) уже вечером нашёл на окраине Ковеля. У него и заночевал, так что у нас было достаточно времени, чтобы вспомнить прошлое и выяснить, кто есть кто. Слухи подтвердились: Павел и Груня, которые были довольно активны среди шестидесятников, отойдя от политики, полностью отдались служению Богу в какой-то секте. Наверное, и их переезд на Волынь был связан с этой сектой. Павел, да и Груня, хотя я с ней не был знаком, были очень рады моему приезду. Коснулись мы и религии. Павел не старался доказывать мне, что Бог, без сомнения, существует. Мне даже казалось, что он хочет как-то оправдаться передо мной за свой отход от политической деятельности. Ведь тогда, в 1961–1962 годах, религия была для него на втором плане. Но мы быстро нашли общий язык, согласившись, что если Бога нет, то какой бы деятельностью ты ни занимался — политической или религиозной, — ты в проигрыше. Но, в отличие от политической, ты будешь в выигрыше, если Бог всё-таки есть, а ты отдашь себя полностью служению Богу — твоя деятельность тогда не будет напрасной. На следующий день Павел с Груней проводили меня до остановки, посадили на автобус, шедший из Бреста. Заодно побывал аж под Сарнами. Добрался попуткой из Ровно до какого-то села, откуда шла дорога к селу Кричильск, в котором должен был проживать после освобождения Кирилл Банацкий. Уже под вечер сел в автобус, который шёл в то село. Автобус тронулся, и я стал спрашивать у пассажиров, есть ли кто-нибудь из Кричильска. Отозвалось несколько человек. Спрашиваю у них, проживает ли в селе Кирилл.
— Проживал, но уехал куда-то на Донбасс, а родители его в селе, — отвечают мне.
Я останавливаю автобус, выскакиваю и спешу назад к автотрассе, потому что солнце уже на закате, а мне надо хотя бы до Ровно добраться. Не везёт мне. Нет тех надёжных, которые, по моему мнению, согласились бы что-то делать из того, что я предложил бы.
Ещё в августе я уволился с завода, надеясь, что что-то придумаю и перейду на нелегальное положение. Но у меня ничего не выходит. Не снимают и по отбытии половины срока админнадзора. Хотя админнадзор для меня не был обременительным. Стоило лишь позвонить в Барановку, что у меня есть необходимость на несколько дней съездить в Житомир, и я сразу же получал разрешение.
Конечно, я на снятие админнадзора и не очень рассчитывал, но ведь они обещали, а потому побывал в областном управлении МВД, где предъявил свои претензии генералу Прилуцкому, который пообещал сократить админнадзор. Заглянул и в КГБ по этому вопросу. (Вот в КГБ, кажется, от дежурного узнал, что следователя Фролова (1960 год) уже нет — умер от сердечного приступа. (Фролов оставил о себе и неплохое воспоминание. Уже где-то на второй или третий день после ареста (1963 год) под вечер я был во дворе КГБ. Возле меня группа кагэбэшников, которые проводили дома обыск. Один из них говорит мне:
— Не признаешься, и отца посадим.
Фролова эти слова возмутили, и он резко осадил того кагэбэшника. Помню из сказанного им лишь такое: «Замолчи! Ты что говоришь!» Больше Фролова я не видел.)
Админнадзор не сняли. Уже осенью, отправив сестру Ольгу в Москву к жене Любарского, я поручил ей, чтобы она, оторвавшись в Москве от возможной слежки, слетала в Краснодар, встретилась там с Михаилом Масловым и задала ему несколько моих вопросов. Сестра выполнила это поручение, но из ответа, который она привезла, я понял: Михаил «завязал». Мне ничего не оставалось, как ждать в Рогачёве конца срока админнадзора и освобождения Андросюка. Я чувствовал, что засиделся, но что было делать?! Так и сидел у родителей и ждал.
Из переписки с женой Любарского Галиной Саловой узнал, что она, не зная того, что я не собираюсь выезжать за границу (хотя и посетил ОВИР), взялась искать «родственников», которые должны прислать мне приглашение на выезд в Израиль.
(И мой выезд за границу был вполне реальным. КГБ, о чём я узнал из архива СБУ почти через 35 лет, хотело от меня избавиться. В декабре 1975 года Председатель КГБ УССР Федорчук направил В. Щербицкому докладную записку, в которой указал: «Считаем целесообразным не препятствовать ему, в случае возбуждения ходатайства, в выезде на постоянное жительство за границу». Резолюция Щербицкого: «Согласен». Думаю, что со стороны КГБ была попытка совершить в отношении меня гуманный акт. Наверное, считали, что так будет лучше как для них, так и для меня.)
А на меня снова наступают: требуют, чтобы устроился на работу, иначе будут проблемы со снятием админнадзора. Пришлось в январе 1976 года поступить плотником в Барановский межколхозстрой. Наконец весной сняли админнадзор. Я уже имел возможность ехать куда угодно. Часто бывал в Житомире и Бердичеве, в котором проживал с семьёй Олесь Водинюк. После освобождения с 10-го ему не разрешили проживать на Львовщине. Пришлось осесть в Бердичеве, построить себе дом. Олесь работал на заводе. И вот на том заводе у меня был забавный случай, в котором я мог бы стать причиной смерти одного из мастеров. А было так: прибыв к Олесю на завод, вызываю его на проходную. Пообщаться мы не смогли. В то время Олесь принимал должность механика завода, поэтому, будучи занят, он провёл меня на территорию и сказал, чтобы я его подождал. А чтобы не скучать в ожидании, могу походить по цехам, ознакомиться с производством. Я так и сделал. Не стоять же на одном месте. В прессовом цеху нашёл Вернигору — одного из тех бытовиков, что сидели на 10-м. После короткого обмена информацией Вернигора говорит мне:
— Там на втором этаже цех, в котором работают только женщины. Можешь пойти посмотреть, но имей в виду: там мастер, которому не нравится, когда посторонние заходят в цех.
Побродив, я решил и в тот цех заглянуть. Поднимаюсь на второй этаж, открываю дверь и захожу в цех. Вижу, что цех действительно не простой. Передо мной большое светлое помещение с деревянным полом. Середина помещения свободна, а вдоль стен в два ряда столы, за которыми в домашней одежде сидят, как дома за столом, работницы. Я сделал несколько шагов, как тут ко мне почти подбегает тщедушный мужичок, который сидел в кабинке у двери слева.
— Вы по какому делу? — спрашивает меня этот мужичок.
Я понял, что попал в трудную ситуацию: если я скажу, зачем зашёл, он сразу же на глазах у всех этих работниц, которые уже посматривают на нас, выгонит меня из цеха. Надо выкручиваться. Я на мгновение остановился и, немного повернув в его сторону голову, глянул на него свысока и сказал:
— Я инженер, пришёл ознакомиться с производством.
И, не обращая на него никакого внимания, зашёл между столов и, медленно идя и останавливаясь, поглядывал на кучки каких-то мелких деталей, лежавших на белых скатертях, и на молодых работниц, которые, услышав, что к ним прибыл инженер, с любопытством посматривали и на меня. Глянул я и на будку, в которой уже стоял тот мужичок и следил за мной. Пройдя между рядами работающих, я, даже не взглянув на того мужичка пенсионного возраста, вышел за дверь. Во дворе меня встретил Олесь и говорит:
— Иди к моему дому, у меня тут ещё куча дел.
Я пошёл к его дому. А вечером приходит Олесь. И сразу же мне, улыбаясь при этом:
— Что ты там наделал?
— Где, что я наделал? — удивлённо спрашиваю его.
Оказывается, как только я вышел из цеха, мастер, восприняв моё появление как своё увольнение, пенсионера, с работы, к тому же без предупреждения об этом решении, так разволновался, что потерял сознание и упал на пол. «Скорая» отвезла его в больницу.
Забавная получилась история с тем мастером. Наверное, то женское общество ещё долго вспоминало о визите неизвестного «инженера».
Дождавшись того времени, когда Андросюк уже должен был вернуться из заключения и немного отойти в домашних условиях от лагерной жизни, где-то в первой половине мая я прибыл к нему в с. Раймисто. Павел был рад встрече. Но это был уже не тот тридцатилетний бойкий Павел. Да и я уже был не тем, каким был на 17-м. 36 лет — это не то, что 22. Не знаю, как было у Павла, но в своих будущих действиях я не видел никакого смысла. Я прибыл к нему, потому что надо было чем-то себя занять. Логический ряд действий — логическое завершение было нарушено. Я не пошёл, как тот персонаж Д. Лондона, на дно. Оставшись на поверхности, лениво грёб руками, чувствуя бессмысленность своих действий.
Павлу шёл 45-й год. Чувствовалось, что жизнь уже несколько утомила его. И разочарование во многом, наверное, имело место. Коротко обменявшись рассказами о прожитых годах, приступили к тому, как быть дальше. Я предложил создать что-то вроде боёвки и перейти в подполье. Договорились, что через несколько недель я должен к нему приехать, и мы, обдумав всё, решим, с чего начинать. Но мы уже знали: в первую очередь нам нужно оружие. Провожая, Павел дал мне адрес двух братьев, которые проживали в Житомире на улице то ли Вокзальной, то ли Бородия. Они сидели с ним в лагере города Коростеня. Я должен был взять у них и заодно привезти Павлу вал для строгального станка. Я не стал спрашивать у Павла, для чего ему тот вал, если мы собираемся переходить в подполье. Но пообещал заодно привезти.
Как я уже говорил, у Павла не ощущалось того рвения, что было когда-то. Чувствовалось безразличие ко всему, а потому я решил ещё до второй с ним встречи приобрести кое-что из оружия. Итак, вернувшись от Павла, вскоре встретился с Николаем Радчуком, с которым летом 1975 года работал на заводе культбыттоваров, и предложил ему принять участие в похищении оружия. Николай не колебался, и мы очень быстро договорились. В этом ничего удивительного, потому что я не раз заводил речь о том, что жизнь, которой живём мы и окружающие нас, не достойна человека. Николай и не против был махнуть за границу. Судя по тому, как он реагировал на мои замечания, ничто не вызывало никакого сомнения в его искренности. Я, конечно, мог бы найти человека, который с Николаем совершил бы это похищение, но я из тех, кто хочет собственноручно реализовать свою идею. В данном случае из тех, кому и в голову не приходит загребать жар чужими руками. Договорившись, где-то через неделю мы были в Гульске. Прибыли вечером на велосипедах. В селе храмовый праздник — село гуляет. Недалеко от клуба в неосвещённом месте группа старшеклассников. Николай присоединился к группе как один из прибывших на праздник, завёл там с кем-то разговор о школьных делах, и тот школьник сказал, что на днях должны завезти в школу оружие и он будет проходить практику по стрельбе.
Вечером, 25 мая, мы снова в Гульске. Подошли к школе. Входные двери не были заперты. Как только мы зашли, появился сторож. Я приказал ему на русском языке показать комнату, в которой находится оружие. Посвёчивая фонариком, подошли к обитой жестью двери комнаты. Вырезав дыру в двери, я остался возле сторожа, а Николай, взяв у меня фонарик, залез через дыру в комнату и вскоре подал мне автомат и две винтовки, как оказалось, не мелкокалиберные, а пневматические. Когда Николай вылез, я приказал сторожу залезть в комнату и сидеть там тихо. Хотя сторож в темноте не видел наших лиц, всё же я ему пригрозил, что если он в случае чего будет указывать на нас, то его и его семью будет ждать смерть. Добравшись до автодороги Новоград — Барановка, мы спрятали автомат и пневматические винтовки в канаве и, дойдя до села Прапор, разошлись: я поехал на велосипеде в сторону Рогачёва, а Николай пошёл в Смолдырев.
Через несколько дней я поехал в Москву пообщаться с москвичами. Взял с собой и сестру Ольгу. В Москве пробыли два дня. Навестили Елену Сиротенко — приятельницу Паруйра Айрикяна, с которым я познакомился осенью 1974-го в Барашево, зона 3-го лагеря, Галину Салову (у неё и переночевали), Алика Гинзбурга, Людмилу Алексееву и Александра Петрова — Сан Саныча. Москвичи встретили приветливо. Особенно Салова, которая была больше информирована обо мне. Взяв у Саловой и Алексеевой небольшое количество журналов «Хроника текущих событий» и две книги, в одной из которых писалось о голоде на Украине в 1932–1933 годах, вернулся с сестрой в Житомир. Прибыв в Житомир, на следующий день навестил в санатории на окраине города Николая Радчука с целью выяснить, не перенёс ли он в другое место автомат и всё ли «тихо». В тот же день под вечер навестил приятелей Андросюка. Должен сказать, что братья произвели на меня хорошее впечатление. Пообщавшись, я взял у них вал и отправился на автовокзал. Проводить меня пошёл старший из братьев — Борис. И не просто проводить, а и помочь: вал был весом более 20 кг. Придя на автовокзал, сели на скамейку. Тут же на соседнюю скамейку, стоявшую на расстоянии около 5 метров, сел какой-то тип, повернувшись к нам спиной. В нём было что-то несвойственное прибывшему на вокзал. Более того, это был оперативник.
Приехав в Рогачёв, через день-другой съездил на велосипеде за автоматом. Вернувшись в село, свернул на Каменный Брод. Добравшись до леса, зашёл в густые кусты по левую сторону дороги и, тщательно осмотрев автомат (АКМ), спрятал его в вырытой канавке. Хотя на автомате было выгравировано «Учебный», все его механизмы работали исправно. Никаких повреждений я не обнаружил. Как бы там ни было, но если с этим автоматом подойти даже к нескольким вооружённым солдатам, у которых автоматы за плечами, и скомандовать «Ложись!», то эти солдаты, без сомнения, легли бы на землю, и их оружие стало бы твоим.
На работу в межколхозстрой уже не выходил, заявив, что буду увольняться. Перед поездкой к Андросюку стал помогать отцу ремонтировать сарай. Настроение какое-то испорченное. Снова, как тогда в госпитале перед арестом в сентябре 1963 года, какой-то внутренний дискомфорт, какая-то несвойственная мне нервозность. А тут и отец, с которым я был на крыше того маленького сарая, говорит мне:
— Что-то какие-то двое стоят напротив наших ворот и смотрят на нас.
Но я тому не придал никакого значения.
— Ну и пусть себе смотрят, — ответил я на это отцу.
Кто они были и имели ли какое-то отношение ко мне — осталось неизвестным. На следующий день, хотя работа не была закончена, я взял сумку с валом и пошёл на Довбышский поворот. Я не скрывал от отца, что везу этот вал на Волынь. И хотя отец просил, чтобы я не ехал, потому что нужно закончить ремонт, я не послушал, сказав, что вернусь и тогда закончим. Да и что для меня был этот сарай, этот дом — непригодный, как и почти все в селе, для современной жизни. Ведь я знал: если у меня всё будет так, как задумано, то дам родителям деньги, и они построят себе и дом новый, и сарай.
Прибыв в Новоград, добрался до железнодорожного переезда и стал ловить попутную машину. Вскоре такая машина появилась. Я сел в кабину грузовика, и машина тронулась в сторону Ровно. Вскоре машина остановилась. Открываются дверцы, и мне приказ: «Проверяем машину. Выйдите из кабины!» Я ещё не ступил с подножки на землю, как меня подхватывают под руки и отводят к легковой машине. Забирают из кузова и сумку с валом. Чувствуется, что они разочарованы результатом поверхностного обыска. А особенно тем, что в сумке оказался самый обычный вал. Наверное, те, кто дал приказ на задержание, считали, что в сумке что-то важнее. Грузовик уехал. Двое в штатском отошли в сторону и, прохаживаясь туда-сюда вдоль дороги, что-то обсуждали. Но вот все сели в машины, и два легковика, развернувшись, двинулись в сторону Новоград-Волынского. Когда прибыли к Новоград-Волынскому отделению милиции, то машина, в которой я сидел, остановилась на расстоянии метров ста от отделения. В машине, кроме меня, остались водитель и какой-то тип в погонах, если не ошибаюсь, старшего лейтенанта. Вокруг — никого. И вот этот тип стал толкать меня кулаком, таскать за волосы. На мои требования прекратить издевательства — никакого внимания. Хотя я и не был в наручниках, но ответить ему тем же я не мог. Я понимал: он это делает для того, чтобы я набросился на него и этим дал повод для оформления протокола на задержание, а то и возбуждения уголовного дела.
Вскоре в машину подсели, и в скором времени я уже был в Житомирском Управлении внутренних дел, которое находится на бульваре. Меня отвели то ли на второй, то ли на третий этаж, и там мной занялись в одном из кабинетов двое оперативников. Они были в штатском. Посыпались удары. Били по туловищу, в основном по солнечному сплетению, от чего я даже падал на пол, требуя при этом признания в содеянном преступлении. На мой вопрос: «В каком?», отвечали: «Сам знаешь!». Периодически в кабинет кто-то заходил и также требовал признания. Через несколько часов, ничего не добившись, сообщили о задержании Радчука и уже требовали признания в похищении автомата. Я отрицал. Издевательства продолжались. Мне ничего не оставалось, как терпеть удары и фиксировать ту информацию, которую они могли получить только от Радчука. В драку с ними я не лез. Терпеливо сносил удары, чувствуя себя тем, кто должен пройти испытание пытками, что-то вроде американского спецназовца, в программу подготовки которого входит испытание на способность выдержать истязания. Ничего не добившись, меня почему-то повели вниз и завели к начальнику Управления генералу Прилуцкому, с которым у меня в прошлом году было две встречи. (Первая состоялась в январе 1975 года после того, как я возвращался из Луцка и оказался в Житомире). На моё заявление о том, что надо мной издеваются, Прилуцкий не среагировал, сказав лишь как-то неуверенно, что я должен признаться в содеянном. Скорее всего, он воспринял выдвинутое мне обвинение как выходку КГБ. Меня отвели обратно в тот же кабинет и продолжали требовать, чтобы я отдал автомат. Периодически издевались, но уже не так напористо, потому что, наверное, убедились, что из этого ничего не выйдет. Я уже знал, что Радчука после задержания свозили к той канаве, и он отдал две пневматические винтовки и детально рассказал о том, как всё происходило. Я понимал: я влип! К тому же так по-дурацки! Хотя и понимал, что мне уже не выкрутиться, но продолжал стоять на своём: я к этому не причастен.
Так и не добившись от меня желаемого результата, уже под вечер меня отвезли в ИВС. В камере, кроме меня, никого не было, так что мне никто не мешал обдумывать ту ситуацию, в которой я оказался. А ситуация была не из простых. Она усложнялась тем, что я не успел показать Радчуку то место, в котором перепрятал автомат. Если бы он знал, то отдал бы и автомат, а я ни в чём не признавался бы. На автомате я не оставил никаких следов, так как вытер его тряпкой. Лучше всего было бы, если бы он ни в чём не признавался (о чём я ему не раз говорил, на случай ареста), и тогда, скорее всего, им пришлось бы отказаться от обвинения в похищении оружия. Во всяком случае, обвинить меня в похищении оружия без показаний Радчука милиция не смогла бы. Но как бы там ни было, он не попытался ни отрицать всё, ни даже взять дело на себя! (А он это мог сделать, потому что кроме одного свидетеля, который его опознал, больше никаких показаний на него не было. К тому же тот свидетель видел его вечером на храмовый праздник (ещё до похищения), а значит, скорее всего, был подвыпивши и мог обознаться. А взяв дело на себя, он мог бы показать, что сам похитил, и что никакого сторожа не было. А автомат, который он спрятал с пневматическими винтовками (отдельно от них), наверное, кто-то обнаружил и забрал.) Радчук мог бы поступить по-другому, но он по-другому не поступил, и в этом его вина. Но велика и моя вина. Во-первых, я в тот вечер недостаточно проконтролировал его поведение, к тому же не дал полных инструкций — тогда не было бы того свидетеля. А во-вторых, возвращаясь из Москвы, мне ни в коем случае нельзя было встречаться с Радчуком в Житомире. Я допустил легкомыслие, забыв об агентуре, которая, бесспорно, следила за мной. Я почему-то считал, что меня никак не могут заподозрить в похищении учебного оружия из школы.
Не верить Радчуку у оперативников уголовного розыска не было оснований. Я понимал: как бы там ни было, а меня уже не выпустят из тюрьмы. А дать дополнительный материал в суд для них не было проблемой — дополнили бы показания Радчука каким-нибудь «свидетелем». Не выпустят даже и после того, как отсижу срок. Если не отдам автомат, то ещё до окончания срока заключения сфабрикуют новое дело. Кроме того, без сомнения, что дома уже сделали обыск и изъяли привезённую из Москвы литературу, которую я почему-то даже не спрятал, забыв, какие последствия могут быть за её хранение. Я почему-то вёл себя уже не так, как в 1963 году. Появилась какая-то небрежность и игнорирование нависшей над тобой опасности. Инстинкт ощущения опасности был усыплён. Возможно, из-за того, что уже почти полтора года как на воле. Да и общение с диссидентами, которые действовали, можно сказать, полулегально, почему-то побуждало к тому, что я и к их самиздату относился как к чему-то полузаконному — к чему-то такому, на что КГБ не очень обращает внимание. Ещё в дороге из Москвы кагэбэшники могли бы изъять ту литературу, которая находилась в сумке моей сестры, но, наверное, были уверены, что я не стану так легкомысленно подвергать себя опасности. В середине 70-х годов я уже был не тем, что в 63-м, когда у меня был стимул к действию — обещание помочь в побеге и ещё какие-то проблески юношеского желания что-то совершить. А это уже и возраст был не тот, и стимула фактически не было. Было лишь понимание, что надо что-то делать, чтобы не быть в роли добровольного невольника. Чёткой же цели для действий не было. Было безразличие. Было лишь желание заполнить пустоту не тем, к чему тебя принуждают, — в данном случае работой на предприятии, а чем-то другим, хотя и не видел, что именно из всего того «другого» могло бы принести хотя бы какое-то утешение. Это душевное состояние и повлекло такое отношение ко всему мной совершённому. Так что меня могут судить не только за автомат, но и за хранение антисоветских изданий. Я хоть и не играл с азартом, но снова в проигрыше — в роли дурака. А можно было не торопиться. Встретился бы с Павлом, и мы, конечно же, что-нибудь придумали бы, где достать оружие. Угнетало не столько то, что снова оказался в камере, сколько то, что всё так по-дурацки вышло. Как же выкрутиться из этого дурацкого положения? Как их переиграть? — думал я, сидя на нарах или прохаживаясь по камере. Я знал, что кроме привезённых изданий будет изъято и большое письмо к Гале, в котором я описал размышления и переживания Гильгамеша (ориентируясь на фрагменты из эпоса), Экклезиаста, Д. Лондона с его персонажем Мартином Иденом и других, которые поняли, что всё суета, что жизнь не имеет смысла. Изложил и своё видение. И хотя всё, что было написано, в большей степени соответствовало моему состоянию души в начале 60-х годов, всё же из письма выходило, что это моё нынешнее состояние души и я готов пойти на дно, как тот Мартин Иден. Итак, то письмо и… похищение оружия! Выходило, что оружие мне было нужно для того, чтобы покончить с жизнью. На этом можно было бы сыграть. Но где гарантия, что если я сделаю такое заявление, то то письмо будет приобщено к делу, что оно не будет уничтожено? Такой гарантии не было. А потому этот вариант защиты я решил разыгрывать более тонко. Значит, о письме ничего не говорить, делая вид, что я не заинтересован в том, чтобы это письмо фигурировало в деле. Есть ещё вариант: предложить им сотрудничество в обмен на то, что не будет возбуждено дело о похищении оружия, а заодно, конечно, и по изданиям, привезённым из Москвы. А почему бы не попытаться вырваться, предложив КГБ сотрудничество? Главное — вырваться. А там… Итак, обдумав всё, уже под утро принял окончательное решение: признаться в похищении, отдав им автомат. Утром на мой вызов подошёл какой-то офицер-эмвэдэшник, и я ему заявил, что отдам автомат, но перед этим мне нужно встретиться с представителем КГБ. После этого очень быстро появились два кагэбэшника. Меня вывели из камеры в широкий коридор, и один из них спросил, какое я хотел бы сделать заявление. Я сразу же приступил к делу. Сказал им следующее:
— В 1963 году Житомирское КГБ предлагало мне сотрудничество. Я сожалею, что не принял то предложение. Если уголовное дело не будет возбуждаться, то я готов сотрудничать с КГБ. Мне доверяют, и я мог бы предоставлять ценную информацию.
— Хорошо, но какая информация у вас есть и что бы вы могли нам об этом сообщить?
— Ну, информации у меня пока нет, потому что я ни с кем за последнее время не общался. Но я мог бы вступить в контакт и иметь то, что вас интересовало бы.
— У кого вы взяли ту литературу, которую привезли из Москвы?
— Да, я привёз её из Москвы, но у тех, с кем там встречался, ни у кого не брал. Правда, я говорил при встречах, что хотел бы иметь что-то из самиздата. А литературу получил, когда уезжал из Москвы. На вокзале ко мне подошла какая-то женщина и, сказав: «Вы хотели самиздат», — подала мне небольшой пакет и тут же отошла. Думаю, что это было сделано из конспиративных соображений.
Как только я закончил своё объяснение, разговор сразу же был окончен, и меня завели обратно в камеру. Что ж, не поверили. Не мог же я сказать, у кого взял ту нелегальную литературу!
Вскоре группа эмвэдэшников, которую возглавлял полковник уголовного розыска, с собакой, на двух машинах через Рогачёв прибыла к лесу, где был спрятан автомат. Я показал на кусты. Тут же было выставлено оцепление, и в сопровождении полковника я подошёл к кустам и стал осматриваться вокруг, ища место схорона. Вот и тот тайник. Кто-то из эмвэдэшников хотел сфотографировать, но я запретил, сказав, что в таком случае автомат отдавать не буду. Я вытащил автомат и отошёл немного в сторону.
Началось следствие. Как я, так и Радчук, показываем, что у нас не было намерения похищать автомат, что мы намеревались похитить только мелкокалиберку, что автомат попался нам случайно. Следователь Павловский спросил меня и о Гале, поинтересовался, кто она такая. Из этого я понял, что он ознакомлен с тем письмом. Ну а для чего мне была нужна мелкокалиберка, следователь не выяснял, лишь как-то сказал: «Если бы вы наведались туда в предыдущую ночь, то могли бы взять гораздо более ценное». Без сомнения: мы тогда опоздали. Всего на одну ночь.
Я то в Житомирской тюрьме, то в ИВС Новоград-Волынска. В тех поездках впервые услышал в камере вагонзака обращение ко мне какого-то юноши: «Пахан!». И действительно, для того юноши я уже в прямом смысле был паханом, ведь мне шёл 37-й год. Уже не пацан! Хотя, к стыду, сел за дело, которое подобало бы пацану. Сидел, конечно, с уголовниками, среди которых моих ровесников и тех, кто немного старше, было совсем мало. Никто из заключённых меня не расспрашивал, за что посадили, — не принято, но знали, что за автомат, и то, что перед этим сидел на особом режиме, — был «полосатым», что выделяло меня среди них и придавало мне должный вес в их среде. Расследование дела быстро подошло к своему завершению. Да и расследовать там было нечего. Мы давали показания, а следователю оставалось лишь оформлять протоколы. Но когда следствие закончилось, оказалось, что доказательств моего участия в похищении автомата не совсем достаточно.
Кроме показаний Радчука и моего подтверждения его показаний, в деле ничего не было. Хотя сначала я не преследовал цели отказаться от своих показаний, но обычно старался ничего лишнего не говорить. Отказался и от поездки в Гульск для воспроизведения кражи. Но когда ознакомился с заключением экспертизы, которая признала автомат боевым (а это ст. 223 — до 15 лет заключения), то стал обдумывать варианты отказа от участия в краже. Моему отказу способствовало и то, что, согласно материалам дела, Радчука, который указал на меня, задержали через семь часов после моего задержания. Так что на каком основании меня задержали, оставалось неизвестным. В деле никакого материала не было. Также показания сторожа, который показал, что лиц тех воров он не видел, и хотя описал их внешность, ни одна из них не совпадала с моей. Проблемой было одно: как передать записку Радчуку? Уже после окончания следствия, когда нас везли из Новограда в Житомир, я увидел, что такая возможность может появиться. И вот нас отправляют обратно в Новоград — на суд. У меня во рту уже лежит записка, в которой я описал, какие показания должен дать Радчук в суде. А именно: он похитил автомат с Андреем, с которым незадолго до кражи познакомился. И что «Андрей», встретившись с ним после похищения, сказал ему, что автомат находится у их знакомого — Бабича. Я расписал (кратко) всё в деталях. А это: его знакомство с ним и описание его внешности. А чтобы это было легче запомнить — как ему, так и мне, — то я указал на нашего знакомого, с которого мы должны были рисовать портрет этого «Андрея». Деталей было немного, и их нетрудно было запомнить. Из всего этого выходило фактически следующее: кто-то подсунул (выходит, что КГБ) «Андрея», который и подбил Радчука на кражу, чтобы потом предложить мне этот автомат купить, рассказав при этом об обстоятельствах кражи. Радчук же, зная, что автомат у Бабича, решил указать, что похитил с Бабичем.
Небольшую группу заключённых (где-то до 10 человек) берут на этап. Мы в этой группе. На нас никакого внимания. Я отвожу Радчука немного в сторону, передаю записку, сказав при этом, чтобы в местах обыска держал записку во рту, а если заглянут в рот, то чтобы проглотил. Вручая записку, я был уверен: ознакомившись с запиской, Радчук её уничтожит. Эта уверенность основывалась на том, что Радчук рассказал о краже, но о наших беседах и наших намерениях не сказал ни слова. Мы в Новоградском ИВС. Радчук в соседней камере. Уже где-то под вечер слышу постукивание в стену. Это сообщение: «Согласен. Записка уничтожена».
Через несколько дней везут в суд. Зал небольшой, присутствующих немного. Я сразу же заявил, что к похищению непричастен, что мой знакомый «Андрей» предлагал мне купить автомат, но поскольку я заказывал пистолет, то отказался от автомата, тем более учебного. Окончательного решения я не принял, а потому «Андрей» в моём присутствии спрятал автомат, потому что мы должны были ещё раз встретиться, и при встрече я должен был сообщить ему о своём окончательном решении. Ещё до прибытия в суд я видел, что Радчук какой-то растерянный, чувствовалась нерешительность в его поведении. Его что-то беспокоило. В нём шла какая-то борьба. После моего короткого заявления судья обращается к Радчуку, чтобы тот рассказал, как всё происходило. Радчук встал со скамьи и, опустив голову, молчал. Судья снова обращается к нему, но уже более настойчиво. Наконец какое-то неразборчивое звучание отдельных слов, заикание. Как я понял, в нём ещё шла борьба, ещё была какая-то неопределённость. Он был не в состоянии построить из слов какое-либо предложение. Тогда судья спрашивает:
— Ну, а всё-таки Бабич с вами был?
— Да, — ответил Радчук. Вот и все его показания. Но этим «да» он подтверждал те показания, которые были в протоколах. Мне хотя и неприятно было это услышать, потому что рушилась так хорошо выстроенная башня, но я понимал: разум всё-таки поборол чувства: будешь спасать другого — сам потонешь. На том рассмотрение дела было прекращено. Сделали запрос в райотдел милиции относительно того «Андрея», который проживал (с его слов) в Каменном Броде, и получили ответ, что такой в Каменном Броде не проживает. Получив такой ответ, суд возобновил заседание. На продолжении рассмотрения дела Радчук уже полностью овладел собой и дал дополнительное показание против меня. Он заявил, что им была получена от меня записка и что ту записку он уничтожил. Вызвали и его сокамерника, который подтвердил, что видел, как Радчук рвал какую-то бумажку на мелкие клочки. (Но ведь тех клочков нет. Они в канализации.) Такие показания были мне только на пользу: в первый день и слова не мог вымолвить, а тут вдруг разговорился, ещё и записку вспомнил. Очень похоже, что им кто-то руководит, что это какая-то провокация КГБ. Ходатайство адвоката провести дополнительное расследование было отклонено.
На этом всё и закончилось. Мне дали 15 лет особого режима с пребыванием первых пяти лет на тюремном заключении. А Радчуку — 3 года. А что касается изъятой литературы, то её выделили в отдельное производство, но уголовное дело не возбуждали. КГБ удовлетворилось тем, что я получил. Кстати, хотя я в суде говорил, что хотел приобрести пистолет, но, на удивление, никого не заинтересовало, для чего мне нужно было оружие. Наверное, я тогда допустил ошибку, не сказав адвокату о том письме, ведь не исключено, что если бы то письмо нашлось, то адвокат мог бы приобщить его к делу и подойти к делу с другой стороны. Возможно, мне удалось бы пойти на стационарное обследование в каком-нибудь психиатрическом учреждении и попытаться там совершить побег. Или хотя бы избежать тюремного заключения, из которого не сбежишь. Я себя переиграл. А события развивались быстро.
В сентябре я уже был в камере Винницкой тюрьмы. И уже в тюрьме в своих заявлениях в прокуратуру я стал обращать внимание на то, что вопрос, для чего мне было нужно оружие, не выяснялся и что на этот вопрос ответ есть в том письме, которого почему-то не приобщили к делу. Мне хоть и не удалось добиться отмены приговора, но думаю, что мои заявления поспособствовали в обретении какого-то сочувствия со стороны администрации тюрьмы, и мне не пришлось отбывать в тюрьме пять лет.
В Виннице после нескольких дней пребывания в камере с неработающими меня зачислили в бригаду заключённых, которые нарезали резьбу в головках для спиц к мотоциклу, и подняли на третий этаж в камеру к заключённым этой бригады. Это был так называемый малый корпус, в котором содержались только заключённые особого режима. Камеры площадью где-то 8 кв. метров на четыре человека. Двухъярусные койки по бокам камеры. У двери — унитаз. Сокамерники произвели положительное впечатление. В этой же камере находился и бригадир. Звали его Владимиром, родом из Вольнянска, что на Запорожье. На следующий день меня вывели на работу. Вывели и заключённых ещё из двух камер. Из тех, кто работал тогда в цеху, запомнил только две фамилии. Это Вячеслав Кузьмин и Анатолий Козин — в прошлом чемпион Украины по боксу в лёгкой или полулёгкой категории.
Наш цех — большая камера — находился на первом этаже рабочего корпуса. Вдоль стен по большей части периметра цеха — рабочие места. А рабочее место — это табуретка и электромотор, в котором закреплён метчик. Работа была грязной — руки всё время в масле, но в этой камере под шум моторов можно было уединиться в этом мешке — на какое-то время не чувствовать присутствия других.
На обед нас выводили в столовую, где, кроме нас, по очереди обедали заключённые из других цехов. Что касается питания, то хотя еда, как и везде в местах заключения, была малокалорийной и невкусной, но не голодали, хотя и ощущалась недостаточность потреблённой пищи. У всех были деньги, а значит, все регулярно (два раза в месяц) закупали продукты на 4 руб. основных и по 2 руб. за перевыполнение нормы. В целом условия содержания заключённых были легче по сравнению с теми условиями, которые были во Владимирской тюрьме. В Виннице никто не требовал, чтобы ровно в 6 утра ты уже был на ногах и до 10 вечера не смел прилечь.
Во время моего первого пребывания в Винницкой тюрьме, как в камерах, так и в цеху, отношения между заключёнными были нормальными. Никто никого не притеснял, драк не было. Наверное, это было связано с тем, что в бригаде большинство было из тех, кому уже перевалило за тридцать, кто уже насиделся, а следовательно, их уже не тянуло на какие-то дурацкие подвиги. К тому же администрация тюрьмы подбирала в рабочие камеры неконфликтных заключённых. А если кто-то и начинал создавать конфликтную ситуацию, то такого очень быстро переводили в камеру неработающих. Отношения с заключёнными у меня были нормальными. Правда, была попытка создать ко мне негативное отношение — распространялся слух, что я стукач. Об этом я случайно узнал, когда один из заключённых, которому я сделал какое-то замечание, обозвал меня стукачом. Я тогда сразу же сообразил, что если этот, обычный себе заключённый, позволил себе такой выпад, то это не только его мнение. Выключив мотор, я подошёл к Веньке, который в цеху пользовался наибольшим авторитетом, и высказал ему своё возмущение. Венька поддержал меня. Вернувшись к тому заключённому, я впился грозным взглядом в его лицо и с требованием выпалил:
— Факты!
Он, конечно, видел, к кому я подходил, и понял, в какую ситуацию попал, а потому, извиняясь, сказал мне, что такой слух ходит среди заключённых. Ну, а того, кто распускал этот слух, в цеху уже не было — уехал из тюрьмы.
В тюрьме была библиотека, но я ею не пользовался: читать там было нечего. Да и что мне было читать, когда уже давным-давно пришёл к выводу: человечество ничего не потеряло бы, если бы сожгло всю литературу, оставив лишь «Суету сует» Экклезиаста.
За работой в цеху и за той вознёй с прокуратурой, которую я затеял, требуя пересмотра дела, быстро пробежало три года заключения.
Со стороны администрации тюрьмы отношение ко мне было нормальным и, я бы сказал, сочувственным. Особенно это ощущалось со стороны майора Крыжановского. Я уже был настроен отсиживать в Виннице весь тюремный срок, но неожиданно администрация подала в суд ходатайство о переводе меня в лагерь, так как я уже отсидел половину тюремного срока. Рассмотрение ходатайства происходило следующим образом: меня заводят в какое-то помещение, в котором заседает суд; судья требует, чтобы я признал себя виновным. А это означает — признал свою причастность к похищению автомата. Я отказался. Тогда судья объявляет, что в таком случае суд не может удовлетворить ходатайство администрации. Меня выводят за дверь. И тут появляется замполит Крыжановский, говорит мне, что попробует всё уладить. По выражению лица вижу, что Крыжановский возмущён позицией судьи. Он заходит в суд. Вскоре меня зовут в помещение, и судья объявляет, что меня переводят в лагерь.
В августе 1979 года меня вывезли из тюрьмы. Удовлетворили и мою просьбу — отправили в Бердичев. Бердичев меня больше всего устраивал: там проживал Олесь Водинюк, рядом Житомир, да и недалеко другие места — проживания родителей, братьев, которым будет ближе ездить на свидания. Они и в Винницу при каждой возможности приезжали на краткосрочное — через стекло. Приезжал с сестрой Ольгой и Олесь.
Прибыв в Бердичев, попал в большую камеру на втором этаже корпуса старой тюрьмы. Койки одноярусные. Сокамерники, как и в промзоне, в которую меня стали выводить на работу, — нормальные люди. Тут уже легче. Как-никак, а в рабочие дни 8 часов уже вне камеры. Вскоре познакомился с Мелетием Семенюком, которому влепили 5 лет по сфабрикованному делу. Мелетий — долголетний политзаключённый, замечательный, надёжный человек. Перед этим Мелетий был в Мордовии и в Норильске на каторге, где принимал участие в восстании каторжан. Встретил здесь и одного из бытовиков — Анатолия Матяша, который раньше сидел в Мордовии.
Где-то через месяц получил длительное свидание на трое суток. Такое свидание у меня впервые за все годы заключения. Приехала мать с сестрой Ольгой.
В свободное от работы время (а его было вдоволь) обхожу промзону и ищу место, откуда можно было бы совершить побег. И такое место нашлось. В углу промзоны за запреткой стояла кирпичная труба какой-то кочегарки. С крыши высокого двухэтажного цеха, который почти примыкает к узкой запретке, можно бросить верёвку и в сумерках спуститься во двор кочегарки. Проблемой было лишь то, что не за что было зацепиться крючку брошенной верёвки. Нужно было, чтобы на том дворе кто-то незаметно натянул проволоку, за которую зацепился бы крюк. Угловая вышка, с которой просматривался этот участок запретки, оказалась бы внизу, и верёвку с вышки не было бы видно. Я уже и верёвку заготовил. Но вдруг в декабре меня забирают на этап, и я оказался в Изяславе, в лагере, который размещался в бывшем монастыре. Этот лагерь примыкал к высокому западному берегу реки Горынь. Здание монастыря, в кельях которого размещались камеры, примыкало к узкой запретке, за которой сразу же шёл крутой склон к реке. По тому склону, где-то за год или два до моего прибытия, собирался скатиться один из заключённых-беглецов. Он выпилил решётку, выбрался ночью из камеры и, каким-то образом выбравшись на крышу высокого здания, спрыгнул к тому склону. Как рассказывали мне заключённые, его схватили и отвели в камеру ШИЗО. Там он вскоре умер. Одни говорили, что его в ШИЗО избили, а другие считали, что он что-то отбил себе при падении и от того умер. Лагерь в Изяславе — один из пяти лагерей особого режима в Украине (Изяслав, Сокаль, Городище, Бердичев, 60-й на Луганщине), который славился наиболее жестоким режимом. В этот лагерь свозили в основном непокорных.
В мрачной келье, в которую меня завели, стояли не койки, а двухъярусные нары, на которых размещалось более трёх десятков заключённых. В камере накурено. К накуренному добавлялся и дым от бумаги, на которой в кружках заваривают чай. Это уже не та камера, что была в Бердичеве — светлая, и дыма в которой не ощущалось. Хорошо хоть то, что и тут есть унитаз в камере. Можно себе представить, как было в этой камере, когда ещё и вонючая параша стояла. Я занял свободное место на верхних нарах. На следующий день вывели в промзону, в которой изготавливали ковши для трактора и другие металлические изделия. Я был среди тех, кто изготавливал металлическую ограду, а именно: отматывал с бухты проволоку разного калибра, отрубал от бухты и, закрепив концы, включал лебёдку и вытягивал этот отрезок, где-то около 40 метров, в струну. А потом вручную рубил на отрезки заданной длины. Зима. Погреться негде. Ни один из цехов не отапливался. Разжечь какой-нибудь костёр также не разрешалось. Даже в токарном цеху токари вытачивали детали, будучи одетыми в бушлаты. Из-за этого одному токарю станком оторвало руку по локоть. Я какое-то время не приступал к работе, а потом (куда денешься?) сдавал какой-то минимум от нормы, чтобы не писали в рапортах отказ от работы. Я думал о побеге, но ничего не находил. Не мог и понять, по какой причине меня вывезли из Бердичева. Но где-то летом меня вызывают из камеры. Захожу в кабинет, в котором сидит человек в штатском. Оказалось — это кагэбэшник Стеценко, который ведёт надзор за политзаключёнными. Стеценко рассказал мне о кое-ком из моих знакомых по Мордовии. И уже не помню, то ли дал прочитать, то ли сам читал донесение Анатолия Матяша (Бердичев) о том, что я подбивал его принять участие в праздновании Дня политзаключённого в СССР и провести какие-то там мероприятия — что-то о распространении листовок. Почему этот кагэбэшник навестил меня и почему ознакомил с «донесением» Матяша, для меня так и осталось неизвестным. Возможно, что это «донесение» и стало причиной того, что меня перебросили в Изяслав, хотя, думаю, что вряд ли кагэбэшники поверили Матяшу, что я могу заняться такими глупостями — листовками в лагере. Ведь они хорошо знали, что бытовики могут что угодно наговорить, лишь бы получить хотя бы пачку чая. (Скорее всего, кагэбэшникам было нецелесообразно держать меня и Мелетия Семенюка в одном лагере). Стеценко отнёсся ко мне довольно доброжелательно. Даже угостил новым напитком — «пепси-колой» — и дал пачку чая и пачку печенья.
Уже где-то осенью я случайно получил от одного заключённого информацию о том, что на берегу реки есть зарешёченное отверстие то ли какой-то канализации, то ли другого подземного прохода, по которому, наверное, можно было бы выбраться из лагеря. Я решил это проверить. Поскольку очередного длительного свидания я был лишён (было лишь короткое, через стекло, по телефону с отцом), то выбрал одного из заключённых по фамилии Брыль, который шёл на свидание и который был не против совершить побег. Договорились, что его родственник отвезёт записку моей сестре. А она уже могла бы отвезти записку Андросюку, который проверил бы, действительно ли в берегу реки есть подземный выход из лагеря. А ещё до этого я сблизился с одним из вольнонаёмных, который работал в промзоне мастером. Втайне он приносил мне чай и кое-что из продуктов, согласившись помочь мне в побеге. Но не за «спасибо», а за довольно значительную сумму. Будучи уверенным, что этот мастер подослан то ли КГБ, то ли опером, я решил использовать его для того, чтобы отвлечь внимание от настоящего плана побега. Сначала я отправил его к Водинюку в Бердичев. Через какое-то время встречаемся, и мастер говорит: «Был у него, но такой суммы денег он достать не сможет». Тогда я посылаю его к Кузьме Матвиюку в Хмельницкий. В записке написал, что человек, которого я к нему направляю, такой же, как Сан Саныч. Встречаемся снова, и мастер мне:
— Что вы там написали?! Матвиюк прочитал и сказал: «В записке написано, что вы провокатор!»
Я не ожидал, что вместо того, чтобы водить мастера за нос, Матвиюк скажет ему о том, что в записке. Ну, и Кузьму можно понять. Откуда ему знать, для чего я этого человека к нему прислал, когда в записке ясно сказано: «Сан Саныч».
— Нет, в записке всё правильно. Это он решил проверить, как вы среагируете на такое заявление. Ведь откуда ему знать, что та записка была действительно от меня. Будем ждать от него сообщения. Он что-то будет делать, — успокаиваю мастера.
В скором времени после этого разговора Брыль идёт на свидание. Он ушёл, а вечером меня с вещами отводят в ШИЗО в камеру № 18 и объявляют, что за систематическое нарушение режима (в основном постоянное невыполнение нормы выработки) меня перевели в одиночную камеру сроком на 6 месяцев. Это произошло 17 декабря 1980 года. Впоследствии стало известно, что перед тем как идти на свидание, Брыль отдал мою записку в оперативную часть. В постановлении на «одиночку» моя записка не фигурировала.
Из одиночки выводили, как и других, в одиночную рабочую камеру, в которой я выгибал из жести какую-то деталь. Норму не выполнял, а потому постоянно находился на пониженной норме питания. Тогда же познакомился с Владимиром Поддубным, киевлянином, который уже заканчивал свой срок в одиночке. Камера, в которой он работал, была недалеко от моей, и мы имели возможность периодически разговаривать. Хотя до того мы не были знакомы, но, узнав, что я находился в политических лагерях, Владимир старался помочь мне, передавая то кусок хлеба, то порцию каши. Это был культурный, мыслящий человек. Он происходил из культурной семьи, но свою жизнь связал с воровской романтикой — стал вором-профессионалом. Накануне окончания одиночки Владимир передал мне своё рабочее место: просверливание дырочек в той фигурной жести, из которой я и другие заключённые выгибали какую-то деталь.
Получив это рабочее место, я уже не только легко выполнял норму, но и имел достаточно свободного времени в рабочей камере. Правда, как и в жилой камере, заполнять его было нечем. Я уже настроился отсиживать одиночку, но 13 января 1981 года меня забрали на этап, и вскоре я уже был на 60-м (УЛ-314/60) в Славяно-Сербском районе Луганской области. Почему так поспешно (не отсидел даже одного месяца) вывезли из лагеря — неизвестно. Возможно, обращение администрации лагеря о переводе в другой лагерь было направлено в Управление лагерями ещё до перевода в одиночную камеру. Как бы там ни было, это было довольно странным, потому что вырваться из этого лагеря было очень трудно. Для того чтобы вырваться, отдельные заключённые шли даже на преступление. Вот, например, был такой случай. После моего прибытия, уже то ли в конце зимы, то ли в начале весны (ещё не совсем рассвело), заключённых выводят в промзону. Хотя в камерах есть унитазы, но без крайней необходимости ими не пользуются. А потому, зайдя в промзону, идут в туалет, занимают места. И тут в туалет заходит один из заключённых, всаживает нож в узника, сидевшего у двери, и бежит к проходной в жилую зону. Свой поступок объясняет тем, что он не мог дальше быть в этом лагере (говорили, что проигрался в карты), обращался к администрации, но его не переводили в другой лагерь. А потому он решил всадить нож в того заключённого, который будет сидеть с краю. Его судили и за это убийство дали 15 лет, отправив в Винницкую тюрьму. В лагере был жестокий режим. Были и жестокие заключённые, что и проявлялось в отношениях между ними. Вот взять хотя бы такой случай, который произошёл летом на моих глазах… Я и ещё несколько заключённых у лебёдки, выполняем свою работу. Услышали крики. Видим, бежит к нам какой-то заключённый и кричит, чтобы мы его защитили. А за ним с ножом в руке бежит другой. Мы стоим и смотрим на них. Никто не сдвинулся с места. Заключённый, увидев, что ему не собираются прийти на помощь, не добегая до нас, развернулся, отбил занесённую руку нападавшего и уже молча побежал в сторону цеха. Чем там у них закончилось, я не знаю. Но если бы убийством, то об этом было бы известно. Я не вмешивался, потому что с какой стати я должен вмешиваться в «разборки» бытовиков, когда не вмешиваются бытовики, что рядом. Им же лучше знать, нужно вмешиваться или нет. Опять же, откуда знать, а может, его и надо зарезать.
Условия содержания заключённых были тяжёлыми. И не каждый мог их выдержать. Некоторые из-за халатного отношения администрации выжить не смогли. За время моего пребывания в лагере где-то шестеро или семеро заключённых умерло. Помню фамилии только двух умерших: один из них Козин (имени не помню), который был у лебёдки, когда один заключённый гонялся за другим. Так вот уже осенью ночью ему стало плохо: время от времени терял сознание. Заключённые пытались вызвать врача, били чем было в дверь, но тщетно, врач так и не появился. Козин умер в камере. Было ему где-то под 50 лет. А второй, Иван Харченко, был моим сокамерником, лет 35-ти. Это был спокойный, хороший человек. За что сидел, мне неизвестно. Он болел, постоянно жаловался на боли в животе. Имел болезненный вид. Норму не выполнял, а потому сажали в ШИЗО. Посадили в очередной раз — уже в последний. Из ШИЗО водили в санчасть. Врач поставил диагноз: симуляция. Ивана отвели обратно в ШИЗО. До других камер доносился его стон. А через несколько дней администрация лагеря по лагерной трансляции обратилась к заключённым с просьбой сдать кровь для Харченко, которому в Изяславской больнице должны были сделать операцию. Заключённые уважали Ивана и сочувствовали ему, а потому многие вызвались сдать кровь. Но уже было поздно. Его отвезли в больницу с явными проявлениями перитонита — прорвалась язва желудка. Спасти Харченко не удалось. Это произошло в конце осени.
Лагерь № 60 находился в какой-то балке и сразу же произвёл на меня впечатление места, откуда я не смогу сбежать. А потому, прибыв в лагерь и ещё не побывав в промзоне, в разговоре с начальником я дал ему понять, что могу причинить им много бед, что я не доволен тем, что меня перебросили в этот лагерь. Но когда из этапной камеры перевели в жилую, а потом вывели на работу в промзону, я увидел, что этот лагерь имеет ряд преимуществ перед предыдущими. Здесь свободнее, и к тому же есть больше возможностей совершить побег. Вскоре познакомился с нужными мне людьми. Один из этих заключённых ещё не так давно общался с Петром Рубаном, который находился со мной на 10-м, а после освобождения получил срок по бытовой статье. Так вот, этот заключённый познакомил меня со своими двумя приятелями, которые готовились к побегу. Таким образом возникла группа из 4-х человек. (И как это ни странно, не то что фамилии, а даже имени кого-нибудь из них не могу вспомнить. Забыл! Наверное, из-за того, что старался мало с ними общаться). План побега был прост: ночью (меня выводили и во вторую смену) к вилам электрокары прикрепляем трубу и по трубе перебираемся на другую сторону узкой запретки. Решили дождаться, когда в степи поднимется растительность, чтобы в случае преследования можно было спрятаться. Но в мае меня забирают на этап. Для меня так и осталась неизвестной та причина, по которой меня вывезли из лагеря. Жалел, что по прибытии поспешил представить себя с отрицательной стороны. Не исключено, что после того разговора администрация могла подать соответствующий материал для перевода меня в другой лагерь.
Незадолго до этапа я узнал о событии, которое произошло в Артёмовске Донецкой области. А именно: Трофим Шинкарук, находившийся в лагере г. Артёмовска, убил двух заключённых и двух «подрезал» — нанёс ножом тяжкие телесные повреждения. С Трофимом я был на 10-м и в Сосновке в первой половине 70-х годов. На 10-й Трофим прибыл из Сокаля, где находился на особом режиме за какое-то уголовное дело. История его такова… Во второй половине 40-х годов он был арестован то ли как принадлежащий к УПА, то ли как оказывавший уповцам какую-то помощь. Сначала, как несовершеннолетнего, его содержали в Харькове на Холодной Горе, а когда исполнилось 18 лет, отправили в Тайшет, а оттуда в Мордовию. После освобождения проживал в Кривом Роге и через какое-то время по уголовной статье оказался в Сокале. Вскоре у него изымают рукопись, судят и уже по политической статье в начале 70-х годов отправляют в Мордовию. Когда он отсидел по политической статье, его отправляют в лагерь для уголовников досиживать срок по уголовному делу. Таким образом, Трофим оказался в Артёмовске в лагере строгого режима. Находясь в одном из бараков, Трофим занимал верхнюю койку двухъярусной вагонки. Когда освободилось место внизу, то, согласно неписаным правилам лагерной жизни, Трофим имел право занять койку, которая была под ним. Но Трофим почему-то не занял ту койку, а отдал её какому-то юноше, который, как мне рассказывали, был сыном заключённого, с которым Трофим когда-то находился в заключении. Некоторым заключённым это не понравилось, и они сказали Трофиму:
— Так, это твоя койка, и ты можешь её занять. Но если ты её не занимаешь, то эту койку займёт другой человек.
Трофим с этим не согласился. Он считал, что ему решать, кому быть на той койке. Спор закончился тем, что Трофима тут же избили. А когда наступила ночь, то Трофим, взяв с собой того юношу, посетил два барака, в которых нанёс спящим заключённым удары ножом. Двое заключённых из четырёх выжили. В апреле состоялся суд. Трофиму дали расстрел, а тому юноше 15 лет. В общей сложности Трофим отсидел где-то около 30 лет. До конца срока оставалось немного — 1 год. Не знаю, как Трофим вёл себя в юношеские годы, но из того, что известно о его пребывании на 7-м в 60-е годы и из моих наблюдений на 10-м и в Сосновке, всё же, думаю, нужно сказать и о том, что хотя Трофим и сидел с юных лет за политическую деятельность, но у него были ярко выраженные повадки уголовника.
В конце мая или уже в начале июня 1981 года я был в лагере № 96 села Городище Ровненского района. Поместили в камеру № 22 на втором этаже трёхэтажной лагерной тюрьмы. Камера на 6 человек. С моей койки, которая была верхней и напротив окна, был виден высокий холм, на котором стояла церковь. Работал я в промзоне на трубогибе. Работа необременительная. За несколько часов согнул трубы, которые доставляли к станку, и осматривайся да думай, как выбраться на волю. За этим занятием незаметно и полгода пробежало. Уже и свидание долгосрочное подходит. Я и письмо получил, что уже собираются на днях приехать. Но вот захожу после работы в камеру и вижу, что постель моя разбросана. Кто-то из заключённых говорит мне, что в камере был обыск. Поправляя постель, глянул на подушку и увидел, что подушка распорота. Ещё надеясь на лучшее, незаметно прощупываю, но спрятанного в подушке свёрточка, объёмом где-то с полмизинца, нет. А это был свёрточек, который я собирался пронести на свидание. О чём там было написано, уже не помню. Вероятно, в основном об условиях содержания заключённых в Изяславе. Через день или два я уже сидел в шизо. Получил 15 суток. Камера на нижнем этаже, угловая. С каждым днём всё холоднее. Уже и снег лежит, а камера не отапливается — меняют трубы теплотрассы. И окно разбито. А я в тонкой нательной рубашке и курточке. Бушлат не дают. Пробирает холод. Приходится всё время ходить от двери до стены и обратно. Впереди ещё трое суток, а на пол (пол деревянный, поэтому на ночь щита не выдают) я уже не могу лечь. Пол холодный. Когда ложусь, то через несколько минут тело начинает трясти. Итак, все трое суток, не сомкнув глаз, хожу по камере. Как я смог обойтись без сна трое суток и как выдержали ноги эту беспрерывную ходьбу, я не могу представить. Уже закончились 15 суток, а дверь всё не открывают. Стучу в дверь, спрашиваю. Надзиратель в ответ: «Выясню!» Наконец через несколько часов открывается кормушка, и мне зачитано постановление о переводе меня на 1 год в одиночную камеру. Поднимаюсь на верхний этаж и сразу же ложусь на постель. Прошло, наверное, с неделю, пока я не почувствовал, что усталость прошла. И как это ни странно, но у меня даже насморка не было. А на свидание ко мне приезжали мать и сестра Ольга. Им сказали: «Свидания не будет. Он отбывает наказание за нарушение режима».
Отсиживать одиночку не пришлось и в этот раз. Ещё не свыкся со своим новым положением, как заводят меня в какое-то помещение, где Ровненский районный суд по ходатайству администрации лагеря, а на самом деле по ходатайству КГБ, вынес постановление о переводе меня на три года на тюремное заключение. Кроме меня, за нарушение режима переведён на тюремное заключение и Михаил, белорус. В январе 1982 года мы уже были в камере Винницкой тюрьмы. Я общался с Михаилом только в вагонзаке и этапной камере. Должен сказать, что Михаил произвёл на меня очень хорошее впечатление. В нём не было ничего такого, что относило бы его к лицам уголовного типа. Он интересовался политикой и неплохо в ней разбирался. Конечно, ненавидел политическую систему, в которой находился. Не скрывая, высказывал своё негативное отношение к коммунистам, руководству СССР. Он был одним из тех, с которыми нормально сиделось бы в камере. Я и надеялся, что мы будем сидеть вместе, но через пару дней меня забрали из камеры, и больше я с ним не встречался, потому что Михаил попал в другую рабочую бригаду. А я снова в том же цеху (уже на втором этаже), который покинул в августе 1979-го. В цеху 8 человек, заключённые из двух камер. Из тех, с которыми я работал раньше, только двое, досиживающих свой тюремный срок. А с остальными я не знаком. Но заключённые собрались такие, с которыми не тяжело сидеть. Атмосфера как в цеху, так и в камерах нормальная. Узнал и о событиях, которые произошли за время моего отсутствия. Оказывается, уже нет в живых двух заключённых, с которыми я работал во время предыдущего пребывания в тюрьме. Нет уже Василия — киевлянина, который до заключения работал декоратором в Киевском драмтеатре. Он заболел раком и умер в тюрьме. Говорили, что очень мучился — кричал в камере от боли, а обезболивающего не вводили. Нет и Вячеслава Кузьмина. Он убит. Вячеслав писал какие-то там жалобы на администрацию тюрьмы, и за это его перевели в нерабочую камеру, в которой сидел Дерба (не знаю: фамилия или кличка). Как рассказывали, Дерба был очень развит физически. Вячеслав не мог его спровоцировать, не мог оскорбить. Что там произошло — неизвестно. Известно лишь, что Дерба, схватив Вячеслава за голову, со всей силы ударил ею о выступ фундамента для унитаза. Череп треснул. Трещина была такая большая, что оттуда вытекал мозг. Вячеслав лежал мёртвый. Подошла медсестра и ногой отодвинула руку мёртвого (наверное, брезговала дотронуться рукой). Дербу не судили, а отправили в Днепропетровск в спецпсихбольницу. Там его признали психически больным. Вячеслав был из Ленинграда, родители погибли во время блокады, детство прошло в детдомах. А потом — тюрьма. Будучи с ним в одном цеху, я никогда не слышал от него грубого слова. Мы общались. С ним было о чём поговорить.
В свободное от работы время заниматься нечем. Поэтому со временем, чтобы чем-то занять себя, лёжа на верхней койке, стал записывать мелким почерком воспоминания о моём пребывании в Мордовии, в лагерях Украины, тюрьмах. Писал об условиях, в которых находились заключённые, о гибели некоторых заключённых. А также кое-что из своих мыслей философского направления. К написанию воспоминаний побудило и то, что моего освобождения добивалась международная общественность. Так что нужно было и мне что-то сказать. Сначала собирался лишь кое-что написать и передать с кем-нибудь из заключённых на волю, ведь у некоторых из них срок заключения заканчивался в тюрьме. Но со временем втянулся, и написанное по объёму стало довольно большим воспоминанием. Свёртки текста, которые я спрятал в нескольких сухариках в мешке с сухарями, по объёму были небольшими, потому что бумага была не толще папиросной.
Значительный отрезок времени я-то заполнил, но, исходя из последствий этого занятия, без сомнения, в тюремных условиях такими глупостями заниматься не стоило. Не прошло много времени, как в камере провели обыск и среди сухарей, которые ломали на куски, обнаружили и свёртки. Это произошло где-то в конце ноября 1982-го. Меня никто не вызывал. Я сидел в той же камере, но на работу меня уже не выводили. Через несколько дней, не предъявив никакого обвинения, меня переводят на первый этаж в камеру неработающих. В камере кроме меня ещё трое. Я никого из них не знал. Зайдя в камеру, я сразу же сказал, кто я такой и почему, по моему мнению, меня перевели в нерабочую камеру. Находившиеся в камере назвали свои имена. Имён армянина и ещё одного заключённого не помню, а вот житомирянина, который позже долгое время работал со мной в одном цеху, помню. Его звали Анатолий (в цеху — Толик). Этих заключённых, видимо, недавно собрали в этой камере. Это видно по их скованному поведению. Каждый вёл себя так, чтобы его поведение чем-нибудь не задело другого. Поэтому и никаких бесед, а тем более дискуссий, в камере не было. Обращались друг к другу лишь по необходимости. А то всё молча лежали или сидели на своих койках, думая о чём-то своём. Так я сидел в этой камере, ожидая вызова и предъявления мне какого-либо обвинения за написанное мной. Шли дни, но меня не вызывали.
Наконец, недели через две, а было это 13 декабря, открывается кормушка, и надзиратель приказывает мне собраться с вещами на переход в другую камеру.
— Не иди! Тебя, наверное, собираются бросить в «пресс-хату»! — говорит мне армянин. («Пресс-хата» — это камера, в которой специально подобранные заключённые по указанию администрации тюрьмы издеваются над другими заключёнными). Я не стал сворачивать постель, и когда открылась дверь, сказал, что не хочу переходить в другую камеру. На сказанное мной — никакого внимания.
— Выходи из камеры, — приказывает старшина Цветков. И заключённому (видимо, из обслуги), стоявшему в коридоре:
— Возьми его постель!
Заключённый берёт мою постель и выносит из камеры. Выхожу и я. Не ждать же, когда надзиратели зайдут в камеру и вытолкают тебя за дверь. Иду с надзирателями по коридору. А что делать?! Не оказывать же сопротивление или лечь, чтобы тебя взяли за руки или за ноги и затащили в ту камеру. Ведь в таком случае ты даёшь тем, кто в той камере, основания обвинить тебя, что за тобой числятся какие-то грехи, а потому ты боишься к ним заходить. Меня привели в полуподвальное отделение корпуса в камеру № 4. Как только дверь открылась и я переступил порог, старшина Цветков крикнул: «Принимайте вора!» За мной вошёл заключённый и, положив на койку, которая была недалеко от двери, мою постель, вышел за дверь. Грохнула дверь камеры.
В камере пятеро заключённых, никого из знакомых.
— Я не вор! — сказал я заключённым.
— Ты кто, какой масти?
— Я такой-то, просидел много лет за свои убеждения, за такие-то действия, — говорю им. Вынул даже газету «Известия» за 1980 год со статьёй, в которой говорилось и обо мне. Она называлась «Кого защищаете, господа?». Это о деятельности «Международной амнистии». Один из троих, стоявших возле меня, взял газету, просмотрел, дал заглянуть и другому, а потом разорвал пополам и бросил в угол. Я понял, что она им нужна для заваривания чая. И никак не среагировал на его поступок. Было ясно, в какой камере я нахожусь. Как только я повернулся к ним спиной — сзади удар ногой в бок. Начиналось издевательство. Трое бросились на меня, а двое, хоть и были поодаль, скорее были наготове. Я сразу же оценил ситуацию. Им что-то пообещали за то, что побьют. Они будут делать своё дело. Мои же удары вызовут уже личную злобу, и тогда от них можно ожидать чего угодно. А это «что угодно» страшнее убийства. Это действительно страшно, потому что достаточно провести по твоему телу фаллосом, чтобы ты оказался среди «опущенных» — не имел права пользоваться общей посудой и т.п. Способствовать этому было бы неразумно. Поэтому я не ответил ударом на удар, а сел на койку возле своей постели и стал прикрывать уязвимые места. Койка была двухъярусная, она мешала бить всем троим, а спина была защищена стеной. Я спрашивал:
— За что?
Конечно, было понятно «за что», но я прикинулся дурачком, который ещё не знает, считает их порядочными людьми, потому и спрашивает «за что». Никто ничего на это не отвечал, но двое отошли, увидев, что я не оказываю сопротивления. А третий, который был среди них главарём (Масальский, из Белоруссии. Через год он сдох), наносил мне удары ногами, обутыми в ботинки. Я прикрывал руками уязвимые места. Удары приходились на руки, грудь и рёбра. Через какое-то время он то ли устал, то ли решил, что уже достаточно, повернулся вполоборота к глазку и кивнул головой. Тот кивок означал одно: всё, забирайте. Не прошло и минуты, как дверь открылась, и тот же старшина Цветков, переступив порог, посмотрел на меня и сказал: «Собирайся!» Я взял постель, которую ещё не успел расстелить, и вышел из камеры. Меня завели в карцер. Через какое-то время подошёл опер, капитан Мастицкий, и, встав у порога открытой двери, говорит:
— Ну, что? Я же тебе говорил: «Не пиши».
Не знаю, был ли тот капитан причастен к избиению, но, без сомнения, избиение организовало КГБ. Всё было откровенно. Находясь в карцере, я уже ждал, что и карцер придётся отсидеть, но через какое-то время меня перевели в нерабочую камеру, недалеко от той, в которой я сидел перед избиением. В камере было двое заключённых, с которыми я был знаком. Какое-то время они работали со мной в одном цеху. Один из них, которого звали Николаем, был болен манией преследования. Не разувался. Спал в крепко зашнурованных ботинках. Считал, что и ночью могут ворваться в камеру нападающие, а потому надо быть готовым дать отпор. Корочку с пайки хлеба он отламывал и выбрасывал. Подозревал, что её могут чем-то намазать, чтобы его отравить. Я пробовал убедить Николая, что такого не может быть, но, увидев, что моя попытка вернуть его к здравомыслию может обернуться тем, что он и во мне увидит своего врага, прекратил такое занятие. На прогулку мы не выходили. Зима. Чего там мёрзнуть. От нас и не требовали. Спрашивали, пойдём ли, и на том всё.
Когда, дня через два после избиения, я посетил санчасть и обратился к врачу с просьбой засвидетельствовать побои, то врач сказала:
— Без разрешения оперчасти я не могу это сделать.
Подавать в суд я не собирался, потому что это было бы бесполезным делом. И с кем судиться?! Просто для себя хотел иметь такой документ. На этом всё, что касалось избиения, закончилось.
Сначала я не чувствовал сильной боли. А со временем, когда появились большие чёрные гематомы на боках, груди и руках, появилась и сильная боль. Всё болело. А особенно рёбра, когда менял позу тела. Боли в рёбрах иногда чувствовал и через полгода. И всё же в санчасть больше не обращался.
Прошло где-то с месяц, как я в камере с сумасшедшим. Было несколько странно, что прошло уже столько времени со дня изъятия материала, а меня никто не вызывает, не предъявляет никаких претензий по поводу написанного, а тем более — обвинения в антисоветчине. Но наконец открывается дверь, и надзиратель отводит меня в кабинет, в котором сидят двое в гражданском. Это были представители Винницкого КГБ. Обвинения не предъявляют. Завязался недолгий разговор. Говорили о чём-то таком, что и не запомнилось. Помню, что об изъятом материале мы почти не говорили. Кагэбэшники лишь что-то упомянули о нём и сказали мне, что уголовное дело возбуждать не будут. Принятое КГБ решение меня устраивало, потому что ехать в Пермь, где сидело несколько десятков политзаключённых особого режима, мне, конечно, не хотелось. Ведь что там делать в той маленькой тюрьме?! Это не то, что большой лагерь с промзоной, где ещё можно надеяться, что что-то придумаешь для осуществления побега. И опять же, о чём с ними там говорить, когда уже давным-давно всё переговорено, всё передумано. Вот и всё, что смотреть на одни и те же физиономии и без конца пережёвывать жёваное.
Вскоре после беседы с кагэбэшниками меня вернули в рабочую камеру. Я снова в том же цеху. Всё было почти как и раньше. Но со временем одни заключённые выбывали, а другие прибывали. И прибывали в цех не лучшие, а худшие (лишь бы их не трогали). Среди них два дегенерата, которые понимали один язык — язык кулака. В цеху уже нет житомирянина Толика, нет и сознательного украинца Петра Головы из села Ягольница Чортковского района. Верховодят уже дегенераты, а не те, которые поддерживали нормальные отношения в цеху, а заодно и в камерах. Ну, а входить в роль бытовика и поддерживать порядок я, как бывший политзаключённый, тоже не мог, потому что это очень быстро могло бы закончиться тем, что я оказался бы между двух огней — между КГБ с тюремщиками и заключёнными, для которых я не мог быть криминальным авторитетом. Обращаться к администрации тюрьмы с просьбой перевести в какую-нибудь другую бригаду — не хотелось. Приходилось терпеть. Бывало, что хотелось подойти и проломить череп недоумку. Сдерживало такое: это неразумно, потому что если не расстреляют за этого дегенерата, то расстреляют за другого: всех не перебьёшь, от их присутствия не избавишься. А ещё: ты же не бросаешься на надзирателя, который закрывает тебя в камеру, не бросаешься и на собаку, которая на тебя лает. Так чего ты должен бросаться на двуногого пса, пусть себе лает. Было бы неразумно из-за словесных выпадов затевать драку и в результате оказаться в нерабочей камере, где обстановка будет хуже той, в которой находишься. Вот в такой обстановке я пробыл до декабря 1984 года — до окончания тюремного срока. Отбывая тюремный срок, периодически ходил на свидания (по телефону, через стекло). Приезжали сестра Ольга и братья Николай и Андрей. А как-то навестила меня и Надя Котенко (приезжала с Ольгой). Однажды была и сестра Надя. Приезжали и родители.
Где-то в середине декабря я уже снова был в Городище в той же камере № 22, из которой в 1981 году меня перевели в шизо. И снова в том же цеху, в котором раньше работал на трубогибе. Работы нет, но меня и ещё с полдюжины заключённых всё же выводят в цех с теми заключёнными, которые изготавливают сельскохозяйственные машины. Мороз с каждым днём всё крепчает. Цех закрыт решётчатыми воротами, не отапливается, потому что он не рассчитан на отопление. Холод такой же, как и за цехом, но в цеху ещё и полно газа от электросварочных аппаратов. Согреться негде. Слоняемся по задымлённому цеху. Вскоре и мне дали работу — зачищать электросварочные швы на машинах. А мороз уже достигает 30°. Такой холодной зимы давно не было. У меня — бронхит. Возможно, из-за того, что три зимы почти не выходил на прогулку (А что там делать в том холодном, зарешечённом сверху дворике?!) и организм, видимо, совсем потерял способность приспосабливаться к зимним условиям, да ещё и к таким, какие были с 84-го на 85-й. Бронхит всё усиливался. Я не мог работать, потому что бронхиальная слизь не даёт дышать. Задыхаясь, иду на проходную, где меня пропускают в жилую зону. В санчасти делают инъекцию, дают теофедрин и освобождение от работы на два дня. Через два дня снова идёшь в тот холодный цех. А через какое-то время, останавливаясь, чтобы отдохнуть от удушья, идёшь на проходную, где тебя пропускают в санчасть. Всё повторяется. Такое со мной впервые за все годы заключения. Уже с месяц я задыхаюсь от бронхиальной слизи. Чтобы не слезать раз за разом с верхней койки, сплёвываю слизь в баночку. Иногда ночью, чувствуя, что задыхаюсь от недостатка кислорода, слезаю с койки и, открыв форточку, глотаю воздух. И этому не видно конца. Наоборот, болезнь (обструктивный бронхит) усиливается. Выход мог быть только один — постоянное пребывание в тёплом помещении. А такого помещения, кроме камеры, нет. И до весны ещё далеко. Ведь только середина февраля. В этом же месяце получил телеграмму, что 14 февраля умер отец. Получил аж в понедельник 18-го. Сообщалось, что похороны состоятся 17-го. (Последнее свидание с отцом было 12 июля 1983 года). В те дни я очень плохо себя чувствовал, задыхался. Спал урывками, полулёжа. В субботу вышел на работу, но работать уже не смог. В 15 часов мастер отвёл меня в санчасть. Врач дал освобождение и на воскресенье — 17-е (воскресенье было рабочим днём). Температуры высокой не было, не доходила даже до 38°. А потому врач давал освобождение не более чем на два дня. Нужно было что-то делать. Выход всё-таки нашёлся. В лагере, изолированно от других, в отдельном бараке содержали около 200 заключённых, больных туберкулёзом в закрытой форме. Это был филиал больницы для туббольных заключённых с открытой формой, который находился где-то в Херсонской области. Эти заключённые работали изолированно. Они вязали авоськи и мешки в тёплом подвальном помещении. Я решил перейти в тот подвал. Другого выхода не было. Мою просьбу удовлетворили, и я оказался среди этих больных, у которых должна была быть закрытая форма, потому что у кого болезнь проявлялась в открытой форме, того отправляли в Херсон. В тонкости я не вникал, хотя иногда видел, что у некоторых заключённых идёт изо рта кровь. Среди этих больных я был не одинок. Кроме меня, в подвале спряталось ещё где-то с десяток заключённых, которые не хотели терпеть холод в загазованном цеху. Среди этих заключённых был и Владимир Поддубный, с которым я познакомился в Изяславе, находясь в одиночке. А ещё латыш Илмар Локуциевский (в лагере — Иван), с которым я познакомился уже в подвале. Илмар специализировался на угоне автомобилей. Он был мастером этого дела. Прославился тем, что у сына Первого секретаря ЦК КПУ Шелеста угнал иномарку «Бьюик». Илмар был культурным человеком, интересовался политикой. Как с Владимиром, так и с Илмаром я был в приятельских отношениях. Подвальное помещение хотя и было без окон, но было большим и хорошо проветривалось. А главное, здесь было тепло и чисто. Болезнь сразу же стала отступать, хотя ещё годами давала о себе знать. Поэтому приходилось остерегаться возбудителя — холода. Норму выработки я не скоро смог выполнять. Но выручал Владимир. Он неплохо играл в карты и какую-то часть выигранных авосек передавал мне. О побеге в этих условиях нечего было и думать. Подвал закрывали на замок. А моё пространство: из камеры в подвал, из подвала — в камеру. К тому же, я и не видел, чтобы была какая-то возможность для побега. Не хотелось и дополнительный срок получать за попытку, ведь уже половина отсижена. В значительной степени я уже смирился с тем, что придётся сидеть до конца срока. Я думал: мне уже будет за 50. Чем же я смогу заняться в таком возрасте? Что совершить такое, что было бы мне, одинокому, под силу, и несложным. И нашёл такое, что было бы и простым, и зрелищным: наделаю химических зажигалок, и когда созреет пшеница в степях Причерноморья и Казахстана, буду ехать на мотоцикле вдоль пшеницы и бросать в пшеницу зажигалки, которые через час-два будут вспыхивать, и вслед за мной по степи будет катиться большая лава огня. Ну, ещё что-то из такого — зрелищного. А что, кроме подобного, мне ещё оставалось бы после освобождения?!
Где-то в конце 1986 года от заключённого, прибывшего из Изяслава, узнал, что Алексей Мурженко в Изяславе. За какое-то нарушение режима сидит в одиночной камере. Мурженко отбыл 14-летний срок. А в Изяслав попал после того, как был осуждён на два года за нарушение правил админнадзора.
Так, без приключений, пробыл я в том подвале до апреля 1987 года. Неизвестно, по каким причинам, но в апреле все заключённые лагеря (полторы тысячи) прошли флюорографию. В результате было выявлено несколько десятков заключённых с заболеванием туберкулёзом. Большинство заболевших составляли заключённые, работавшие зимой в загазованных и неотапливаемых цехах. А четверо, которые долгое время были в подвале с больными туберкулёзом. Выявив заболевание, нас поспешно отделили от больных, переведя из подвала в бывшую этапную камеру. В этой камере нас набралось где-то 25-28 человек. А площадь камеры 25 м2. Туалетом не пользуемся — вокруг унитаза работающие вяжут авоськи. Кто уже не в силах дождаться снятия с работы, упрашивает надзирателя выпустить в другое помещение. Прогулки, как и раньше, нет. Из камеры в камеру, потому что прогулочных двориков в лагере не было. Чтобы какое-то время побыть вне камер, ходил в вечернюю школу. Всё же какое-то разнообразие в лагерной жизни.
В середине 80-х в уголовном кодексе появилась статья 183-3 «Злостное невыполнение требований администрации». К июню 1987 года по этой статье осуждено 11 заключённых — в основном за невыполнение нормы выработки. Сроки: 3-4 года с отправкой на несколько лет в Винницу на тюремное заключение. В марте 1987-го один из заключённых повесился, несколько умерло.
Наконец администрация лагеря удовлетворила требование заключённых и где-то около полутора десятков человек, в том числе и меня, перевели в камеру первого этажа жилого корпуса, а других в цеха на разные работы. Помещение бывшей жилой камеры было просторным, и мы уже были в нормальных условиях. В том же 1987 году вышел Указ ПВС СССР о снижении на 1/3 неотсиженного срока заключения. Это впервые, с момента создания в 1961 году особого режима, Указ положительно коснулся и особо опасных рецидивистов, хотя, если не ошибаюсь, только тех, кто отсидел две трети срока. На основании этого Указа оставшийся у меня срок был сокращён на 1 год 3 месяца и 28 дней. У меня в течение года нарушений режима не было, и им некуда было деваться — пришлось снимать. Но перед этим произошёл такой инцидент. Я работал с теми заключёнными, которых перевели из этапной камеры. Большинство из них ни во что не вмешивались. Руководствовались одним: лишь бы его не трогали. Таких, которые пользовались среди заключённых авторитетом, в камере не было. Но было где-то 5-6 человек, которые кучковались вокруг своего вожака по фамилии Шличик, который был хорошим рассказчиком и за работой рассказывал заключённым что-то из прочитанной им художественной литературы и о своих приключениях при обкрадывании квартир. Как с ним, так и с другими заключёнными я был в нормальных отношениях. Но вот однажды, заведя речь о заключённом лет за 60, который работал недалеко от меня, а сидел за попытку изнасилования какой-то там старушки, своей соседки, обращаясь ко мне, Шличик спрашивает:
— Как ты считаешь, такие имеют право жить?
Поддакивать ему я не мог, а потому ответил:
— Все имеют право на жизнь.
Рабочие места располагались по периметру камеры, лицом к стене. После моего ответа Шличик, ничего не говоря, подошёл сзади и дал мне пощёчину. Как я уже сказал, отношения у меня с ним были нормальными. Я бы даже сказал, хорошими, ведь общались длительное время — ещё с подвала, где работали с больными. Так что его поступок для меня был отнюдь не ожидаемым и непонятным. Я так и не знаю: было ли это запланировано, или, может, он наркотиков наглотался? Всё же, несмотря на пощёчину, я даже не шелохнулся. Как сидел на скамейке и вязал, так и продолжал вязать. В камере тишина… И вот меня вызывают и объявляют, что срок мне снят. На второй день, во время вывода на работу, со мной к открытой камере подходят Костя Прокопов и Ярослав Шаран (с Волыни, из с. Уляники, что неподалёку от с. Раймисто). Они стоят в дверях, а я, зайдя в камеру, подхожу к Шличику и даю ему пощёчину. Потом хватаю его, валю на пол и даю ещё несколько лёгких, унизительных пощёчин. Можно было бы и помочиться, но этому мешает моё прошлое. Я не могу входить в роль уголовника. Да и, наверное, заключённые лагеря восприняли бы мой поступок негативно. Шличик уже не оказывал никакого сопротивления, но когда я схватил его, он успел ткнуть заточкой по правому виску возле глаза и слегка разрезал кожу. Его кодло не защищало, потому что видело, что на пороге мои люди. К тому же многие заключённые, среди них и те, которые пользовались авторитетом, были возмущены поступком Шличика и ждали, когда я набью ему морду. Я, конечно, не собирался наносить ему побои, а лишь унизить. Я своего достиг. Костя с Ярославом пошли в цех, а я остался в камере. В камере тихо. Шличика не слышно. Он даже не стал обедать. Его можно понять: так себя выставлял, хвастался, что и приёмами владеет, а тут никакого сопротивления не оказал. А я, как вязал, так и продолжал вязать, не обращая на него никакого внимания. Я и не ожидал от него каких-то действий. Но я ошибся. Незадолго до снятия с работы Шличик, подойдя сзади, наносит мне удар кулаком под глаз. Я вскакиваю и за ним. А он хватает черпак со стола (обед нам заносили в камеру, а посуду забирали после снятия с работы) и, махая черпаком, бегает вокруг стола. Чтобы не получить удар черпаком по голове, я подставил руку, и черпак рассёк мне руку выше запястья. Я таки поймал Шличика, но как только я стал валить его на пол, ему на выручку бросается его кодло и, хватая меня за одежду, оттаскивает от него. Мне хоть и сочувствуют, но на помощь никто не идёт. В результате Шличик вырывается из моих рук, и мне снова приходится ловить его. Довольно забавная ситуация. Ведь на столе есть миски из толстого металла, схватив какую-нибудь, можно было бы рассечь ему голову. Можно было бы, но я знаю, чем это для меня закончится. А потому лишь хотел повалить его, унизить. Так я ловлю его, а меня оттаскивают. Такое повторилось несколько раз, и я прекратил попытку ещё раз унизить его. К тому же, шла кровь из рассечённой руки, а также пошла из ранки, нанесённой утром заточкой. Подпухло и под глазом. Прекратив преследование, я подошёл к раковине и стал смывать кровь. И тут дверь открывается — снимают с работы. Мне надо выходить из камеры. На выходе надзиратель заметил на мне кровь на виске. Подошёл начальник отряда. Спрашивает:
— Что случилось?
И ведёт в санчасть. Я объясняю, что утром, когда выходил на работу, неосторожно ступил и упал с лестницы. Мне накладывают швы. А через день я в шизо. Дали 5 суток за то, что затеял драку. Ещё сидел в шизо, как состоялась очная ставка со Шличиком. Шличик показывает, что я на него напал, а я — что никакой драки с ним у меня не было. Выйдя из шизо, я снова в той же рабочей камере. Шличик на работу не выходит. А через несколько дней меня ознакомили с постановлением о возбуждении против меня уголовного дела — хулиганство. Я никуда не обращался. Ждал, что будет дальше. Через какое-то время надзиратель ведёт меня на проходную, которая служила не только проходом между жилой зоной и промзоной, но и имела ряд кабинетов для частей администрации лагеря. Уже не помню, то ли начальник оперативной части, то ли режимной, ознакомил меня с постановлением, в котором прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела из-за отсутствия достаточных доказательств.
Думаю, что если бы у Шличика были хотя бы какие-то синяки, то неизвестно, чем бы это дело закончилось. А из того кодла, скорее всего, никто не решился дать письменные показания, необходимые для фабрикации дела. И всё же мне, наверное, нужно было тогда либо выйти из камеры, либо его выгнать. Можно было бы и не работать в тот день, контролируя его поведение.
Вскоре на втором этаже в одном из цехов открыли цех для вязальщиков, в который перевели и нас из рабочей камеры. Здесь уже было просторнее и достаточно тех заключённых, с которыми можно было нормально пообщаться и поговорить о событиях, происходивших на воле в результате перестройки. А где-то в начале 1989 года появилось свободное рабочее место в цеху по изготовлению полиэтиленовых изделий. Благодаря содействию моих приятелей, мне удалось получить то место. Цех не закрывали, и из него можно было выйти на открытое пространство, зайти в соседний цех и помыться под душем.
А в лагере среди заключённых всё растёт оживление. Идёт «перестройка», и заключённые прислушиваются к тому, что доносится из репродуктора, просматривают периодику, обсуждают новости. Заключённые стали интересоваться политическими вопросами, тем, что происходит в стране. Мне приходится участвовать в их беседах и высказывать своё убеждение, что демократизация приведёт к распаду СССР. С моими выводами никто не соглашался. Для моих собеседников развал СССР был невероятным. Более того, они и не желали этого развала, потому что привыкли жить в государстве, где было много народов, по территории которых они могут свободно передвигаться. (И, наверное, были правы. Ведь в идеале человек должен быть как птица: куда захотела — туда и полетела).
Я уже чувствую себя свободнее. Уже можно не только обо всём говорить, но и писать, не опасаясь, что обнаружат написанное и отправят на три года в Винницу. Уже и обыск не тот, когда идёшь на долгосрочное свидание. Мать уже не приезжает — болеет. Чаще стал приезжать брат Андрей. Он перебрался в Житомир (до взрыва реактора проживал в городе Припяти), и ему уже удобнее приезжать ко мне.
Мне пишут. Освободившись из мест заключения, диссиденты снова зашевелились. Стал получать письма от Мелетия Семенюка и Василия Овсиенко. Получил письмо и от Михаила Горыня. Пишет, что есть надежда, что я скоро буду на воле. А ещё пришли письма из Германии от Анни Вайланд из г. Карлсруэ и Людвига Вахтера из Ремшайда. Добиваются с общественностью Германии моего освобождения. Надеются, что меня скоро освободят. Меня это не очень-то и интересовало, потому что и так до конца срока осталось уже меньше года. Беззаботно заканчивалась моя последняя весна в заключении. Вот и настало 24 мая. Как всегда, после 17-ти, пройдя через проходную (мы называли её «вахтой»), направляюсь к своему жилому корпусу. Уже на подходе к корпусу ко мне подходит мой знакомый, раскрывает ладонь, на которой какой-то маленький свёрток, и просит подержать.
— Мне надо на вахту, а там могут обыскать. Я быстро, несколько минут! — говорит мне.
Я беру тот свёрток, развернул, а там — гроб! Чёрный гроб со скелетом человека внутри, который тайно изготавливали из полиэтилена лагерные умельцы и обменивали у вольнонаёмных или представителей администрации на чай. Я уже видел такие изделия. И знал, что если нажать на кнопку, то открывается крышка гроба, а оттуда выскакивает в полный рост скелет с возбуждённым фаллосом. Свёрток был уже в моей руке, поэтому отказать тому заключённому было как-то неудобно, хотя и неприятно держать такое изделие при себе. И стало как-то тревожно на душе. Чувствовал что-то недоброе, не в силах понять, почему это так внезапно появилось такое ощущение. Вскоре тот заключённый вернулся, взял у меня тот свёрток, а я поднялся на третий этаж в свою камеру № 48. Как только переступил порог, глянул на койку и увидел лист бумаги. Наверное, пришло письмо, подумал я. А тревога так и не покидала меня. Ещё не дошёл до койки, как услышал от сокамерника:
— Тебе пришло плохое известие. — В его голосе чувствовалось сочувствие.
— Что, умерла мать? — спрашиваю.
— Да, — отвечает мне.
Беру лист, читаю телеграмму: «Умерла мать. Похороны 25-го. Андрей». Вот и всё, нет уже и матери. Последнее свидание, краткосрочное, через стекло, было с матерью 24 октября 1985 года. Привозил Андрей. Родителей уже нет. Теперь очередь уже за теми, кого они произвели на свет.
Кое-кто из заключённых стал мне говорить, что стоит обратиться к начальнику лагеря с просьбой свозить на похороны. Подумав, я решил так и сделать. А почему бы не съездить и заодно увидеться со многими на похоронах?! Написал заявление на имя начальника лагеря подполковника Давыдова:
«Я получил телеграмму о смерти матери. Похороны состоятся завтра — 25 мая в с. Рогачеве Барановского района Житомирской области, это на расстоянии 120 километров от учреждения.
В заключении в общем я нахожусь 28-й год. Все эти годы родители ждали моего возвращения. На этот раз не дождались: отец умер в феврале 1985 года, а теперь умерла мать.
Исходя из положений исправительно-трудового законодательства и того, что до конца срока мне осталось 8,5 месяцев, я прошу: дайте попрощаться с матерью.
Деньги у меня есть. Все расходы на поездку я оплачу. Если у администрации учреждения нет своего транспорта, то прошу нанять такси в таксопарке г. Ровно».
На другой день читаю резолюцию на заявлении: «В просьбе отказано». Свой отказ начальник лагеря объяснил тем, что законом не предусмотрено удовлетворение таких просьб на особом режиме.
А 6 июня, где-то около 16 часов, меня вызывают на проходную для фотографирования. Это было несколько странно, поэтому я спросил:
— Для чего? В деле есть моя фотография.
Их двое: фотограф и ещё какой-то в гражданском. Фотограф говорит:
— Не знаем, нужно в спецчасть.
Фотография нужна в гражданской одежде, поэтому я снимаю полосатую куртку, надеваю воротник рубашки с галстуком и сверху пиджак. Что ж, им нужна такая фотография, ну и пусть. Мне-то что?! Вернувшись в цех, взял мыло и полотенце и пошёл в соседний цех, где была душевая. Стою под душем. Вдруг вбегает заключённый — посыльный с проходной — и говорит:
— Тебя вызывают на проходную.
Одеваюсь и иду на проходную. А там меня уже ждут двое в гражданском. Как только я появился, один из них, из спецчасти, говорит мне:
— Завтра Вас освобождаем.
Спрашиваю:
— В связи с чем, что там случилось?
Мне не отвечают, спрашивают лишь, куда поеду. Я отвечаю, что ехать мне некуда. Родители умерли, семьи нет. Разве что в Американское посольство.
— Ну, — говорят, — в Американское посольство мы направление дать не можем. Где у Вас есть родственники?
— Давайте в Житомир, там есть брат и сестра, — я им на это.
На другой день мне дали справку об освобождении с направлением в Житомир.
Как оказалось, президиум Житомирского областного суда снизил срок до 13 лет, и я подлежал освобождению. Я оказался за воротами лагеря. Причин для радости не было. Ведь я не сбежал, — меня освободили. А на воле набирает обороты перестройка. И всё же, скажу откровенно, радости и от перестройки я не чувствовал. Ведь я не строитель. Я — разрушитель. С представителем администрации лагеря, в чине майора, приехал рейсовым автобусом в обеденное время на Ровненский автовокзал. Там этот представитель вручил мне билет и посадил на автобус, шедший на Житомир.
Я на свободе. Мне идёт 50-й год, а за плечами по пяти судимостям — более 27 лет заключения. Эти судимости — это проигранные партии. Я в дураках. Меня угнетало не столько потерянное мной, сколько сам проигрыш очередной партии. Мне, кроме прочего, хотелось и отыграться — особенно в отношении побега.
То, что я рассказал, — это рассказ о внешнем, о проявлении внутреннего мира, моего мировоззрения и моей реакции на это мировоззрение — моей духовности. Что же это за духовность, которая была двигателем моих поступков, моего поведения? Попробую коротко сказать и об этом. Как я уже сказал, мне было пять лет, когда я понял: умрут родители, умру и я. Открытие было не из приятных. А когда перевалило за двадцать, задумался: а есть ли какая-то цель, которая была бы достойна того, чтобы её реализовывать? А ещё: что вызывает — если коротко — тягу к жизни? Что движет мной, людьми вообще? Что есть человек? И увидел: всё, чего бы я ни достиг, — исчезает. Исчезнет не только посаженное мной дерево, построенный дом, ребёнок и весь мой род, к которому я буду иметь причастность. Исчезнет и народ, к которому я принадлежу, исчезнет, как и те динозавры и мамонты, и — человечество. А с ним исчезнет и моя, даже всемирная, слава, если бы я и достиг её своими стараниями. Всё поглотит бездна. К тому же, всё исчезнет раньше — исчезнет с моим исчезновением. Опять же, люди, как деревья в лесу. Что мне с того: будут они знать о моём существовании или не будут?! Итак, все мои старания напрасны. А моё стремление что-то увековечить, мои старания есть не что иное, как проявление моей глупости. (Если бы те честолюбцы видели тщетность своих стараний, то не было бы ни Геростратов, ни Македонских, ни…).
Открытие в других вопросах также не радовало. Я думал: люди делятся на существ с разными половыми органами — на мужчин и женщин. А что было бы, если бы их разделить: мужчин на один континент, а женщин — на другой? И ликвидировать любую возможность пересекать океан. То создавали бы эти однополые существа какие-то государственные образования, строили города, прокладывали дороги, шили модную одежду, делали модные причёски, писали бы стихи и лезли бы на Эверест и т.п.? И даже: шли бы они в монастырь? Искали бы Бога? И увидел: если такое совершить, а тем более — убить ощущение существования противоположного пола, то этого не было бы. Оказывается, всё это разнообразие человеческой жизни вызывается существованием существа не с таким, как у тебя, половым органом. Убери тот другой орган — и всё замрёт. Исчезнет даже тяга к жизни. (При таком видении Гётевский Фауст уже не сказал бы: «Мгновенье, остановись!»).
Радоваться тому, что лишь благодаря существованию противоположного детородного органа создаётся иллюзия смысла жизни; радоваться, что ты запрограммирован (природой или Богом), что тобой движут лишь инстинкты, в основе которых половой инстинкт, что запрограммировано и твоё восприятие бытия, не было оснований. Ведь в таком случае чем ты отличаешься от любого животного и даже — растения?!
Так что же всё-таки есть человек — думал я, копаясь в себе. Конечно же — разница есть. И эта разница в том, что такому существу, как человек, недостаточно одних инстинктов. По сравнению с животным, он более сложен, а потому у него и большие запросы, которые и порождают, в отличие от животного, далеко идущую цель — даже ту, которая будет достигнута уже после его смерти. Люди и отличаются от животных тем, что постоянно находятся в плену иллюзий. Перед людьми всегда какой-то мираж — какая-то религия. Этот мираж обнадёживает, манит к себе своими прелестями, которые и являются той целью, к которой они гребут. Мираж является составной частью человека. Он, как и инстинкты, необходим, иначе человек не был бы человеком. А ещё в человеке есть то основное, в чём не только зарождается этот мираж, но которое ещё и оценивает этот мираж. То, которое не только видит окружающий мир, но и заглядывает в самого себя, оценивает всё и, противопоставляя себя выявленной в себе бессмысленности, бунтует против того, что есть в нём, что, как запрограммированное, действовало в нём вне контроля.
Это и есть то основное, чего нет у животного, которое хотя и имеет чувства, и какой-то ум, который, как и у абсолютного большинства людей, лишь обслуживает инстинкты, не в состоянии увидеть себя со стороны, оценить инстинкты — само себя. Если у животного есть лишь телесное — душа (душа — живое тело любого существа — проявление этого тела. Она, как и тело, не является неизменной. Меняется тело — меняется душа. В детстве она одна, в молодости уже другая, а с немощностью тела — немощной становится и душа. Умирает тело — умирает душа. Корень дерева умирает вместе с кроной), то в человеке будто два существа — два Я: телесное (душа) и какое-то, не поддающееся определению, духовное Я, которое проявляется в какой-то период жизни у отдельных людей, открывая им иное видение мира и этим угрожая самой жизни (человек может существовать лишь как животное). Человека и отличает от животного то, что, постигнув свою животную суть, он, не желая быть животным, протестует против животной судьбы, отрицая этим саму жизнь. Такой человек уже не является человеком. Это — сверхчеловек — человек, который поднялся над человеком-животным, который, как и животное, бьётся за противоположный пол, а в отдельных случаях и убивает своего соперника (соперницу). Он бьётся и за место вожака, идёт войной на другой народ, истребляет тех, которые гребут не на тот мираж, на который он гребёт. Разница между ними очевидна: какой контраст! Один человек кончает с жизнью из-за отказа самки (самца) ответить взаимностью, а другой — из-за осознания бессмысленности бытия. (Один человек — человек души, убивает тело, а другой — человек духа, перед тем, как убить тело, — убивает душу. Убить душу — это то же самое, что весной оборвать листья на дереве.)
То — всеохватывающий разум или дух — духовное Я (неважно, как мы его назовём) не желает прислуживать телесному Я — душе, а стоит уже над ним, созерцая то, что излучается из этого телесного желаниями. И подавляет отдельные желания, потому что не видит в исполнении этих желаний ничего иного, кроме бессмыслицы. Дух — это то, что контролирует душу — борется с душой. Это и есть то духовное Я, которое одного отрывает от земной жизни, сделав из него монаха-затворника, а другого лишает и миражей, открывая, как и Экклезиасту, суету сует. Это и есть то Я, которое, при наличии, удержало бы лосося от бессмысленного путешествия к нерестилищу, свинью — плодить поросят (пойдут же на откорм и под зарез. А раб, рождающий раба, разве не является этой свиньёй?), а смертника — рождать обречённого на смерть.
Итак, если человека что-то существенно и отличает от животного, то это и есть наличие у человека духовного Я, которое, более того, потенциально есть у каждого человека, но проявляется лишь в отдельных случаях. (Но что с того, что человек имеет это духовное Я? Что с того человеку?). Мираж также является тем, что выделяет человека в среде животных, но это есть не что иное, как то, что в капкан для человека положена более нафаршированная приманка — разница в приманке. Некоторым людям удаётся её обойти. Но что с того, когда судьба всех людей и животных одна: из праха выйти и в прах отойти.
(Я употребил слово дух. Это неспроста. Я уже рассказывал о своих снах, но не рассказал ещё об одном действительно странном сне, в котором я был раздвоенным: смотрел на себя со стороны на расстоянии где-то двух метров. Это что-то невидимое, что думало, и чем был я, несколько с высоты смотрело на моё — движущееся — телесное «Я». Этот психический феномен (пусть даже во сне) я не в состоянии объяснить. Но если бы я верил в существование чего-то сверхъестественного, в то, что человек состоит из двух независимых компонентов — телесного (материального) и духовного — то сказал бы: моё духовное Я отошло от своей оболочки — моего телесного Я и созерцало его со стороны. Что то — духовное — является какой-то непостижимой субстанцией, которая в отличие от моего тела, которое от зарождения и до смерти постоянно находится в движении — из праха в прах — и является тем неизменным, что есть во мне).
Люди — это те же лососи, что идут на нерест. Идя к своей цели, щеголяя этим шествием, люди, как и лососи, идут к своему концу — навстречу смерти. Если бы это шествие было перенесено на полотно, то это была бы заполненная людьми — каждый из которых играет свою роль — лента транспортёра, которая, непрерывно двигаясь, сбрасывает их в бездну, принимая на себя в противоположном конце всё новых игроков. Одни падают, а другие — выскакивают, чтобы сыграть ту же комедию, которую уже сыграли те, что упали. (За неделю на планете около полутора миллионов падает (умирает) и два с половиной миллиона выскакивает (рождается). И так в этом бессмысленном повторении прошли десятки тысяч поколений. Бессмыслица продолжается.
Когда-то один из мудрых сказал: Люди — это 99% дураков и один процент, который рискует заразиться. А другой высказался более радикально: Все люди либо больны, либо глупы.
Я не вижу никакого смысла в существовании следующих поколений. Они что — будут идти к какой-то цели?! Мне они не нужны. То — кому?! Кому нужны те, кого нет? Так вот, когда умирал мой отец, я написал ему из Винницкой тюрьмы: «Если бы все люди поступили так, как я, то Бог, если Он есть, увидев, что через 100 лет людей на земле не будет, спустился бы с неба и объяснил бы, для чего эта комедия». (Так должны были бы поступить ещё Адам с Евой: В муках будешь рождать. Глупая баба (Ева). Почему не сказала: не буду рождать! (Разве можно рождать вне рая?! Производить, не задумываясь, можно игрушку для ребёнка, а не ребёнка). Так стоит ли сочувствовать женщинам, которые корчатся от боли при родах?!
Духовная вершина: Гильгамеш, Экклезиаст, Хайям, Камю… Первые трое даже не знали, что Земля имеет яйцеобразную форму, но достигли той вершины (того видения), которая доступна лишь немногим из наших современников. Их совсем мало, потому что хотя и слышим от некоторых о суете сует, но их жизнь свидетельствует, что это лишь слова, а не то, что они чувствуют. Ну, а абсолютное большинство — как в древности, так и теперь — довольствуется приземлёнными вершинами: не выше церковного купола, или того, на что способен телескоп — скорлупы яйца, в котором находятся. (Они не задумываются над смыслом своего существования. Одним достаточно догм, а другим — самого процесса познания).
Религии — миражи. А мираж есть мираж. Он возникает и исчезает. Мы знаем: миражи, на которые гребли древние египтяне, греки, русичи и другие народы, уступили своё место следующим миражам. Когда-то один из поэтов (Беранже), мнение которого я не разделяю (разве же хочется быть дураком), написал: Если к правде святой мир дорогу найти не сумеет, честь и слава безумцу, который навеет человечеству сон золотой. Нам известно: Будда (он близок мне), Иисус, Магомет, Маркс… и есть те безумцы, которые навеяли этот сон, и в котором и по сей день ещё пребывает человечество. (Человечество сидит в лодке и гребёт на мираж. А на что ему ещё грести, когда берега не существует).
Я не признаю ни одной из религий. Не признаю и светских религий с их культами и кумирами: сообщество — Бог, выдающиеся личности — божки, где наиболее яркими безумцами являются Маркс (коммунизм) и Гитлер (тысячелетний рейх). И где литература (литераторы — это попы светской религии) и искусство воспевают то телесное, что роднит человека с животным, безосновательно относя это воспевание к духовным ценностям. (Есть балетоманы, меломаны, футболоманы... Есть и нациоманы (нация — метафизический идол светской религии) и другие маны). В светских религиях, особенно в тех, в которых совсем отсутствует элемент трансцендентного, продолжение жизни сообщества воспринимается как продолжение собственной жизни. Потому и тяга поклонников светских религий во что бы то ни стало оставить свой след в жизни сообщества. («Они будут жить, пока их будут помнить», — какая глупость!) А отсюда и стремление продлить жизнь сообщества до бесконечности, что является такой же бессмыслицей, как и ожидание второго пришествия Иисуса.
Иисус — человек, которого нарекли Божеством. Который до сих пор является предметом поклонения… Невозможно представить дурака, который мог бы уничтожить того человека, который может оживить мёртвого. Неужели жиды и Пилат и были такими дураками, которых трудно представить?! А что сделал бы со своим подчинённым — Пилатом — император Рима, узнав, что Пилат уничтожил такого чудотворца?! А может кто-то скажет, что ни жидам, ни Пилату, ни императору не нужен был человек, который мог бы оживить того, кто умер?!
Я не отрицаю возможного существования какой-то невидимой силы, которую люди называют Богом и которая имеет к людям какое-то отношение. Но почему она должна быть такой, какой люди рисуют в своём воображении? Ведь если та сила и есть, то для чего ей нужны люди — неизвестно. А может, люди для неё являются тем, чем для людей корова или бактерия в кишечнике? И вправду: зачем Богу та желанная для людей, сложная технология — вечное сохранение человеческого тела или какого-то там Духа или души? Разве человеку нужна вечная корова?! Человека вполне устраивает то, что она заменит себя телёнком. Если и есть такая неведомая сила, то, без сомнения, познать её не дано. Как и то, что такое пространство и что такое время. Когда обдумываешь это, то закрадывается безумная мысль: а может ли быть пространство в Беспространстве? Может ли быть время в Том, в чём нет Времени?
Наука ничего человеку не дала. Разве то, что когда-то в древности человек жил в живом, а теперь — в мёртвом. Что изменилось в жизни человека с открытием, что Земля не на китах? Что изменилось с полётом в космос? (Полёт в космос — полёт в Никуда. Переселение человека на Марс или даже в другое созвездие. Что с того?! Ведь переселение человека на другую планету — это то же самое, что переселение бактерии из 12-перстной кишки в кишку заднего прохода). И что изменится, если человек будет жить не 100, а 1000 лет? Вот и всего, что выдавит из своего кишечника в 10 раз больше дерьма.
Как в заключении, так и на воле в периоды между заключениями, у меня не было глубокой духовной связи с теми, кто меня окружал. (Духовность! У каждой религии свои кумиры. Разве нужны Шекспир, Шевченко, о которых я упоминал, христианству? Да и любой религии?! Кроме светской, к которой они принадлежат). Я был чужим для тех, кто поклонялся Богу, и в значительной степени чужим и для тех, для кого Богом стало сообщество, кто дорожил светскими ценностями. За всю свою жизнь я не встречал человека, мысли и переживания которого полностью совпадали бы с моими. Те, кто меня окружал, гребли на свои миражи. Я тоже иногда брался за весло. Но это лишь для того, чтобы размять мышцы. А что делать?! Ведь — или сиди в лодке, или выскакивай за борт. Одно и другое — бессмыслица. («Выскочить» — это выразить свой протест. А какой может быть протест, когда кроме тебя Никого и Ничего — лишь ты и Пустота).
В 1960-м я воспринял украинский национализм как мотивацию для участия на поле боя, где я мог бы себя показать, прославиться. Но вскоре увидел, что и это суета. Понял и то, что народ, будучи слабее, — пускает слезу. А когда становится сильнее, то слезу уже пускает другой. Политическую деятельность я воспринимал как одну из забав для взрослых — как возню в камере смертников. Мне лично уже ничего не было нужно. Ну, почти ничего. Но всё же были близкие мне люди, которые видели мир таким, каким раньше видел я. (Люди как бегали в детстве за пёстрыми бабочками, так и гоняются до конца своей жизни. Их сознание не меняется. Оно как было, так и остаётся на уровне детского восприятия). Они дорожили тем, чем раньше и я дорожил. Они стремились к тому, чего раньше и я стремился. Так почему бы им не помочь, ведь мне нечего терять — думал я, покидая 13 апреля 1963 года Владимирскую тюрьму.
Я просидел 27 лет и 4 месяца. Из них 24 года — в камерах. Фактически, по принятым меркам, у меня отобрали лучшие годы жизни. Но я никогда не воспринимал это как трагедию. Ведь трагедия не в тех бедах, что бывают в жизни. Трагедия человека — в бессмысленности бытия. Когда это осознаёшь, то эти «беды» отступают на задний план, становятся не стоящими особого внимания, переживаний. Первый год я ещё переживал, что меня оторвали от воли, что я причинил горе близким, не могу быть опорой младшим братьям, сёстрам. А потом я уже смотрел на всё безразлично, как на комедию. Это связано с моим мировосприятием. Задумавшись во время первого заключения над смыслом жизни, я пришёл к пессимистическим выводам, мир я увидел как сплошную трагедию, которая в дальнейшем осмыслении перешла в комедию. Трагедия перестала быть трагедией. Я увидел, что установленные — как обществом, так и генетически — запреты (табу) не имеют под собой почвы, что делать можно всё, что угодно. Но это не радовало. С проникновением туда, где уже не существует ни добра, ни зла, всё существующее теряет свой смысл. У Достоевского Смердякова устраивает то, что Бога нет, что всё дозволено (наказывать-то некому), а для Ивана Карамазова — это трагедия. Душа его в скорби. Ведь, если Бога нет, то зачем и то — всё дозволенное. Камю дошёл до того, что нет разницы: лечить больных проказой или топить печи крематория; но есть люди, которые выбирают лечение людей. Примерно таким был мой выбор: я всё же и дальше отстаивал справедливость и этим оставался на стороне тех, кто лечит. Возможно, это прихоть моя, такова моя натура, я не мог быть другим. Если я видел, что люди творят какое-то зло, причиняют другим боль, то меня это возмущало, и я не мог остаться в стороне. Я мог бы понять человека, который, причиняя боль другим, безразлично относился бы к собственной боли. Например, если бы он бросил человека в печь крематория и бросился за ним сам в эту печь. Существование человека есть абсурд, а потому полное разрушение всего сущего тем, кто постиг этот абсурд, не вызвало бы у меня ни возмущения, ни даже удивления.
В 1962 году я уже знал, что мне с человечеством не по пути, что не буду иметь семьи, что не буду причастен к продолжению человеческого рода. Во-первых, как я уже сказал, я не мог рождать рабов. Я был рабом. А раб не должен рождать раба — это аморально. (Кумир украинцев Шевченко в своей несчастной судьбе и судьбе своих сестёр, братьев почему-то винит лишь царя и панов. Хотя в первую очередь ответственность несут его родители). Это — политический мотив. А с философских позиций — что является основным — я не мог переступить нигилизм. Это Ницше мог со своим сверхчеловеком. Но фактически это невозможно. Если человек приходит к осознанию того, что нет ничего такого, ради чего стоило бы жить, то он уже и не может ничего найти. Утраченное в результате осмысления заменить нечем. И это доказал Джек Лондон своим Мартином Иденом. Не знаю, как сложилось бы всё для меня, если бы в 1963 году меня не арестовали. Я не мог найти ответа на вопрос о том, ради чего вся эта комедия. Возможно, если бы я... Когда-то я искал Бога (хотелось всё-таки обнаружить в бессмыслице какой-то смысл), но это кончилось ничем. В бездне, открывшейся мне, Бога не было. Если человек понял, что он Сизиф, то он не может быть счастливым, потому что то, чем занимается Сизиф, — бессмыслица. Камю почему-то делает Сизифа счастливым, но ведь это невозможно. Если Сизиф счастлив, то он забыл, что он Сизиф. (Человек счастлив, потому что не видит, что он несчастен).
Итак, в каком-то смысле можно сказать, что тюрьма спасла меня. В заключении я постоянно чувствовал потребность отстаивать себя. Если выразиться образно, то я был как Диоген, который смеялся из своей бочки. Но разница в том, что Диогену никто не мешал, а по моей бочке постоянно били палками. Думаю, если бы по бочке Диогена стали бить палками, он бы в конце концов перестал смеяться и, разъярённый, выскочил бы из неё. Примерно такое произошло со мной. Тюремная атмосфера отвлекала меня от пессимистических мыслей, и этим, возможно, она спасла меня.
Находясь в заключении, я понимал, что с каждым годом теряю то, другое, всё уходит, но я не переживал из-за этого, потому что не очень ценил. (Из цикла жизни я, как тот монах-затворник, не выделял период, которым стоило бы больше дорожить). Я много говорил с верующими, особенно на 10-м, где было много проповедников. Я спрашивал, как бы они жили, если бы Бог для них исчез. Они отвечали: жили бы, как и раньше. Для меня это было непонятным, ведь в таком случае они должны были бы отвергать жизнь. Лишь Стойко Илья, соглашаясь с моим мнением, сказал: «Да, если Бога нет, то нет никакого смысла в продолжении человеческого рода». Возможно, я не прав, но мне кажется, что даже Иисус Христос не был оптимистом и воспринимал жизнь как трагедию — «Будь воля моя, никогда, ни за что не родился бы я» О. Хайям.
Если Бога нет, планета превращается в большую камеру смертников, из которой нет выхода. («Человеческая жизнь абсурдна уже хотя бы потому, что в её предназначении есть неминуемая смерть» А. Камю). Меня больше волновали не социальные, а духовные проблемы — вопросы смысла жизни. Ведь социальные проблемы — это проблемы создания лучших условий для тех, кто находится в этой большой камере смертников. Разве это так важно, в каких условиях находятся обречённые?!
Такой была моя духовность. Итак, начиная с 1961 года, движущей силой в моём поведении было постоянное ощущение бессмысленности бытия. («Жизнь — это иррационально-хаотический поток, лишённый смысла и закономерности. Весь мир — это полный абсурд. Есть только два способа убежать от этого — самоубийство или бунт» А. Камю).
… Погода была солнечная. За пару часов до захода солнца я уже был на Богунии, в квартире брата Андрея. В тот же вечер навестил и сестру Ольгу. Уже на второй день съездили с Андреем в Рогачев навестить могилы родителей. На кладбище пришли наши бывшие соседи и двоюродный брат Сянько с женой Ниной. Погода была хорошая. Побыв у могил, сели небольшой группой на траву за кладбищем и помянули родителей. А потом, навестив брата Василия, который проживал возле бывшего еврейского кладбища, а это почти в противоположном конце села, выехали в Житомир.
Получив паспорт, прописался временно у Андрея. В августе поставили меня под админнадзор сроком на 1 год. Протестую против установления админнадзора, мотивируя тем, что у меня нет своего жилья и что я на временной прописке. Всё же должен сказать, что админнадзор не был обременительным, и я ездил, куда мне вздумается. За лето побывал и у брата Николая в Рокитном, что на Киевщине, и у сестры Надежды на Харьковщине, где на железнодорожной остановке «Бурлуцкий» (Чугуевский район) она проживала со своим мужем Василием Ящуком. Я протестовал, чтобы протестовать. И ничего удивительного, ведь время уже другое, а потому пора отменить такое дополнительное наказание, как админнадзор. Наконец, протестуя, перешёл на полулегальное положение. Недели две проживал у Нади Котенко (по переулку Вокзальному), а после того (это было уже в сентябре) поехал в Москву. В Москву ехала и Надя со своей дочерью Ирой (у Иры тяжёлое заболевание — рассеянный склероз) к какому-то там врачу. В Москве навестил Анатолия Доценко. А от него поехал на квартиру, которую снимали греко-католики, добивавшиеся легализации своей церкви. Познакомился там со Степаном Хмарой, выходил с верующими на Арбат. Где-то в те дни посетил и Лену Санникову. Дал ей интервью, которое осенью было напечатано в издании «Страничка узника». Интервью для меня было довольно сложным. Я же не из тех, которые на месте разрушенного что-то выстраивают. Я же не строитель. Ну, а о том, что я лишь разрушитель, что я не являюсь сторонником какой-либо идеи, связанной с дальнейшим существованием человечества, печатать в «Страничке узника» никак не получалось. Ведь идёт процесс развала империи. И как в такой ситуации печатать, что ты, просидев более 27 лет, являешься не революционером, а лишь разрушителем, что и само разрушение не приносит тебе утешения. К тому же, что ты не просто против какого-то государства или общественного строя, а всего сущего — против дальнейшего существования человечества. Всё же как-то удалось сесть на два стула — подать себя в двух ипостасях. В одной как революционера-профессионала, а в другой — как нигилиста, осознавшего, что не существует ничего такого, ради чего стоило бы жить. Думаю, что из тех, кто прочитал то интервью, не так и много нашлось, которые увидели в нём отсутствие логики — несовместимость позиций. Ведь невозможно одновременно быть революционером-профессионалом и нигилистом. Эти вещи — несовместимы. В те же дни съездил во Львов к Вячеславу Черноволу. У него и переночевал, а на второй день (17 сентября) был с Черноволом и Иваном Гелем у Собора Святого Юра, где собралось более 200 тысяч верных УГКЦ. Съездил и к Василию Овсиенко в село Ставки Радомышльского района.
Благодаря затеянной коммунистами «перестройке», в Украине стремительно нарастало движение за восстановление украинской церкви и восстановление Украинского государства, создавались патриотические организации. И во всём тон задавали бывшие диссиденты. Итак, хотя на протяжении двух десятилетий диссидентская деятельность была в большей степени неприемлемой, всё же, благодаря их жертвенности, эти десятилетия не остались белым пятном в истории сопротивления коммунистическому режиму. А благодаря их сплочённости, во время развала империи они стали тем ядром, которое сплотило и повело за собой тех, кто стремился к демократии, развалу империи и восстановлению своего государства. Итак, их жертвенность не стала напрасной.
Само собой разумеется, что в той ситуации мне ничего не оставалось, как подключиться к борьбе и по возможности помогать украинцам завоёвывать своё государство. Выходило, что хотя я ещё во время первого заключения пришёл к мысли, что нельзя быть исполнителем чьего-то замысла, потому что тогда ты никто — пустое место (лучше быть исполнителем своей, даже ошибочной идеи, чем быть исполнителем чужой), всё же я стал воплощать в жизнь идею тех, кто когда-то пожелал из отдельных племён создать сообщество под названием украинский народ. (Если исходить из того, что раб не должен рождать раба, то этот народ давным-давно должен был бы исчезнуть).
Так что осенью я уже был в Житомирском филиале Украинского Хельсинкского Союза (УХС), а с преобразованием УХС в Украинскую Республиканскую партию (УРП) стал членом УРП. Я часто наведывался в Киев, заходил и в Секретариат УРП, где познакомился с членом Секретариата Романом Ковалем. Как это ни странно, но моя политическая позиция больше совпадала с позицией Романа, а не с большинством членов Секретариата, которые хотя и через лагеря прошли, но позиция которых была отличной как от моей, так и от Романовой. Поэтому на этой почве возникали и довольно острые дискуссии, которые иногда переходили в перепалку на несколько повышенных интонациях. Это касательно референдума в марте 1991 года, в котором УРП согласилась принять участие. Я выступил против и по этому поводу обратился с открытым письмом к членам партии, в котором призывал выступить против участия партии в референдуме, мотивируя тем, что оккупант не имеет юридического права проводить референдум на оккупированной им территории. Моё общение с областными организациями было ограниченным, а потому повлиять на их решение у меня не было возможности. Ну, а Житомирская организация на своём собрании поддержала мою позицию, проголосовав против участия в референдуме. Насколько помню, это была единственная областная организация, которая не согласилась с решением, принятым руководством партии. Но вскоре я дал согласие быть одним из инициаторов созыва Украинской Межпартийной Ассамблеи (УМА), и моя деятельность в УРП полностью прекратилась. Недолго находился и в УМА. В УМА началась возня вокруг должности Председателя Национального Совета УМА, которую занимал Григорий Приходько, который, по моему мнению, наиболее соответствовал этой должности. Приходько был снят с должности Председателя, а УМА переименована в УНА (Украинская Национальная Ассамблея), в которой очень быстро наиболее влиятельной фигурой стал теперь всем известный Корчинский. Возня и новые веяния привели к прекращению моей деятельности и в этой организации.
Будучи в Киеве, часто встречался и с теми заключёнными, с которыми находился в Городище. Как правило, эти встречи происходили на железнодорожном вокзале, где эти заключённые «играли» в напёрсток. Часто бывал и на квартире у Володи Поддубного на ул. Кривоноса, где он проживал с Ольгой и её сыном Максимом. За этот период я два раза побывал в Германии, получил от горисполкома летом 1991-го комнату в 9-этажном общежитии по ул. Льва Толстого, и благодаря содействию Юрия Микольского (дал книгу, в которой было фото могилы Сциборского и Сеника) нашёл возле Собора место захоронения этих выдающихся деятелей и с главой Житомирской областной организации УРП Валерием Колосовским, главой Житомирского СНУМа Максимом Банниковым и другими обозначил место захоронения крестом с табличкой — данными о похороненных.
Пришлось и поработать (в последний раз на свободе) столяром по ремонту в больнице на Богунии. Работал недолго — с декабря 1989-го по май 1990-го, а уже с мая в основном находился в Киеве, готовя проведение 1 июля учредительного собрания УМА. В связи с этой деятельностью где-то с месяц находился в Киеве, проживал неподалёку от железнодорожного вокзала у своей троюродной сестры Марии Корнийчук. А вообще, 1990-й и 1991-й годы были заполнены поездками в Киев и Львов, где в Киеве чаще всего бывал на переулке Музейном, 8, общаясь с представителями различных организаций, офисы которых находились на этом переулке. А во Львове часто бывал у Юрия Шухевича, Левка Франчука, у которого неделями проживал в его гостеприимном жилище. Во Львов часто наведывался и Василий Барладяну. Мы часто общались, в основном за столом в довольно многочисленной компании.
Два года, проведённые мной на свободе, прошли, можно сказать, без хлопот. Я проживал у брата Андрея в трёхкомнатной квартире на полном обеспечении, где его жена Анна и дочь Люда относились ко мне как к члену семьи. Ну, а когда в общежитие перешёл, то, конечно, и хлопоты бытовые появились.
Первая поездка в Германию состоялась в сентябре 1990 года. Админнадзор закончился, и я уже мог ехать, куда вздумается. Инициатором поездки был Иван Боровский, член УРП из Коростышева. Я позвонил Крониду Любарскому, который в то время проживал в Мюнхене. Кронид прислал нам вызов, и на автомобиле Боровского мы выехали в Германию. Ехали через Чехословакию. Так что благодаря этой поездке я побывал в горах, увидел горные пейзажи в их золотистую пору. Погода была хорошей. Иван сидел за рулём, а я, поглядывая на карту, указывал ему направление движения. Конечно, труднее всего было, когда въехали в Мюнхен. Въехав, мы сразу же почувствовали, как трудно объясниться, когда немой хочет выяснить что-то у немого. (Бесспорно, многоязычие мешает общению — является лишним бременем в современном подвижном мире. Человечество уже давно — как пересев с воза на авто — должно было бы что-то делать, чтобы на планете воцарился один язык. А может, и одно государство — один Центр, который контролировал бы всю планету. Но в целом человечество консервативно. Оно ездит на авто, а мыслит как те, что ездили на возу, считая, что чем больше языков и государств, тем лучше. И, наверное, тоже правы, потому что в таком случае больше недоразумений и толкотни (войн), что отвлекает людей от вопроса, в чём заключается смысл их жизни). Но, следя за картой города, которую нам в пригороде дал немец, который во время войны был на территории СССР и немного владел русским языком, мы без приключений быстро добрались до офиса, в котором работал Любарский. Это было уже где-то за полдень. В тот же вечер должен был состояться вечер, посвящённый Василию Стусу. Кто-то из украинских журналистов, наверное, это был Андрей Гайдамаха, взялся опекать нас, а потому уже вечером в его сопровождении мы вошли в заполненный зал какого-то здания.
Вечер уже начался. Выступал Юрий Покальчук. Он рассказывал о встречах с Василием и многом из того, что касалось Стуса. Юрий нарисовал прекрасный образ поэта — человека, которого уже не было среди нас. Выступал где-то с час. Его выступление было прекрасным. Речь его была настолько свободной и красивой, что если бы он это говорил Базарову («Отцы и дети»), то, без сомнения, Базаров сказал бы: «Юра, не говори так красиво». После окончания выступления наш опекун, выйдя вперёд, говорит присутствующим:
— Здесь в зале есть человек, который сидел со Стусом. Может, и его послушать?
Меня приглашают к выступлению. Я иду, потому что что же мне оставалось делать. Хотя рассказывать-то нечего, ведь за время моего пребывания с Василием в лагере ничего такого, что было бы достойно внимания, не происходило. Одна однообразность. День на день похож: встали, позавтракали, пошли на работу, пообедали, снова работа, поужинали, а там до отбоя: кто читает, кто пишет, а кто в шахматы играет или просто проводит время за беседой. «Отбой». Утром снова: встали… Но надо выходить вперёд зала и что-то таки рассказывать. Вот я и стал рассказывать о том, что было. А что было? Крепкий чай, дискуссии, которые и не стоит пересказывать. Ведь у политзаключённых, как и у сектантов, — бесконечная жвачка. Ну, говорю, Василий что-то там писал. Я знал, что он пишет стихи, но я не чувствовал, что стихи Василия могут меня чем-то заинтересовать. Сказал и о сказанном мной Василию: писать стоит только в том случае, если ты уверен, что скажешь что-то новое или напишешь лучше Шевченко, Шекспира. Ну, и стал говорить об ответе Василия на сказанное мной. Я ещё не успел закончить предложение, в котором говорилось о том месте, которое устраивало бы Василия на той иерархической лестнице (мне так и не известно, для чего Василию было нужно какое-то место. Хотя, что кроме стремления оставить по себе след!), как с переднего ряда поднимается какой-то мужчина, машет руками, показывая этим, что я должен прекратить своё выступление. Что ж, пусть. И я сказал ему:
— Я уже заканчиваю.
Сказав ещё что-то такое, чтобы моё выступление имело законченную форму, поблагодарил за внимание. На этом вечер закончился. Беда с этими идолопоклонниками, которые не могут быть без культов и кумиров. Создадут себе кумира и уже: говори о нашем кумире только то, что мы говорим! Они не хотели понимать того, что Василий для них кумир, а для меня обычный человек, обычный себе заключённый, который ничем не отличался от большинства заключённых. Писал стихи! Ну и что?! Ведь тех стихов уже столько написано, что ими, наверное, не один раз можно было бы земной шар опоясать. И что та поэзия, литература вообще — то же, что и лягушачий гомон в болоте. (Как-то был на собрании литераторов и художников. Запомнилось выступление художника, который сказал: «Если бы люди писали на камне, то было бы меньше глупостей написано»). И я говорил не о поэте, а о заключённом. К тому же, все поэты для меня обычные люди — как все. И если какой-то человек что-то там рифмует, то пусть себе рифмует, если не хочет сказать о чём-то нормальным языком. Ведь умение рифмовать не свидетельствует, что ты умнее или более достоин уважения, чем тот, который не рифмует. Наверное, если бы я рассказывал что-то подобное об Антоне Олейнике или Николае Танащуке, то всё воспринималось бы нормально и меня не остановили бы. Думаю, что если бы был в зале Василий, то сказал бы: «Не мешайте ему!» Одним словом, тот вечер для какой-то части присутствующих в зале был несколько испорчен моим выступлением. И всё же, наверное, мне не нужно было выступать. Ведь сказано: «Не ходи со своим уставом в чужой монастырь».
После окончания того вечера госпожа Ирэна Козак забрала меня и Боровского к себе, где мы познакомились с мужем г-жи Ирэны Владимиром и их дочерью. Пробыли у них несколько суток. Приходил и Покальчук, с которым немного пообщались. А от Козаков перебрались в Украинский Свободный Университет (УСУ), где нам предоставили большую комнату. В одной из комнат был и известный певец Николай Гнатюк с женой. Как-то он заходил к нам. Проблем у нас никаких не было. Итак, рылся в библиотеке университета, имел выступление на радио «Свобода» и много времени слонялся по улицам Мюнхена. А до улицы Цеппелинштрассе, где был офис ОУН(б), добирался берегом реки Изар. Я часто наведывался в офис. Познакомился там с ведущими деятелями ОУН Иваном Кашубой, Степаном Мудриком-Мечником, Иваном Марчуком и другими. Был и у Любарских — Кронида и Галины. А потом по приглашению Анни Вайланд посетили город Карлсруэ. С Анни и её мужем Фрицем я уже встречался в Киеве незадолго до поездки в Германию. Это было летом во время их туристической поездки в СССР. Мы тогда поехали на квартиру к моей троюродной сестре Гале Лемпке (Корнийчук) и провели хороший вечер. К сожалению, Фриц, хоть и был на фронте, но русского языка совсем не знал, а потому общение с ним было довольно ограниченным. А Анни, 1912 года рождения, в детстве жила в Украине, и хотя в 1919-м или в 1920-м переехала в Германию, но русского языка не забыла, и поэтому с ней можно было легко объясниться. Анни познакомила нас и со своим родственником Вольдемаром Краузе и семьёй по фамилии Классен. Вольдемар находился в Украине в тыловых частях. Русским владел лучше Анни. На встречу с нами привёз письмо от учительницы, кажется, из Сумской области, датированное 1943 годом. В нём она писала о своей жизни и всё благодарила Вольдемара за спасение брата, который был арестован. Какое это было хорошее письмо украинской учительницы к немецкому офицеру! Я не спросил, но из того письма догадывался, что у них тогда возникли те чувства, которые являются чем-то большим, чем симпатия. Жаль, что не догадался сделать копию с того письма. А Классены проживали в Казахстане. Алиса Классен недавно приехала к своей матери, которая выбралась из СССР раньше. Мать Алисы часто вспоминала своего отца, который был арестован ещё перед войной. Он погиб в лагере у реки Печоры, и она ещё надеялась, что тот лагерь можно найти, а значит, найти и место захоронения заключённых. За этим общением пробежало несколько дней. Перед заходом солнца, попрощавшись, мы выехали на Мюнхен, чтобы той же дорогой вернуться в Украину. Я ещё долго переписывался с ними. Получал от них приглашения и для моих приятелей, которым хотелось побывать в Германии.
А вторая поездка состоялась в августе 1991 года. Ехал поездом. Кроме меня ехали львовяне Григорий Приходько (Председатель Нацсовета УМА) и Левко Франчук. Где-то в полночь прибыли в Мюнхен. На вокзале нас встретила Слава Стецько, которая в тот вечер провожала Ивана Сокульского. На своём авто госпожа Слава привезла нас в офис ОУН и поселила в его комнатах. В то время в офисе были и инициаторы создания в Украине Братства воинов УПА Михаил Зеленчук и Орест Дичкивский. Думаю, что как у меня, так и у тех, кто ехал со мной, особой нужды в поездке в Германию не было. Что до меня, то почему бы не проехаться. К тому же, ехал Левко, так может и авто куплю, а он пригонит его в Украину. (Авто не стал покупать, потому что неожиданно Левко купил себе автомобиль и поехал домой. Да и особой нужды в приобретении авто не было, ведь ещё была неопределённость относительно моей дальнейшей жизни. К тому же, из-за близорукости я не смог бы его водить).
В то время в Мюнхене, если не ошибаюсь по приглашению УСУ, находился Михаил Осадчий, с которым я был в Мордовии (пос. Сосновка). Встретился случайно, приехав в Украинский интернат общества «Родная школа». Там было немало людей из Украины, но я с ними не был знаком. Случайно встретился также с Галиной — женой Любарского. Тот случай был каким-то невероятным: на улице Мюнхена встретить кого-то из знакомых. Но так случилось. Вот как-то Григорий, Левко и я идём по улице, а мимо нас проходит небольшая группа. Уже прошла, когда я услышал что-то знакомое в русском произношении. Оглядываюсь, подбегаю к ним. А это Галя Салова со своей сестрой (родной или двоюродной) и их знакомым. Как тут было не удивиться?! Галя забирает меня с собой, и мы едем на квартиру к Любарским.
Мы были ещё в Мюнхене, когда объявили о ГКЧП. Григорий сразу же:
— Надо немедленно возвращаться в Украину!
Мне-то было безразлично. И, может, поехали бы, но Степан Мудрик говорит:
— Надо подождать, потому что вас уже на границе могут арестовать.
Когда с ГКЧП было покончено, мы стали собираться в дорогу. Где-то тогда же был провозглашён Акт о независимости Украины. То событие для меня прошло как-то незаметно. Я даже не могу вспомнить тот момент. И ничего удивительного. Ну, провозгласили, и что?! Что, люди не будут рожать калек, не будут болеть, не будут умирать?! Или, может, будут молочные реки, кисельные берега?! Ну, имеем ещё один независимый муравейник, в котором так же будут свои проблемы, неурядицы. Провозглашение независимости — это не объявление о втором пришествии Иисуса Христа, о рае, о царстве Божьем. А, следовательно, не было оснований восклицать в восторге «Осанна!» Ведь независимость муравейника не снимает абсурдности бытия.
Нам пора уже отправляться в дорогу, потому что и виза заканчивается. Но возникла задержка: Григорий купил себе двухдверного «Опеля», а сесть за руль некому. Хоть бери и выезжай без машины. До границы с Польшей соглашается пригнать это авто Панкевич (сын Романа Панкевича). Но кто же погонит дальше? Тогда я предлагаю Григорию свою услугу, сказав, что пригоню до Вроцлава, а там найду водителя, который погонит дальше, потому что мне нужно побыть во Вроцлаве несколько дней. Григорий сразу же соглашается, и мы отправляемся. Поехали на Дрезден. Где-то под утро выехали из Дрездена и со временем неожиданно оказались на таможне. Даже миновали часового на вышке. Панкевич останавливает машину, выскакивает и машет часовому, жестами показывая, что он возвращается назад. Панкевич собирает свои вещи, а я к нему:
— Как здесь переключается скорость? И ещё там что-то спрашиваю.
Он поспешно показывает мне, хватает свою сумку и идёт назад. Ему ехать на Берлин. Ещё до выезда из Мюнхена я планировал посидеть хотя бы несколько минут за рулём «Опеля», но как-то так вышло, что было не до того. А тут эта таможня так неожиданно! Завожу машину и по прямой подъезжаю к тем, кто проводит контроль. Пройдя контроль немецких и польских таможенников, подъезжаю к заправке, что сразу же за таможней. «Опель» стоит едва ли не перпендикулярно к заправке. Слышу голос поляка: «Что это он так поставил машину?» (Наверное, хотел проехать, но «Опель» перегородил дорогу). А я думаю: знал бы ты, почему я так поставил! Всё же быстро заливают бак, и я выезжаю на дорогу в сторону Вроцлава. Я хотя и в очках, но остроты зрения не хватает, чтобы быть за рулём. Поэтому говорю Григорию, который сидит рядом:
— Как увидишь дорожный знак, сразу же говори мне, что на нём.
Григорий так и делает. Мчимся. Я спешу, чтобы раньше добраться до Вроцлава, до которого около ста пятидесяти километров. Дорога прямая, не широкая. Изредка проносятся небольшие сёла. Григорий мне:
— На спидометре — 115. Не гони так быстро!
И вот главная дорога поворачивает влево, а мы спускаемся в низину, к мосту. Сбавив скорость, я еду к мосту, а с противоположной стороны на мост выезжает грузовик.
— Тормози! — кричит мне Григорий. Но я почему-то не хочу возиться с этими педалями и потому мчусь к мосту с уверенностью, что успею разминуться с грузовиком на мосту ещё до того, как он свернёт на мою полосу, потому что его полоса на выезде с моста перегорожена. Я уже у моста, а грузовик, объезжая препятствие, выезжает мне в лоб. Я поворачиваю руль вправо, выскакиваю правым колесом на пешеходную дорожку и, одновременно вспомнив о педали, жму на тормоза. Машина, заглохнув, остановилась. А мимо, в каких-то сантиметрах, а может, в миллиметрах, проезжает грузовик. Проехав, не остановился. Вокруг безлюдно. Наверное, водитель подумал: какие-то дураки, что с ними связываться. Мне повезло, что пешеходная дорожка была без выступа и я смог выехать на неё, прижав машину к самым перилам. Завожу машину и, съехав с дорожки, еду дальше. Уже пора и пообедать. Съезжаю на обочину, достаём продукты и обедаем, сидя на передних сиденьях. И тут к нам подъезжает машина. Их двое, в униформе. Наверное, польская ГАИ. Подаю им свои водительские права. Посмотрев, гаишник возвращает их мне и требует уплатить штраф, потому что я не выставил аварийный знак. Беру у Григория 20 марок, сажусь к ним в машину и, обменяв в какой-то забегаловке неподалёку на злотые, плачу штраф. Едем дальше. Григорий недоволен:
— Это ты должен был платить, — говорит мне.
— Если бы я убил человека, то ты поехал бы домой, а я сидел бы в польской тюрьме, — отвечаю я на это Григорию.
И в самом деле, рискованно гнать чужую машину. Всё может случиться в дороге. Конечно, если бы я её только повредил или разбил, то это была бы небольшая беда. Я бы ему тут же отдал марки, и на этом всё. Наконец добрались до окраины Вроцлава. Чувствую, я настолько устал, что дальше гнать машину не смог бы. Тем более через всю Польшу с большими населёнными пунктами. Ведь какой из меня водитель?! Перед поездкой в Германию, может, с полчаса посидел за рулём «Жигулей» на безлюдной дороге. Вот и всё, что по прямой я ещё мог ехать. А вот совершить манёвр — это уже было проблемой. Знал бы Григорий, что я за водитель, то, наверное, ни за что не согласился бы с тем, чтобы я вёл машину. Уже позже, при встрече в Житомире, Григорий говорит:
— Ну ты и авантюрист! (Наверное, Франчук сказал ему, какой я водитель).
Увидев какую-то площадку, на которой стояло несколько машин, заезжаю на эту площадку. Оставив Григория в машине, еду на рынок. На рынке полно людей, торгующих разными вещами. Подхожу к тому ряду, где торгуют украинцы. Спрашиваю, есть ли среди них водитель. Нахожу водителя. Он соглашается гнать машину. Наверное, хочет усовершенствовать свои водительские умения, потому что недавно окончил курсы. Воспринимает предложение с удовольствием.
— Уже всё продал. Вот осталась пара тапочек. Продаю и едем, — говорит мне.
Вскоре тапочки проданы, и мы, уже перед заходом солнца, у «Опеля». Я забираю из машины свои вещи и иду на остановку городского автобуса, которая рядом. А машина тронулась в ночь, на Украину. Не прошло и получаса, как подъезжает авто. Я сажусь, и Пётр Крик везёт меня к себе на квартиру.
Вернувшись в Житомир, вижу радостные лица приятелей, которые рассказывают о событиях в Житомире во время ГКЧП и о том, как был опечатан обком. Кругом среди патриотов эйфория. Впечатление такое, что для них «независимость» — это панацея от всех бед. Я не разделял их оптимизма. И не потому, что «независимость» не панацея от всех бед, а и потому, что эта «независимость» условна, ведь всё, что было в руках колониальной администрации, так и остаётся в её руках.
Независимость провозглашена, но украинский народ не является хозяином на своей земле. А потому, когда впервые из телевизора прозвучал Гимн Украины, я отнёсся к этому равнодушно. Это было на квартире у Валерия Колосовского. Я, Валерий и Василий Овсиенко — секретарь УРП — сидели за маленьким столиком недалеко от телевизора. Пили кофе. И вдруг первые аккорды Гимна Украины, а на весь экран — бывший секретарь ЦК КПУ Кравчук. Валерий с Василием вскочили, вытянулись в струнку. Я продолжал сидеть. Лишь после нескольких замечаний нехотя поднялся. Я понимал: наш Гимн исполняет наш враг. Над нами просто насмехаются, потому что статус Украины определяет не декларация, не Конституция и не Гимн. Статус определяет то, в чьих руках власть. А власть остаётся в руках тех, у кого она и была, — колониальной администрации, которая, опираясь на денационализированную часть этноса и миллионы пришлых, враждебно настроенных ко всему украинскому, в скором времени и показала себя, быстро разваливая экономику Украины и присваивая всё то, что принадлежало государству, то есть народу.
Осенью того же года побывал в Городище. Это случилось благодаря Локуциевскому. Не так давно он ещё сидел в лагере в Бердичеве, куда его перебросили из Городища, и вот он уже на свободе, на собственном авто с тысячей долларов в кармане. Правда, он уже не Локуциевский. У него уже другая фамилия. А в 90-м он был ещё в лагере, я приезжал с его женой в Бердичев, где на складе труб, которые должны были завезти в лагерь, в одну из труб положили для него чай. (За то недолгое время пребывания в Бердичеве он успел жениться. Его жена Анна была житомирянкой с Богунии). Где-то в 90-м Локуциевского перевели на строгий режим, и он оказался в Архангельской области, где с помощью одного из солдат группе заключённых, в том числе и ему, удалось сбежать. Он прибыл на Украину и долго скрывался в Житомире. И вот, приехав ко мне, предложил съездить с ним в Городище, где он должен был передать своим приятелям «подогрев» — чай. Я решил воспользоваться случаем проведать лагерь, а заодно попытаться получить свидание с другом Поддубного Вертилецким, с которым я переписывался. Вертилецкий был одним из тех, на кого можно было рассчитывать. К тому же в совершенстве владел приёмами каратэ. Остановились поодаль от вахты. Подойдя к вахте, увидел на воротах большой тризуб. Вскоре, узнав, что я у ворот, выходит с вахты мой давний знакомый, который и в ШИЗО меня сажал, — начальник режимной части. Но уже не майор, а подполковник. А на шапке не звезда, а — тризуб! Идёт ко мне, приветливо улыбается, подаёт руку со словами:
— А ты был прав!
Жму ему руку. И как не пожать?! Народ же его любит. Ведь он не виноват в том, что он в украинском государстве подполковник, а я — никто! Сразу же дали и свидание через стекло, и несколько пачек чая передали Вертилецкому. А хотелось зайти в лагерь, походить по нему, пообщаться со многими знакомыми. Но ведь — «нельзя». Я — «никто». У меня нет соответствующих полномочий, чтобы пересмотреть дела заключённых, с которыми сидел, и больше половины заключённых вывести за ворота, чтобы они почувствовали, что «независимость» принесла им свободу. Поехав на склад, который не охранялся, спрятали в ящиках с деталями чай и вернулись в Житомир. (А в лагерях я ещё бываю. Правда, уже во сне. Ещё изредка летаю. Поднимаюсь над лагерем, бывает, что и за облака, но почему-то, как и в лагере, никак не могу свернуть в сторону, полететь за запретку. И как бы высоко ни поднялся, а приземляюсь в лагере.)
В первой половине 90-х проведал я и другие лагеря. Побывал в Изяславе на краткосрочном свидании (где-то с полчаса) с Константином Прокоповым, которому отвёз продуктовую передачу, и в Бердичеве, где у меня было свидание с Ярославом Шараном. Шарану удалось передать лишь несколько пачек чая и пачку печенья. Хотелось хоть как-то отблагодарить их за ту поддержку в Городище.
А Локуциевский погиб. В мае 1992-го моя приятельница Валентина сообщила мне, что звонил Иван, просил, чтобы в 8 часов утра я был у телефона. На следующий день я уже у Валентины. Просидел часа два, а звонка нет. Вскоре встретился в Киеве с кем-то из бывших заключённых из Городища, который сообщил мне, что в ту ночь Иван отстреливался и был смертельно ранен. Телевидение, передавая об этом событии в Киеве, сообщало, что на квартиру, в которой он ночевал, брать его прибыла опергруппа из Житомира. Иван не собирался им сдаваться. Он должен был погибнуть ещё раньше, до заключения, но во время задержания ему не удалось добраться до гранаты. Иван слишком загулял в Киеве по тем «хатам» и не очень остерегался.
Я не раз говорил ему: возвращайся в Латвию. Там тебя уже никто не будет преследовать.
Но его туда почему-то не тянуло. И всё же он с Анной на автомобиле съездил в Латвию и проведал там мать и сестру. Было ему 50 лет. Это был надёжный человек.
Летом того же года я сооружал чугунную ограду вокруг могил расстрелянных в Базаре повстанцев. Побывал и на Волыни в дни празднования 50-летия УПА. А уже 18 сентября ко мне прибыли Пётр Дужий и Мелетий Семенюк с целью создания Представительства Секретариата Конференции Украинских Националистов. На следующий день собрались в зале, который арендовала «Орея». Кроме прочих на собрание прибыли представители Житомирской организации Украинской Консервативной Республиканской партии во главе с Председателем УКРП Степаном Хмарой. Решили создать Представительство Секретариата. После создания меня избрали председателем Представительства Секретариата Украинских Националистов Житомирщины.
Итак, хотя и было провозглашено, что возникло независимое Украинское государство, но это государство не было наполнено украинским содержанием, а потому украинское государство ещё нужно было завоёвывать. Одновременно с построением районных организаций Представительства Секретариата шло и построение ветеранской организации Братства УПА. Это по просьбе Мелетия Семенюка, который в то время возглавлял Волынское Братство УПА, а Житомирщина территориально входила в него, я взялся за создание станиц, и уже к концу 1992 года были созданы Житомирская, Новоград-Волынская, Коростенская, Бердичевская, Коростышевская станицы Братства УПА Волынского края.
Осенью того же года пани Слава Стецько, которая в то время уже была Председателем ОУН(б), провела в Киеве съезд организаций Представительства Секретариата Украинских Националистов, на котором была создана новая организация — Конгресс Украинских Националистов (КУН). Вернувшись из Киева, я сразу же приступил к созданию на базе Секретариата Украинских Националистов областной организации КУН. В октябре в Житомире было проведено учредительное собрание. (Для Минюста, уже позже, пришлось провести собрание повторно). Будучи председателем Житомирской областной организации КУН, основное внимание сосредоточил на деятельности этой организации. Кстати, должен сказать, что мне было неприятно, что Председателем ОУН и КУН является лицо женского пола. В Украине что — совсем перевелись казаки?! Неприятным было и то, что моим начальником является женщина. Помню, ещё в Мюнхене пани Слава предлагала мне стать членом ОУН, но я отказался, объяснив, что хочу быть несколько свободнее, потому что в ОУН большие требования, строгая дисциплина. Конечно, я не хотел быть от кого-то или чего-то очень зависимым, но и не хотел, чтобы в члены организации меня принимала женщина. Но зная, что такое ОУН, мне всё же хотелось помочь этой организации, а значит — согласиться с тем, что моим начальником будет лицо женского пола. Как себе, так и другим, я объяснял так: население Украины благодаря лжи коммунистической партии дезориентировано. Оно воспринимает ОУН как головорезов, а потому и была сознательно избрана Председателем ОУН пани Слава, чтобы показать этим: ОУН и её новосозданной националистической организацией (КУН) руководит не какой-нибудь там националист с замашками «головореза», а старая женщина. Такими были мои соображения. Но, как оказалось, я ошибся. Те, кто избирал пани Славу, руководствовались чем-то другим, хотя в то сложное и решающее время руководителем организации должен был бы быть относительно ещё молодой, энергичный человек типа Бандеры, Шухевича. В результате деятельность КУН ничем не отличалась от деятельности УРП и Руха. Таким образом, вся борьба за украинскую власть в Украине свелась к призывам к этой борьбе. Все призывали. Бороться было некому.
Шёл год за годом, но ничего не менялось в борьбе за украинскую власть. Украинских патриотов периодически избивали и убивали, а в ответ — лишь возмущение и требования найти убийц и должным образом наказать. Сколько было избито и убито! А что было сделано в ответ этим украиноненавистникам?! — Ничего! Взять хотя бы того композитора Билозира, убитого и не где-нибудь, а во Львове! И что же? Убийцы получили какие-то там сроки и оказались в лагере. И, наверное, уже отсидели назначенное. Я не слышал, чтобы их кто-то наказал так, как это должно было быть. Думаю, что если бы хотя бы одной из националистических организаций руководил националист типа Романа Шухевича, то даже в лагере он добрался бы до них и наказал бы — за причинённую смерть они ответили бы своей смертью. Тогда каждый украиноненавистник знал бы: расплаты он не избежит. А так что? Украинофобы творят всякие бесчинства и в глаза смеются над украинцами. Перевелись Герои! Патриоты Украины хотят иметь Украинское государство, а вот рисковать своей жизнью за это государство у них желания не возникает. Подрастающие поколения берут пример не с тех, кто брался за оружие, а с тех, кто стал героем с меньшим для себя риском (культ героя заменён культом лицедея). Конечно, безопаснее танцевать, петь, писать, соревноваться в красноречии и получать за это награды. В героях ходят те, кто поёт и танцует.
До появления областной организации Конгресса Украинских Националистов на Житомирщине уже действовало несколько партийных и общественных организаций патриотической направленности, возникших ещё во времена перестройки. Наиболее многочисленными были областные организации УРП и Руха. Областная организация УРП, возникшая на базе областного филиала УХС, в то время была наиболее авторитетной среди организаций области, потому что в целом в УРП собрались лучшие представители патриотических сил области. Деятельность этой организации была направлена исключительно на восстановление украинского государства, а после провозглашения независимости — на его развитие. Это была организация, которая и в дальнейшем нормально сотрудничала с другими организациями, в том числе с КУНом. А что касается руховской организации, то, насколько мне известно, руководство районных ячеек было таким, с которым можно было найти общий язык. А вот с областным руководством найти общий язык было трудно. И не только для КУНа. Это была группа лиц, лидер которой, приписывая себе участие в диссидентском движении (указал об этом в своей предвыборной листовке), мечтал лишь о мандате депутата Верховной Рады. А потому вся деятельность этой группы прежде всего была направлена на получение мандата для своего лидера. Ещё в 90-х годах этот лидер, в очередной раз не получив мандата, сказал: «7 лет — коту под хвост». Членов Руха, имевших своё мнение, эта группа лишала членства в организации. Попутно скажу и о том, чем закончила эта группка, приняв активное участие в конце 90-х годов в развале Руха. Она закончила тем, что, будучи рядовыми советской армии, сшила себе подобную милицейской униформу с генеральскими лампасами, нацепила на плечи генеральские погоны, а на грудь кучу каких-то значков и наград (один юморист как-то предлагал одному из них купить у него медаль «Мать-героиня») и щеголяют перед житомирянами своим генеральством. Словом, закончила клоунадой.
За политической вознёй пробежали 90-е годы. За это время я ещё раз побывал (декабрь 1994 г.) в Мюнхене; получил однокомнатную квартиру, согласно закону об обеспечении реабилитированных жильём, и два раза баллотировался в ВР — довыборы в 1996-м по Королёвскому округу, где занял 3-е место из 6-ти, и в 1998-м году по Новоград-Волынскому округу, где занял 8-е место из 13-ти. Конечно, сомнений в том, что я не пройду, не было, но ведь нужно было, чтобы о КУН знали на Житомирщине. И, как известно, проигрывал не только я. В целом проигрывали украинцы — проигрывала Украина. На выборах побеждал менталитет значительно преобладающей части населения Украины, которая не восприняла патриотические силы, выступавшие под жёлто-голубым флагом с национальными лозунгами. Эта часть населения, хотя и проголосовала на референдуме 1 декабря 1991 года за независимость Украины, всё же была против того, чтобы Украина стала украинской. Она настолько была настроена против всего украинского, что готова была проголосовать и за чёрта, лишь бы не за патриота, стремившегося построить украинскую Украину. К тому же, всё, что выступало против коммунистов под жёлто-голубым флагом, у этого населения ассоциировалось с буржуазным национализмом, а именно с капитализмом — с общественным строем, который для этого населения был носителем большего зла, чем коммунизм. (Это благодаря ориентации на этот менталитет Житомирская организация «Гражданский Фронт» (ГФ), выступая под красным флагом, смогла завоевать один мандат в ВС СССР и три мандата в ВС УССР). Итак, большинство населения Украины пошло за коммунистами, хотя уже было видно, что коммунистическое чиновничество давно распрощалось с идеей коммунизма и взлелеянный коммунистами государственный капитализм заменяет частным капитализмом, в котором коммунисты уже не просто какие-то должностные лица, а владельцы малых и больших (в зависимости от проворности) предприятий, а те, кто за них голосуют, становятся их батраками. (Именно это большинство и несёт ответственность за условия жизни, которые оно создало для себя и для последующих поколений). В результате идея ограниченной частной собственности, которую, без сомнения, воплощали бы в общественную жизнь патриотические силы, не была реализована. А это был бы строй более социалистический, чем капиталистический, потому что в Украине не было почвы (все жили на мизерную зарплату) для капитализма — для покупки какого-либо предприятия. Как известно, коммунисты создали эту почву. Имея своих президентов и подавляющее большинство депутатов в Верховной Раде, они приняли соответствующие законы, на основании которых обокрали народ, и Украина стала капиталистической — с миллионерами и миллиардерами. А именно: с панами и холопами. (Когда видишь, как выскочив из передней дверцы авто лакей открывает дверцу какому-то пану, то можно над этим смеяться. А можно и пулю всадить — как в одного, так и в другого. Сперва — в лакея, потому что лакейство порождает панство. Разве могли бы существовать хоромы, если бы в них не было прислуги?!). Сообщество, в котором есть место для миллиардера, является нездоровым сообществом. Фактически — это не сообщество. Что может быть общего у пана с холопом? То же, что у всадника с конём. (Всё же лучше получать меньшую зарплату на государственном или коммунальном предприятии, чем получать большую, но с клеймом батрака у какого-то владельца).
Украина, о которой веками мечтали украинцы, так и не состоялась. (И уже не состоится. Современная цивилизация всех сделала рабами). Всё идёт и дальше так, как в коротком анекдоте: в яме с высокими бетонными стенами сидят мужчина и женщина. После тщетных попыток выбраться из ямы мужчина и говорит женщине: нам отсюда не выбраться, так давай наделаем детей — может, им удастся.
Когда-то большевики, уничтожая буржуазию, взялись изменить природу человека. Эксперимент не удался. Не помогло и прокрустово ложе. (Наверное, потому, что на это ложе не положили самих экспериментаторов). Всё вернулось на круги своя. Природу человека не изменишь. Им, идеалистам, остаётся либо примириться с человеком, каков он есть, либо уничтожить его.
В середине 90-х купил авто для собственных нужд, да и для нужд организации, особенно во время выборов. Удалось решить проблему и с гаражом. Выручил Евгений Концевич, с которым меня познакомил Василий Овсиенко ещё где-то осенью 89-го.
Немного остановлюсь на этой исключительной личности, потому что, хотя уже много сказано о пане Евгении, но и я имею что сказать о нём. Тогда, в 1989-м, я только познакомился с паном Евгением, потому что говорить с ним у меня было не о чем. Хотя Овсиенко тогда и рассказывал мне что-то о нём, но я не очень в это вникал, потому что прикованный к кровати-коляске человек не мог вызвать у меня какого-либо интереса. Ну, помню, было сочувствие и что-то вроде: «Пеший конному не товарищ». А уже в 95-м, когда возникла проблема с гаражом, вспомнил об усадьбе пана Евгения. Навестив, сразу же получил разрешение на установку. Поставив в углу сада металлический гараж, я стал часто навещать пана Евгения, стараясь чем-то ему помочь в уходе за усадьбой. Так благодаря пану Евгению, к которому, кроме прочих, наведывались писатели (его усадьба была очень удобной для посиделок), я познакомился со многими литераторами, в том числе и с Юрием Гудзем и Григорием Цымбалюком, которые, как оказалось, были родом из соседних с Рогачёвом сёл: Юрий — из Немыльни, а Григорий из Вирли. Бывало, когда у него собиралось много пишущих, то пан Евгений, «пугая» эту писательскую братию, говорил: «Бабич всех вас перестреляет, а меня нет, потому что у меня его гараж стоит». Пан Евгений не разделял моих взглядов на жизнь. В этом вопросе мы были антиподами. Хотя на душевном уровне нас многое объединяло.
Бывало, что я затрагивал тему абсурдности бытия, но до спора, а тем более до баталий, о которых пишет Цымбалюк в книге «Ипостаси», у нас не доходило. А вот на политической почве, о чём также пишет пан Григорий, действительно, и пан Евгений прекращал телефонный разговор, и до крика доходило. Но это был короткий период в нашем долгом общении, в котором где-то в течение года мы «митинговали» вокруг лица, носившего звание «Президент». И всё же под давлением фактов, которые подбрасывал ему сам «Президент», пану Евгению пришлось отступить и даже дать меткое прозвище тому лицу — «Матня». (Я ещё до выборов видел, что украинцам подсунули не ту кандидатуру. Но ведь другую кандидатуру и не избрали бы. Большинство из тех, кто его избрал, — избирали своё подобие. Те, кто избрал В. Ю., разве избрали бы Хмару?! Разве избрали бы Бандеру?! Итак, какое ехало, такое и встретило).
Я рассказывал пану Евгению кое-что из своего прошлого, и он всё настаивал, чтобы я написал воспоминания. Я и написал (ведь рисовали портрет, не соответствующий мне) ещё при его жизни и, незадолго до ухода в мир иной, будучи уже глухим, он ещё успел прочитать тот сокращённый вариант на основе интервью, который позже был напечатан в журнале «Світло спілкування» (№ 13, 2011 г). Прочитав, сказал: «Тут всем досталось».
Евгений Концевич — это человек светской духовности и светлой души. Он отличался своей душевностью, что и притягивало к его усадьбе всех тех, кто познал её и кто больше всего ценил в человеке его душевные качества.
В 1998 году по моей рекомендации председателем областной организации КУН был избран Александр Муравицкий, который ещё с конца 80-х годов проявил себя как способный организатор, а Коростенская организация, которую он возглавлял, — занимала ведущее место среди районных организаций. А сам, чтобы помочь Муравицкому, согласился побыть какое-то время председателем секретариата организации. Ну, а уже в следующем году началась президентская предвыборная кампания, и в мае в Киеве собрался политсовет КУНа для решения вопроса участия партии в президентских выборах. Кроме прочих, к нам пожаловал и бывший генерал КГБ Евгений Марчук с предложением поддержать его как кандидата в президенты. Я был против вхождения КУНа в блок организаций, выдвигавших кандидатом Марчука. А потому обратился к Марчуку с вопросом, на который ответить однозначно было бы довольно сложно. Итак, сказав коротко о ситуации, в которой находится Украина, я спросил:
— Господин Марчук, ядерного оружия у нас уже нет, но у нас есть мина — ядерные реакторы. Если Вы, будучи президентом, увидите, что Украина окончательно погибает, то хватит ли у Вас мужества распорядиться своей судьбой и судьбой народа — взорвать все ядерные реакторы в Украине?
В зале — могильная тишина. Марчук в каком-то оцепенении. Его молчание затягивается. Уже пора бы ответить, а он — молчит. Наконец шевельнул плечами, расправил широкие плечи и как-то не совсем уверенно, но довольно громко, начал: «Ну, можно было бы шантажировать…» Но, видимо, поняв, что это могут использовать против него на выборах, стал пятиться и закончил тем, что нам хватит и Чернобыля. (Вот он, Марчук, когда КУН поддерживал его как кандидата, будучи в Коростене, сказал Муравицкому: «А, это тот, что хотел посадить меня на реактор»).
Мы тогда избрали кандидатом в Президенты члена КУНа, гетмана Украины Ивана Биласа. Я поддержал эту кандидатуру, хотя и понимал, что нам и одного миллиона подписей не собрать. Так оно и случилось. Где-то за две недели до определения кандидатов на пост Президента я, обзвонив ряд областных организаций и окончательно убедившись в том, что подписей нам не собрать, поехал в Киев, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Не помню: то было заседание Провода КУНа или просто пани Слава собрала в зале ведущих деятелей КУНа для обсуждения каких-то вопросов. Зайдя в зал и сразу же получив разрешение на выступление, сказал: «Как Житомирская организация, так и ряд других областных организаций, подписей не собрали. И за две оставшиеся недели нам их не собрать. Если мы не хотим сесть в лужу, то необходимо, чтобы Билас немедленно снял свою кандидатуру». Что тут началось!
— Паникёр! — кричит первый заместитель пани Славы, Орест Васкул. Слышу возмущение и от других. И пани Слава, поддерживая их, также высказывает своё возмущение. Я выхожу из зала. А где-то через неделю слышу по радио, что Иван Билас снял свою кандидатуру. А что было бы, если бы он не снял?! Объявили бы: КУН не смог собрать миллион подписей. Уже позже, прибыв на Ярославов Вал в офис КУНа, где был радушно встречен заместителем пани Славы Богданом Павливым, который сказал при этом, что я тогда правильно поступил насчёт Биласа, я спросил у Павлива:
— А почему же пани Слава так себя повела?
— Так надо было, — говорит мне Павлив.
Итак, в Проводе был раскол, и пани Славе выгоднее было показать, что она с теми, кто возмущён моим предложением. Но на что надеялись Васкул и другие, мне так и не известно. Знаю лишь, что после того инцидента уже не было дружеского отношения ко мне со стороны пана Васкула.
Кстати, раз уж пошла речь о Конгрессе и пани Славе, то, думаю, следует рассказать и о таком… В конце ноября 2000 года состоялся 5-й Съезд КУНа. А перед Съездом состоялись конференции областных организаций, на которых избирались делегаты на Съезд. Состоялась и конференция Житомирской организации. По моему предложению конференция приняла решение: должность Председателя КУНа должен занять молодой энергичный человек, а пани Слава должна быть почётным Председателем. И вот я в Киеве в офисе КУНа. Захожу в большой кабинет пани Славы. В кабинете и Председатель Секретариата КУНа Владимир Борейчук. Сев напротив пани Славы, информирую её о деятельности областной организации и о том, какое решение было принято на конференции. Об этом решении она впервые слышит, а потому я спрашиваю:
— А разве пан Борейчук не ознакомил Вас с протоколом конференции?
Оказывается, что нет. Не знаю, из каких соображений он не ознакомил с протоколом пани Славу, но тут же Борейчук сказал, что такое решение приняла лишь одна организация — Житомирская. А я дальше:
— Пани Слава, я Вас уважаю, Вы дорогой для меня человек, но организация КУН для меня дороже. Думаю, что и для Вас так же… Надо учитывать психологию мужчин. Возьмём такое: через село едет отряд казаков, а впереди женщина-атаман…
— Да ещё и старая, — уточнила пани Слава.
— Ну, — пожал я плечами и продолжаю, — так много ли мужчин из этого села вступило бы в этот отряд?
Воцарилась тишина. Пани Слава поднимается и выходит из кабинета. Посидев с минуту, я также встаю и иду к выходу. Я в дверь — и пани Слава в дверь. Проходя мимо меня, говорит:
— Я ещё могу лучше молодой!
— Это хорошо, пани Слава, — оглянувшись, говорю ей вслед.
Быть Председателем организации — это тащить воз. Для чего пани Славе нужно было быть до конца жизни в этой упряжи — мне так и не известно.
В 2000 году я был полностью занят сооружением Мемориала в Базаре, а потому всё больше отходил от деятельности в областной организации. А уже после сооружения Мемориала совсем отошёл от деятельности в КУН.
Оставив политическую деятельность, которая для меня была такой же, как любить, не будучи влюблённым, я всё же не сложил совсем руки. Осенью 2002 года я снова в Базаре. Согласно решению Объединения бывших Воинов Украинцев (ОбВУ) в Великобритании, занялся перезахоронением павших в бою 17 ноября 1921 года участников Второго зимнего похода. А осенью 2006 года от Общества политзаключённых Житомирщины на окраине села Яроповичи, где в 1951 году погибла группа подпольщиков ОУН(б), с жителями села установил массивный 4-метровый крест. Убрал также идола из своего села: вечером 26 декабря 2008 года с жителями Новоград-Волынского Василием Остапчуком (бывший член ЦК комсомола Украины) и Александром Захарчуком, прибыв в село Рогачёв, приставили раскладную лестницу к памятнику Ленину, стоявшему возле дома культуры. Я и Остапчук держали лестницу, а Захарчук, забравшись наверх, бил кувалдой по бетонной шее исполнителя идеи Маркса и оккупанта Украины, пока голова идола не упала вниз. Голову бросили в багажник и, приехав в Новоград, сбросили её с моста, что через Смолку. Было слышно, как голова, ударившись о камни, разлетелась на куски. Я мог бы давно это сделать, но всё ждал, что найдутся в селе люди, которые без подсказки уберут идола из своего села. Безголовый идол с вскинутой выше себя рукой простоял почти до выборов Президента.
На том моя политическая и общественная деятельность полностью завершилась. «Погрёб вёслами» — и хватит. Почему я, считающий, что существование человечества, как и всего живого, есть абсурд, должен до конца заботиться о каком-то муравейнике — строить какое-то государство, нацию. (И для чего! Ведь всё находится в процессе трансформации. Процесс глобализации, связанный с техническим прогрессом и всё возрастающей численностью населения на планете, не остановить. Разве что планетарной катастрофой. Нации исчезнут, как исчезли племена. И какая разница: раньше или позже). Пусть этим занимаются те, кто считает, что в существовании последующих поколений есть какой-то смысл. Как по мне, то разве нельзя было бы предложить другим государствам взять нас, украинцев, на полное содержание в обмен на отказ от деторождения. Через 100 лет нас не было бы, и наша территория отошла бы тем государствам, которые согласились бы содержать нас на приличном уровне жизни. Мы были бы как в раю. И дети были бы рады. Не нужно было бы ходить в ту казарму — школу. Ведь в потустороннем мире приобретённые знания им не понадобятся. Думаю, что таких государств (дураков) хватило бы. Но может ли народ быть таким духовно великим, чтобы пойти на такое?! Конечно, нет. Лишь некоторые люди способны это понять, — понять то, что динозаврам хватило бы и одного поколения динозавров. (Люди и животные — это биологические роботы, которые, видимо, выполняют для кого-то неизвестную им функцию. Человека от животного отличает не творчество, а его способность постичь бессмысленность своего существования).
Человечество зашорено. Оно иррационально. Исходя из иррационального, видим, что если и подходить к жизни с его позиции — с признания, «что надо жить, и надеяться, и желать», то то духовное состояние, которое свойственно современным обществам, всё же не может быть приемлемым. Человечество будто деградировало, скатилось на очень низкий уровень. Взять хотя бы то признание на законном уровне однополых браков, разнузданность инстинктов с немотивированной жестокостью и явлением беспрецедентной бессмысленности, а скорее — безумия в истории человечества — людоедство по договорённости через Интернет, что свидетельствует о том, что избавляясь от табу, навеянных безумцами, функционируя, как и животные, лишь на душевном уровне, бездуховный человек возвращается в тот мир, из которого вышел, — в мир животных.
Раньше люди больше верили в Бога. А перестав верить — всё равно что-то искали, у них была какая-то идея, поиски идеала. На сегодняшний день люди разочаровались в идеалах и забывают о них. И это понятно: миражи, навеянные безумцами, почти растаяли в мареве, и люди не знают, куда им грести. Людям уже нужны новые безумцы, которые навеяли бы им новые миражи — религии.
Всё же сомнительно, что смогут появиться такие безумцы. Трудно представить, как можно было бы в современном мире — эпоху информации, внушить людям новые миражи, разве что-то из того, что внушал Гитлер. К тому же, очень далеко уже всё зашло. Дошло до того, что стали рыть кротовьи норы — метро. Планета перенаселена. За последние двенадцать лет людей на один миллиард стало больше. Их уже семь миллиардов. А семь миллиардов — это джинн, выпущенный из бутылки. На фоне этого монстра проблемы духовности отступают на задний план, становятся не стоящими внимания. Проблемой становится монстр. Ведь людьми, как коростой, покрыта вся планета. Всё, что живёт на планете, задыхается от численности и деятельности этого вида. Такие эффективные природные регуляторы численности, как чума, тиф и холера, — нейтрализованы. Постоянно уменьшается и смертность от различных заболеваний. Сегодня человек подобен бактерии-мутанту, на которую уже не действуют антибиотики. Человек ищет средства, которые действовали бы на бактерию-мутанта, а природа или та сила, которую люди называют Богом, видимо, ищет новые средства против человека-мутанта. (Человек жил на планете сотни тысяч лет, не нарушая того механизма, который был введён для регулирования численности и отбора. Вмешавшись в этот механизм (устройство), человечество, скорее всего, приведёт себя к катастрофе).
Я уже похоронил всех своих братьев и сестёр. Все, кроме Николая, в Рогачёве. Подготовил и для себя место. В сентябре 2009 года привёз из Новоград-Волынского карьера камень весом в полтонны и установил у могилы отца. На нём лишь инициалы и фамилия. Даты рождения нет, потому что летосчислений много, и я не смог выбрать какое-то из них. А что касается украинских летосчислений, то по предыдущему летосчислению я родился в 7447 году, а по современному (христианскому) — в 1939-м. Знаю одно: летосчисление не рубашка, чтобы его менять. Почему допустили эту глупость — неизвестно. (Вот и обзавелись: «новой эры», «до новой эры»). Пусть тот камень будет без даты. И без каких-либо символов, ведь я не принадлежал ни к одной из религий. Нет, я не был богоборцем. Богоборцы — это те, кто строит мир, альтернативный Божьему миру, — те, кто, как и животные, могут обойтись без Бога. (Современная цивилизация разве не является этой альтернативой — современной вавилонской башней?).
В заключение этого рассказа хочу сказать ещё вот что: я ещё в пути! Этот путь — дорога бессмысленности, на которую ступил своим появлением на свет. Выбора не было, потому что дорога бессмысленности — это дорога жизни. Мне не хотелось навязывать кому-то свою волю — выталкивать кого-то на эту дорогу. Не хотелось быть и навозом для кого-то. Я хотел быть тем зерном, которое падает на камень, а не в почву. А потому из пройденного по этой дороге меня радует одно: я не навязал кому-то свою волю и не стал навозом для кого-то, как какой-нибудь неандерталец стал навозом для меня. Хотя должен признаться: человек приходит в мир бессмыслицы, и что бы он ни делал, всё бессмысленно.
2013 (7521 год), г. Житомир
Список фотографий (только в печатном изании)
Савва Бабич
Анастасия Бабич (Ягельская)
Алексей Бабич
(середина 40-х годов ХХ в.)
Лукаш Павлюк
Максим Павлюк
(срочная служба в армии)
Алексей Павлюк
Двор и рига усадьбы Бабичей с 1939 г. по 1951 г.
с. Рогачёв. Фото 2009 года
4-й класс Рогачёвской школы
(Сергей Бабич, второй слева в верхнем ряду)
1951 год
Нижний ряд: Николай, мать с Верой (ребёнок соседки Анны), Ольга,
отец с Андреем;
верхний ряд: Надя, Сергей, соседка Анна.
с. Севериновка. Осень, 1952 год
Надя Бабич, Миша Савицкий, Валя Юхименко
с. Севериновка, 1953 год
Павел Завальнюк (Бабич)
Срочная служба в армии
Василий Завальнюк (Бабич), посредине
с. Рогачёв, середина 50-х годов
Сергей Бабич
1954 год
Сергей Бабич
08.11.1955 года
Парни с посёлка (кроме В. Кухтюка) села Рогачёв
Нижний ряд: Анатолий Вовк, Николай Антонюк, Саша Слюсарчук,
Саша Сусловец (Талимонович), Николай Рублюк.
Верхний ряд: Сергей Бабич, Иван Тимощук, Анатолий Матвийчук, Николай Тимощук, Василий Кухтюк и Гриша Тимощук
1958 год
Сергей Бабич, Василий Ковальчук,
Анатолий Ковальчук
(проводы Анатолия в армию)
с. Рогачёв. Осень, 1958 год
Нина Сахнюк — красавица с посёлка
села Рогачёв, у которой во второй половине 50-х годов собиралась молодёжь
Фото 1960 года
Николай Антонюк, Василий Кухтюк, студентка Люба, Сергей Бабич,
Галя Лукиша (студентка, из села Летки Лугинского района; из семьи репрессированных),
Володя (из села Острожок), Павел Антонюк
с. Рогачёв, 4 мая 1959 года
Сергей Бабич, Иван Тимощук (присел), Николай Антонюк,
Павел Антонюк, Сергей Дилодуб
c. Рогачёв. 1959 год
Галя
Сергей Бабич
c. Рогачёв 04.05.1959 года
Сергей Бабич
Мордовия. Сентябрь, 1960 год
Сергей Бабич
Мордовия. Май, 1961 год
Сергей Бабич, Владимир Барсуковский,
Алексей Резников. Мордовия, лагерь № 14
Сентябрь, 1960 год
Александр Григоренко
Курсант Васильковского авиационно-технического училища
Иван Кочубей
(Владимирская тюрьма)
1960 год
Павел Андросюк, Владимир Брич (сотник УПА), Василий Макаренко
Мордовия, лагерь № 7 (пос. Сосновка)
Октябрь, 1962 год
Свадьба Андрея Бабича и Анны Сливки
Верхний ряд: Василий и Татьяна Завальнюки и их дочь Леночка, отец — Алексей Бабич, Николай и Галя Бабич, молодые: Андрей и Аня, мать — Мария Бабич, Мария и Кондрат Павлюки,
Иван Деркач и Анна Деркач (Павлюк)
Внизу: родители Ани — Мария и Василий, Николай (брат Ани) и сосед Павел Вовк
с. Рогачёв, 1970 год
Алексей и Мария Бабич с внучкой Ниной Орловой
г. Житомир, лето, 1971 год
Ольга Орлова (Бабич)
22.02.1963 года
Сергей Бабич
(После возвращения из заключения)
с. Рогачёв, Февраль, 1975 год
Верхний ряд: Василий Ящук (муж Нади) и Надя Бабич
Нижний ряд: Ольга Орлова (Бабич), мать — Мария Бабич и Нина Орлова
г. Житомир. Ноябрь, 1981 год
Сергей, Николай и Андрей Бабичи
г. Житомир, Июнь, 1989 год
Павел Андросюк (после освобождения)
Март, 1969 год
Владимир Андрушко
(конец 80-х годов)
Василий Овсиенко
(конец 80-х годов)
Сергей Бабич
(накануне освобождения, 06.06.1989 г.)
Володя, Сергей Бабич и Надежда Котенко
г. Москва, Арбат (с требованием легализации греко-католической церкви)
Сентябрь, 1989 год
Иван Боровский, Фриц и Анни Вайланд, Сергей Бабич
Германия, г. Карлсруэ. Осень, 1990 год
Иван Боровский, Вольдемар Краузе, Сергей Бабич
Германия, г. Карлсруэ, осень 1990 года
Кронид Любарский с женой Галиной Саловой
Илмар Локуциевский
1991 год
Сергей Бабич
Апрель, 1990 года
Открытие памятника павшим во Втором зимнем походе
с. Базар, 26 августа 2000 года
У могилы павших в бою у села Звездаль.
Верхний ряд: член ОбВУ В. Дюк, В. Савинец, С. Бабич, Председатель ОбВУ С. Фостун,
член ОбВУ П. Кищук, В. Дехтиевский, Р. Панкевич.
Нижний ряд: архитектор Мемориала в с. Базар О. Борис, И. Фещенко, И. Колодюк
с. Базар, 11 октября 2002 года
Анатолий Пантелеев, Надежда Бабич — сестра, Сергей Бабич,
Екатерина — жена Анатолия
г. Житомир, 28.09.2002
Встреча с Марией Трофимович через 40 лет
На фото: Николай Симон (сын Ольги Орловой), Ольга Орлова,
Сергей Бабич, Мария Трофимович
У сестры Ольги, г. Житомир 29.12.2003 года
Марии Трофимович 19 лет
Фото 1960 года
22 июля 2004 года у Евгения Концевича
Григорий Цымбалюк, Сергей Бабич, Нестор Думанский и
Евгений Концевич
г. Житомир, Осень, 2005 год
Владимир Андрушко, С. Бабич, И. Колодюк, Т. Гаврилович, В. Дехтиевский, В. Бартащук, И. Лавриненко, Ю. Ущаповский (присел)
г. Житомир, День Конституции, 2005 год
Сергею Бабичу — 70 лет
Встреча через 43 года
Сергей Бабич, Тарас Тарасюк
г. Северодонецк, сентябрь 2007 г.
Сергей Бабич, Леонид Стадник, Алла Роль
с. Подолянцы Чудновского района
11 августа 2009 года
Дом культуры
с. Рогачёв. Фото 26.05.2009 г.
Чествование павших участников Второго зимнего похода
На фото: С. Бабич, И. Лавриненко, А. Ещенко, А. Ветошкин,
В. Дехтиевский, О. Прищепа
Базар, 16.11.2013 года
Вижу смутную землю — обитель скорбей,
Вижу смертных, спешащих к могиле своей,
Вижу славных царей, луноликих красавиц,
Отблиставших и ставших добычей червей.
В прах судьбою растертые видятся мне,
Под землёй распростёртые видятся мне.
Сколько я ни вперяюсь во мрак запредельный:
Только мёртвые, мёртвые видятся мне.
Омар Хайям