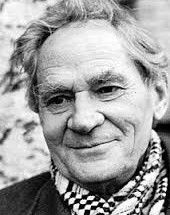
9 января Борису Алексеевичу Чичибабину (1923 — 1994) исполняется 100 лет. За последние годы стало все более ясно то, что я знал всегда — он был большим поэтом. И сегодня многие его стихи нужны людям даже больше, чем 35-40 лет назад, когда он вышел к широкому читателю.
Так сложилось, что я знал его с конца 50-х годов прошлого столетия, еще будучи ребенком. Наши семьи дружили много десятилетий, да мы еще и жили очень близко друг от друга. Сначала в центре Харькова: мы на улице Подгорной, он с тогдашней своей женой Матильдой Федоровной Якубовской, «Мотиком» — на углу ул. Рымарской и Бурсацкого спуска. Мы с сестрой Сашей называли их «тетик Мотик, дядик Борик». Потом в мае 1966 года мы переехали в район Новых домов, жили в начале Стадионного проезда, но и Боря вскоре переехал к своей новой жене Лилии Семеновне Карась, «Лиличке» — пять минут ходьбы друг от друга. И все эти годы Борис приходил к нам два-три раза в неделю, не меньше. Мне посчастливилось быть вместе с родителями первыми слушателями (после жен, конечно) только что написанных стихов.

Словом, впору писать воспоминания. Но проклятая война вообще все перевернула, и мне пришлось заниматься и в моей работе совсем не тем, чем собирался — документированием военных преступлений, помощью жертвам войны и т. д. Да и русский язык сейчас не в чести у украинцев по понятным причинам. Однако все-таки я считаю своим долгом хотя бы немного рассказать о некоторых деталях, а то, не ровён час, помру, «возраст смертный», и вспомнить о них будет уже некому. Времени нет совсем, поэтому это будет всего несколько фрагментов, связанных с отдельными стихами. Бог даст, когда-нибудь напишу больше.

* * *
Бориса посадили летом 1946 года. И моя мать Марлена Рахлина, и ее младший брат Феликс Рахлин уверенно утверждали, что за стихи с рефреном «Мать моя посадница», которые были несомненной крамолой: чего стоили хотя бы строки «Ты печи, печи дотла песня-поножовщина, //Чтоб на землю не пришла новая ежовщина». Арест, и то, что за ним последовало, описано в их воспоминаниях «Что было — видали...» и «О Борисе Чичибабине и его времени». Мама помнила «Посадницу» наизусть, я эти стихи очень давно, еще в конце 60-х, записал и тоже запомнил. Вот они.
Что-то мне с недавних пор
на земле тоскуется.
Выйду утречком во двор,
поброжу по улицам,
погляжу со всех дорог,
не видать ли празднества.
Я – веселый скоморох,
мать моя посадница.
Ты не спи, земляк, не спи,
разберись, чем пичкают.
И стихи твои, и спирт –
пополам с водичкою.
Хватит пальцем колупать
в ухе или в заднице!
Подымайся, голытьба,
мать моя посадница!
Не впервой нам выручать
нашу землю отчую.
Паразитов сгоряча
досыта попотчуем:
бюрократ и офицер,
спекулянтка-жадница –
всех их купно на прицел,
мать моя посадница!
Пропечи страну дотла,
песня-поножовщина,
чтоб на землю не пришла
новая ежовщина!
Гой ты, мачеха-Москва,
всех обид рассадница:
головою об асфальт,
мать моя посадница!
А расправимся с жульем,
как нам сердцем велено,
то-то ладно заживем
по заветам Ленина!
Я б и жизнь свою отдал
в честь такого празднества,
только будет ли когда,
мать моя посадница?!
Но вот что интересно: Борис никогда их не читал и не печатал. Феликс вспоминает в своей книге, что он как-то в большой компании напомнил Борису о причине его посадки, и Борис не возражал, а наоборот, тут же прочел их наизусть. Но вот не печатал же! При этом он два-жды написал с этим рефреном разные стихи и печатал их под названием «Песенка на все времена», используя целые строчки, рифмы, темы из первой версии. Почему старался запря-тать первую версию — для меня загадка. Феликс сравнивает в своей книге о Борисе все три варианта и высказывает некоторые предположения. А я только приведу ссылку на первое прочтение «Песенки» в Киеве в 1990 году. Читал он стихи замечательно, буквально завора-живая слушателей.
* * *
Я хорошо помню, как меня поразили стихи Бориса « Не умер Сталин» и «Крымские прогулки», написанные примерно в одно время, в 1959 году. Он читал их у нас дома. А немного позже прочел их публично в Центральном лектории, где в конце 50-х — первой половине 60-х годов постоянно устраивали поэтические вечера. Помню бешеную овацию переполненного зала.
Борис был вообще-то человеком робким и нерешительным, но вот стихи свои всегда читал охотно, не боясь, и давал переписывать всем, кто хотел. Ни одно застолье не обходилось без его чтения.
«Не умер Сталин» общеизвестно, возможно, это самое знаменитое стихотворение Бориса, а вот «Крымские прогулки» знают меньше. Приведу здесь эти замечательные стихи.
Колонизаторам — крышка!
Что языки чесать?
Перед землею крымской
совесть моя чиста.
Крупные виноградины…
Дует с вершин свежо.
Я никого не грабил.
Я ничего не жег.
Плевать я хотел на тебя, Ливадия,
и в памяти плебейской
не станет вырисовываться
дворцами с арабесками
Алупка воронцовская.
Дубовое вино я
тянул и помнил долго.
А более иное
мне памятно и дорого.
Волны мой след кропили,
плечи царапал лес.
Улочками кривыми
в горы дышал и лез.
Думал о Крыме: чей ты,
кровью чужой разбавленный?
Чьи у тебя мечети,
розвища и развалины?
Проверить хотелось версийки
приехавшему с Руси:
чей виноград и персики
в этих краях росли?
Люди на пляж, я — с пляжа,
там, у лесов и скал,
Где же татары?» — спрашивал,
все я татар искал.
Шел, где паслись отары,
желтую пыль топтал,
«Где ж вы, — кричал, — татары?»
Нет никаких татар.
А жили же вот тут они
с оскоминой о Мекке.
Цвели деревья тутовые,
и козочки мекали.
Не русская Ривьера,
а древняя Орда
жила, в Аллаха верила,
лепила города.
Кому-то, знать, мешая
зарей во всю щеку,
была сестра меньшая
Казани и Баку.
Конюхи и кулинары,
радуясь синеве,
песнями пеленали
дочек и сыновей.
Их нищета назойливо
наши глаза мозолила.
Был и очаг, и зелень,
и для ночлега кров...
Слезы глаза разъели им,
выстыла в жилах кровь.
Это не при Иване,
это не при Петре:
сами небось припевали:
«Нет никого мудрей».
Стало их горе солоно.
Брали их целыми селами,
сколько в вагон поместится.
Шел эшелон по месяцу.
Девочки там зачахли,
ни очаги, ни сакли.
Родина оптом, так сказать,
отнята и подарена, —
и на земле татарской
ни одного татарина.
Живы, поди, не все они:
мало ль у смерти жатв?
Где-то на сивом Севере
косточки их лежат.
Кто помирай, кто вешайся,
кто с камнем на конвой, —
в музеях краеведческих
не вспомнят никого.
Сидит начальство важное:
«Дай, — думает, — повру-ка».
Вся жизнь брехнею связана,
как круговой порукой.
Теперь, хоть и обмолвитесь,
хоть правду кто и вымолвит, —
чему поверит молодость?
Все верные повымерли.
Чепухи не порите-ка.
Мы ведь все одноглавые.
У меня — не политика.
У меня — этнография.
На ладони прохукав,
спотыкаясь, где шел,
это в здешних прогулках
я такое нашел.
Мы все привыкли к страшному,
на сковородках жариться.
У нас не надо спрашивать
ни доброты, ни жалости.
Умершим — не подняться,
не добудиться умерших...
Но чтоб целую нацию —
это ж надо додуматься...
А монументы Сталина,
что гнул под ними спину ты,
как стали раз поставлены,
так и стоят нескинуты.
А новые крадутся,
честь растеряв,
к власти и к радости
через тела.
А вражьи уши радуя,
чтоб было что писать,
врет без запинки радио,
тщательно врет печать.
Когда ж ты родишься,
в огне трепеща,
новый Радищев —
гнев и печаль?
* * *

Все мое детство и юность прошли под звуки гитары и замечательный баритон Алексея Пугачева, Лешки, как все его называли, невероятно талантливого человека — актера, певца, художника. Он писал и пел песни на стихи своих друзей — больше всего на стихи Бориса. Борис написал к Лешкиным картинам (Лешка говорил: «картинки») подписи в виде сонетов. Лешка сделал из них песни, он называл этот цикл «Сонеты из альбома». В книгах Бориса они помещены под названием «Сонеты к картинкам» вместе со многими другими сонетами более позднего времени, а отдельно они, если я не ошибаюсь, не печатались. Поэтому хотя бы перечислю тут те сонеты, которые пел Лешка: «Паруса», «Вечером с получки», «Постель», «Осень», «Не вижу, не слышу, знать не хочу», «Старик-кладовщик». Картинок было гораздо больше. Я давно хотел сделать такое издание: репродукции картинок Лешки, сонеты к ним и диск с записью Лешкиных песен на эти и другие стихи Бориса. Да так и не сделал: не было времени и денег. Впрочем, добрые люди позаботились: часть Лешкиных песен есть есть в Интернете, в том числе и на слова Бориса, в том числе знаменитые «Красные помидоры», и «Махорка», и часть сонетов к картинкам.
Приведу здесь мой любимый сонет — «Паруса». Картинка у Лешки была такая: стоит грустный немолодой моряк в тельняшке рядом с развевающимся по ветру бельем на веревке. Мне кажется, это написано Борисом где-то в 61-62 году.
Есть в старых парусах душа живая.
Я с детства верил вольным парусам.
Их океан окатывал, вздувая,
и звонкий ветер ими потрясал.
Я сны ребячьи видеть перестал
и, постепенно сердцем остывая,
стал в ту же масть, что двор и мостовая, —
сказать по-русски — крышка парусам.
Иду домой, а дома нынче — стирка.
Душа моя состарилась и стихла.
Тропа моя полынью поросла.
Мои шаги усталы и неловки,
и на простой хозяйственной веревке
тряпьем намокшим сохнут паруса.
* * *
Недавно я увидел в фейсбуке моего друга, поэта и переводчика Юры Ефремова, стихи Бориса «Дай Вам Бог с корней до крон...» и высказанную точку зрения в комментариях: как будто сегодня написано. А я хорошо помню, как и когда были написаны и впервые прочитаны эти стихи, сам слушал. Связаны они с отъездом друзей из Харькова в Израиль. Это было то ли 13, то ли 14 марта 1971 года, точно не помню. Было прощание с семьями Лины и Алика Волковых и Фимы и Оли Спиваковских, море людей в маленькой двухкомнатной квартире Волковых в хрущобе, неподалеку от Бориса и от нас — та же улица Танкопия. Борис написал эти стихи Лине и Алику в этот же день и читал их вечером. Все присутствующие их переписывали, и они мгновенно разлетелись по всей стране.
Дай вам Бог с корней до крон
без беды в отрыв собраться.
Уходящему — поклон.
Остающемуся — братство.
Вспоминайте наш снежок
посреди чужого жара.
Уходящему — рожок.
Остающемуся — кара.
Всяка доля по уму:
и хорошая, и злая.
Уходящего — пойму.
Остающегося — знаю.
Край души, больная Русь,—
перезвонность, первозданность
(с уходящим — помирюсь,
с остающимся — останусь) —
дай нам, вьюжен и ледов,
безрассуден и непомнящ,
уходящему — любовь,
остающемуся — помощь.
Тот, кто слаб, и тот, кто крут,
выбирает каждый между:
уходящий — меч и труд,
остающийся — надежду.
Но в конце пути сияй
по заветам Саваофа,
уходящему — Синай,
остающимся — Голгофа.
Я устал судить сплеча,
мерить временным безмерность.
Уходящему — печаль.
Остающемуся — верность.
Вообще-то Борис воспринимал эмиграцию друзей из СССР болезненно («в края чужие не поеду»). И когда вынужденно уехал Александр Галич (это было 25 июня 1974 года) он написал стихи «Не веря кровному завету...» — в книгах Бориса ошибка с датировкой: нужно поставить 1974, а не 1973. Борис пришел к нам, прочитал, я их тут же перепечатал, а на следующий день уезжал в Москву. Там я показал стихи Ларисе Богораз (между прочим, это ей написаны стихи «Зову тебя, не размыкая губ»), и она сказала: «Земля-то мертвая. Выжженная земля». Вернувшись, я рассказал об этом Борису. Он помрачнел, но ничего не сказал. А на следующий день принес эти стихи с дописанной четвертой строфой, в первом варианте ее не было. И я точно помню, что там было: «А если мертвой — то на черта // И жить тогда?» И в таком варианте» он их и читал. Возможно, потом исправил.
Не веря кровному завету,
Что так нельзя,
Ушли бродить по белу свету
Мои друзья.
Броня державного кордона —
Как решето.
Им светит Гарвард и Сорбонна,
Да нам-то что?
Пусть будут счастливы, по мне, хоть
В любой дали.
Но всем живым нельзя уехать
С живой земли.
С той, чья судьба ещё не стерта
В ночах стыда.
А если стёрта, то на черта
И жить тогда?
Я верен тем, кто остаётся
Под бражный трёп
Своё угрюмое сиротство
Нести по гроб.
Кому обещаны допросы
И лагеря,
Но сквозь крещенские морозы
Горит заря.
Нам не дано, склоняя плечи
Под ложью дней,
Гадать, кому придётся легче,
Кому трудней.
Пахни ж им снегом и сиренью,
Чума-земля.
Не научили их смиренью
Учителя.
В чужое зло метнула жизнь их,
С пути сведя,
И я им, дальним, не завистник
И не судья.
Пошли им, Боже, лёгкой ноши,
Прямых дорог,
И добрых снов на злое ложе
Пошли им впрок.
Пускай опять обманет демон,
Сгорит свеча, —
Но только б знать, что выбор сделан
Не сгоряча.
* * *
Стихи «Ода воробью» в книгах Бориса датированы 1977-м годом. А написаны они в 1973 году, где-то весной, при таких обстоятельствах.
9 января 1973 года Борису исполнилось 50 лет. Задолго до этого к нему пришел поэт Зельман Кац и предложил устроить к юбилею поэтический вечер в Союзе писателей. Зельман Менделевич любил стихи Бориса и искренне хотел отметить юбилей коллеги, члена Союза писателей. Борис согласился, он читал на вечере много стихов. И хотя среди них не было наиболее резких, но и того, что он прочел, оказалось достаточно для оргвыводов. На вечере была некая дама из райкома партии, или горкома — не помню уже. В СП устролилои собрание, куда никого не пускали, только писательское начальство, Борису вменили «Будь проклят, император Петр!» и «Памяти А.Т. Твардовского» и исключили из Союза. Бедного Каца как организатора вечера совсем заклевали. Думаю, что его использовали для создания повода к исключению.
И тут Боря как-то загоревал. Хотя, казалось бы, он не бывал в Союзе писателей, давно уже вернулся «служить в трамвайном управленье», писательский билет свой утопил в Днепре, новые книги печатать не мог и уже не хотел (длинную дарственную надпись с объяснениями в любви к моим родителям на книге «Плывет Аврора» 1968 года он закончил так: «...что касается книги, то я больше не буду») — тем не менее, отлучение его от официального литературного процесса воспринял болезненно. А потом написал «Оду воробью» — и попустило, он перестал переживать по поводу исключения. Посмотрите на эти прекрасные стихи под таким углом зрения.
ОДА ВОРОБЬЮ
Пока меня не сбили с толку,
презревши внешность, хвор и пьян,
питаю нежность к воробьям
за утреннюю свиристелку.
Здоров, приятель! Чик-чирик!
Мне так приятен птичий лик.
Я сам, подобно воробью,
в зиме немилой охолонув,
зерно мечты клюю с балконов,
с прогретых кровель волю пью
и бьюсь на крылышках об воздух
во славу братиков безгнездых.
Стыжусь восторгов субъективных
от лебедей, от голубей.
Мне мил пройдоха воробей,
пророков юркий собутыльник,
посадкам враг, палаткам друг,—
и прыгает на лапках двух.
Где холод бел, где лагерь был,
где застят крыльями засовы
орлы-стервятники да совы,
разобранные на гербы,—
а он и там себе с морозца
попрыгивает да смеется.
Шуми под окнами, зануда,
зови прохожих на концерт!..
А между тем не так он сер,
как это кажется кому-то,
когда из лужицы хлебнув,
к заре закидывает клюв.
На нем увидит, кто не слеп,
наряд изысканных расцветок.
Он солнце склевывает с веток,
с отшельниками делит хлеб
и, оставаясь шельма шельмой,
дарит нас радостью душевной.
А мы бродяги, мы пираты,—
и в нас воробышек шалит,
но служба души тяжелит,
и плохо то, что не пернаты.
Тоска жива, о воробьи,
кто скажет вам слова любви?
Кто сложит оду воробьям,
галдящим под любым окошком,
безродным псам, бездомным кошкам,
ромашкам пустырей и ям?
Поэты вымерли, как туры,—
и больше нет литературы.
И хоть туры не вымерли, а резво бегают по горам, но стихи все равно чудесные!
Пусть эти короткие заметки будут хотя бы малой данью памяти замечательного поэта и близкого человека, единственного, кто называл меня: «Женечка, родненький!»
