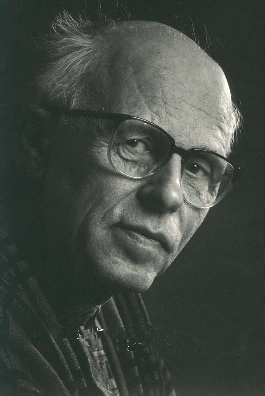САХАРОВ АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ (род. 21.05.1921, Москва – ум. 14.12.1989, Москва)
Учёный-физик, один из разработчиков водородной бомбы, политический мыслитель, общественный и политический деятель, один из лидеров советских диссидентов. В эпоху перестройки — один из руководителей демократической оппозиции на Съезде народных депутатов и вне его.
С. родился и вырос в интеллигентной московской семье; отец, Дмитрий Иванович Сахаров, был известным педагогом-естествоиспытателем.
В 1942 г. окончил с отличием физический факультет Московского университета.
В 1942-1944 гг. работал инженером на военном заводе в Ульяновске. После окончания аспирантуры и защиты кандидатской диссертации, в ноябре 1947 г., зачислен в штат Теор-отдела ФИАН.
Летом 1948 г. С. был включён в группу, занимавшуюся теоретическими разработками, необходимыми для создания советского термоядерного оружия, стал одним из научных руководителей проекта создания водородной бомбы. С этого момента, а особенно после успешного испытания водородной бомбы в августе 1953 г., С. вошёл в состав высшей научно-технической элиты СССР и получил доступ в высшие круги правящей партийно-государственной номенклатуры. Академическая карьера С. была молниеносной: в июне 1953 г. он стал доктором физико-математических наук, а в октябре того же года избран действительным членом Академии наук СССР, минуя традиционную промежуточную ступень «член-корреспондент». Трижды (1953, 1956 и 1962 гг.) был удостоен звания Героя Социалистического Труда; лауреат Сталинской (1953) и Ленинской (1956) премий.
Поначалу активный интерес С. к общественной, политической и идеологической проблематике проявлялся лишь спорадически и ситуативно, и только в вопросах, непосредственно или косвенно связанных с его профессией учёного-естествоиспытателя. Очевидно, самым первым его поступком в этой сфере стало участие в протесте против начинавшейся в конце 1940-х – начале 1950-х гг. кампании «разоблачения идеалистического эйнштейнианства». В «Правде» и других центральных органах печати появились публикации, опровергавшие теорию относительности и квантовую механику с позиций «диалектического материализма». В этой ситуации 24 июня 1952 г. одиннадцать ведущих физиков атомного проекта, в их числе – С., обратились с письмом (разумеется, закрытым) к правительственному куратору этого проекта – Л.П. Берии. Письмо возымело действие: печатные нападки на теорию относительности и квантовую механику прекратились.
Огромное значение для страны и мира имела активная позиция С. в вопросе о запрещении испытаний ядерного оружия. Своё участие в разработке водородной бомбы он считал не только патриотическим долгом, но и долгом перед человечеством, рассматривая его как вклад в дело предотвращения Третьей мировой войны. Позже он писал: «Я не мог не осознавать, какими страшными, нечеловеческими делами мы занимались. Но только что закончилась война — тоже нечеловеческое дело. Я не был солдатом в той войне, но чувствовал себя солдатом этой, научно-технической. Впоследствии мы узнали или сами додумались до таких понятий, как стратегическое равновесие, взаимное термоядерное устрашение и т.п. Я и сейчас думаю, что в этих глобальных идеях содержится какое-то (может быть, и не вполне удовлетворительное) интеллектуальное оправдание создания термоядерного оружия и нашего персонального участия в этом». Однако к середине 1950-х гг. С. и другим физикам-ядерщикам становится всё более ясной цена, которую человечество вынуждено платить за безопасность через ядерный паритет: глобальное отравление окружающей среды продуктами радиоактивного распада, образующимися после каждого атмосферного или подводного ядерного взрыва. В связи с этим в 1961 году С. выступил против прекращения советского моратория на испытания, не побоявшись вступить в острый спор с самим Хрущёвым, чем навлёк на себя гнев последнего (Хрущёв публично отчитал учёного за «вмешательство в политику»).
Очевидно, самым сильным потрясением для С., заставившим его пересмотреть свои взгляды на распределение ответственности между учёными и политическими лидерами, стало проведённое осенью 1962 г. «двойное испытание» двух разных ядерных устройств примерно одинаковой мощности — исключительно из соображений межведомственной конкуренции. В своих воспоминаниях С. пишет об этом: «Страшное преступление произошло, и я не смог его предотвратить. Чувство бессилия, невыносимой горечи, стыда и унижения охватило меня. Я упал лицом на стол и заплакал. Вероятно, это был самый страшный урок за всю мою жизнь: нельзя сидеть на двух стульях! Я решил, что отныне я в основном сосредоточу свои усилия на осуществлении плана прекращения испытаний в трёх средах».
Эту идею С. несколько ранее предложил правительству как выход из тупика, в который зашли Женевские переговоры о запрещении ядерных испытаний. Она оказалась такой удачной, что уже в 1963 г. СССР, Англия и США подписали Московский договор о запрещении ядерных испытаний в трёх средах; позже к договору присоединилось большинство других государств. «Я считаю, что Московский договор имеет историческое значение. Он сохранил сотни тысяч, а возможно, миллионы человеческих жизней — тех, кто неизбежно погиб бы при продолжении испытаний в атмосфере, под водой и в космосе. Но, возможно, ещё важнее, что это — шаг к уменьшению опасности мировой термоядерной войны. Я горжусь своей причастностью к Московскому договору» (А. Д. Сахаров. Воспоминания).
С середины 1960-х гг. С. всё активнее принимает участие в общественной и политической жизни.
В июне 1964 г. имя С. впервые становится известным вне узкого круга специалистов в связи с его выступлением на общем собрании Академии наук против избрания в члены Академии Н.Нуждина, активного участника гонений на современную генетику, одного из сподвижников Т.Лысенко, который всё ещё пользовался покровительством Хрущёва.
В начале 1966 г. С. поставил свою подпись под обращением 25 деятелей науки, литературы и искусства к XXIII съезду КПСС против попытки политически реабилитировать Сталина. Это было первое публичное выступление С., не связанное с его профессиональной деятельностью.
Осенью того же года С. поставил свою подпись под другой коллективной петицией: обращением к сессии Верховного Совета РСФСР по поводу включения в Уголовный кодекс статьи 190-1 (аналог ст. 187-1 УК УССР).
Узнав о «митинге гласности» на Пушкинской площади (5 декабря 1966 г. этот митинг проводился во второй раз), С. пришёл на площадь и даже нашёл форму, чтобы публично выразить свою солидарность с другими демонстрантами: он прочитал вслух строки Пушкина, выгравированные на постаменте памятника поэту.
В 1967 г. подпись С. появляется под письмом 167 деятелей науки и культуры в Президиум Верховного Совета СССР с предложением одобрить законопроект о законодательном обеспечении свободы информации. Кроме того, ещё в феврале он обращается с личным письмом к Л.Брежневу по поводу ареста Александра ГИНЗБУРГА и Юрия Галанскова, а также тех, кто был задержан в связи с демонстрацией 22.01.1967. Летом того же года С., прочитав самиздатский очерк Ларисы БОГОРАЗ о ситуации вокруг её мужа, литератора Юлия Даниэля, отбывавшего наказание в мордовском лагере, связывается по телефону с Председателем КГБ Юрием Андроповым и просит его принять меры к исправлению положения. В сентябре 1968 г., уже будучи «опальным», он снова звонил Андропову — в связи с делом о «демонстрации семерых» против введения войск в Чехословакию (Андропов заверил его, что приговоры демонстрантам не будут суровыми).
Решающим событием в жизни С., в результате которого он стал диссидентом, стало написание им эссе «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе». Через Р.Медведева текст ушёл в самиздат (некоторые более ранние редакции, очевидно, ходили в самиздате ещё с апреля), а оттуда за границу.
«Размышления...» стали самиздатским бестселлером, вызвали бурную дискуссию в самиздате, длившуюся несколько лет, и принесли автору мировую славу. Сам же С. уже в августе был отстранён от секретных работ на «спецобъекте» и стал всё своё время отдавать теоретической физике, а также, во всё большей степени, общественным проблемам.
Весной 1970 года С., по инициативе Валентина Турчина и в соавторстве с ним, принял участие в составлении обращения к руководителям СССР, в котором говорилось о необходимости демократизации страны и предлагалась конкретная программа преобразований. «Меморандум», ставший первым политическим манифестом либерально и социалистически настроенной советской интеллигенции, получил широкое самиздатское распространение.
Тогда же, весной 1970 г., подпись С. появляется под многими петициями в защиту людей, преследуемых по политическим мотивам.
В октябре 1970 г. С. впервые присутствовал на политическом судебном процессе, где слушалось дело Револьта Пименова и Бориса Вайля, обвиняемых в хранении и распространении самиздатской литературы. Это событие стало для С. значимым и в личном плане: именно тогда он познакомился с Еленой Боннэр, которая вскоре стала его женой.
В своей диссидентской и правозащитной деятельности С. предпочитал действовать самостоятельно, не связывая себя формальными обязательствами и не вступая ни в какие диссидентские ассоциации. Исключением стал Комитет по правам человека в СССР, созданный по инициативе Валерия Чалидзе. С. вошёл в его состав и продолжал работать в Комитете даже после отъезда в США Чалидзе — организатора и движущей силы этого начинания.
С начала 1970-х С. постоянно выступает в защиту конкретных людей — политзаключённых и других преследуемых по политическим мотивам, ходатайствует за них, как открыто, так и в частном порядке, протестует против конкретных случаев нарушений прав человека в СССР и других странах. Свои статьи и интервью на разные темы он непременно завершает поимённым перечислением политических заключённых и других гонимых.
Далее перечисляются лишь основные, принципиальные события диссидентской биографии С.
Осень 1972. С. инициирует два коллективных обращения в Президиум Верховного Совета СССР: одно, призывающее к отмене смертной казни в стране, другое — с призывом к широкой амнистии политических заключённых.
2 июля 1973. С. даёт большое интервью корреспонденту шведского радио и телевидения Улле Стенхольму (опубликовано 4 июля в газете «Дагенс нюхетер»). В интервью он изложил свой взгляд на советское общество, его недостатки и пороки, и перечислил возможные первоначальные шаги к демократизации общественно-политического строя, высказав при этом мысль, что любая перестройка в СССР потребует «преемственности и постепенности», чтобы не развалить страну.
16 августа 1973. С. вызван к заместителю Генерального прокурора СССР Малярову, который провёл с ним «беседу» и заявил С., что он занимается «антисоветской» и «подрывной» деятельностью.
Конец августа и сентябрь 1973. Советская пресса развязывает яростную кампанию против С. и, одновременно, против Солженицына.
Октябрь 1973. Вскоре после заявления С., посвящённого арабо-израильской «войне Судного дня», с призывом к мирному урегулированию конфликта и признанию права Израиля на существование, С. посетили двое арабов, назвавшихся членами палестинской террористической организации «Чёрный сентябрь». Они заявили, что заявление нанесло вред делу освобождения Палестины и потребовали от С. дезавуировать его. С. отказался это сделать, и визитёры ушли, подчеркнув, что в следующий раз они расправятся с его семьёй.
Февраль 1974. С. ставит свою подпись под «Московским обращением».
Апрель 1974. С. пишет статью, в которой выражает своё несогласие с некоторыми ключевыми положениями «Письма вождям Советского Союза» Александра Солженицына.
Май 1974. Футурологическая статья «Мир через полвека».
28 июня – 4 июля 1974. Первая голодовка С., начатая с целью привлечь внимание к положению советских политзаключённых.
Декабрь 1974. Призыв (вместе с Сергеем КОВАЛЁВЫМ) к освобождению узников совести во всём мире. Тогда же С. снова получает письмо с угрозой расправы над семьёй за его «антинациональную деятельность», на этот раз — от имени «ЦК Русской Христианской партии».
В июне 1975 г. С. заканчивает самую крупную (не считая «Воспоминаний») свою работу — брошюру «О стране и мире». Она посвящена трём глобальным вопросам: природа и текущее состояние советского общества; проблемы разоружения и снижения опасности термоядерной войны; леволиберальные и социалистические взгляды значительной части западной интеллигенции.
9 октября 1975 г. С. была присуждена Нобелевская премия мира. В первом же коротком заявлении по этому поводу С. заявил, что разделяет эту честь с узниками совести, и выразил надежду на «всемирную политическую амнистию».
В СССР присуждение С. Нобелевской премии мира вызвало новый поток ругани и оскорблений в официальной прессе. Разрешения на поездку в Норвегию для участия в церемонии вручения премии он не получил («как носитель государственных секретов»), и 10 декабря в Осло его представляла его жена Елена Боннэр, находившаяся в это время за границей. Она и зачитала подготовленную С. Нобелевскую лекцию, которую автор назвал «Мир, прогресс, права человека». В ней, в частности, сказано: «...я прошу вас считать, что все узники совести, все политзаключённые моей страны разделяют со мной честь Нобелевской премии Мира», и назвал около 150 имён, более 40 из них — украинцы. В конце этой лекции С. снова формулирует своё мировоззренческое кредо:
«Тысячелетия назад человеческие племена проходили суровый отбор на выживание, и в этой борьбе было важно не только умение владеть дубинкой, но и способность к разуму, к сохранению традиций, способность к альтруистической взаимопомощи членов племени. Сегодня всё человечество в целом сдаёт такой же экзамен».
Сам С. в день церемонии находился в Вильнюсе, где в то время проходил судебный процесс над его другом Сергеем КОВАЛЁВЫМ, и тщетно пытался добиться, чтобы его допустили в зал суда.
12 января 1977. С. выступает с протестом против инсинуаций московского журналиста Виктора Луи по поводу дела о взрывах в московском метро и говорит о своём ощущении, что это дело может оказаться провокацией «репрессивных органов». «Я был бы очень рад, если бы мои мысли оказались ошибочными», — замечает он.
25 декабря 1977. С. вызван в Прокуратуру СССР. Заместитель Генерального прокурора Гусев объявляет ему предупреждение по Указу ПВС СССР от 25.12.1972, называет его утверждение «чудовищным и клеветническим» и предлагает дезавуировать его. С. подписать предупреждение отказался. На следующий день в газетах появилось короткое сообщение ТАСС под заголовком «Клеветник предупреждён».
Март 1977. С. пишет для Нобелевского сборника статью «Тревога и надежда». Основные темы статьи — опасность, таящаяся в информационной закрытости общества тоталитарного социализма, и борьба за права человека как важный фактор международных отношений.
Январь 1980. 3 и 4 января С. даёт интервью газетам «Ди Вельт» и «Нью-Йорк Таймс». Тема интервью — советское вторжение в Афганистан. Он отмечает, в частности, что если СССР не выведет свои войска из этой страны, то Международному олимпийскому комитету следовало бы отказаться от проведения Олимпиады-80 в Москве.
8 января Президиум Верховного Совета СССР принял Указы о лишении С. всех государственных наград и «О выселении Сахарова А.Д. в административном порядке из города Москвы». Первый Указ был впоследствии опубликован в «Ведомостях Верховного Совета СССР», второй оставался засекреченным до 1996 г.
22 января машина, в которой С. ехал на работу, была перехвачена; его доставили в Прокуратуру СССР, где заместитель Генерального прокурора А. М. Рекунков зачитал Указ о лишении его наград и добавил, что «принято решение» о высылке его в город Горький, чтобы исключить возможность его контактов с иностранными гражданами. Прямо из Прокуратуры С. отвезли на аэродром. Его жене разрешили сопровождать мужа и оставаться с ним.
В Горьком для С. был установлен режим фактической ссылки. Он был поставлен под гласный надзор; ему было запрещено выезжать за пределы города, встречаться с иностранцами и «преступными элементами». Сахаровым предоставили квартиру на окраине Горького. При этом С. продолжал числиться в Теоретическом отделе ФИАН.
Единственной связующей нитью с внешним миром для С. оставалась его жена Е. Г. Боннэр. Однако в мае 1984 г. и эта нить была оборвана: её привлекли к суду по обвинению в «распространении заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй» (ст. 190-1 УК РСФСР), приговорили к 5 годам ссылки и местом ссылки определили Горький.
После этого, вплоть до конца 1985 г., Сахаровы оказались фактически отрезанными от внешнего мира.
Горьковская ссылка не заставила С. замолчать. 1980-1986 гг. наполнены не только интенсивной творческой работой в области теоретической физики, но и общественной борьбой, борьбой за свои права и права своих близких, выступлениями на общегуманитарные темы и в защиту гонимых. В этот период он четыре раза объявлял длительные голодовки; первую — за право невесты своего приёмного сына выехать к нему в США, три других он держал, добиваясь для своей жены разрешения на поездку за границу для лечения. Эти голодовки С. выиграл: власти были вынуждены удовлетворить его требования. Кроме того, в Горьком он написал несколько работ, посвящённых общественной и политической проблематике. Важнейшие из них — план мирного урегулирования в Афганистане под эгидой ООН, адресованный Генеральному секретарю ООН и главам государств-членов Совета Безопасности (июль 1980), и статья «Опасность термоядерной войны» (февраль 1983). Тогда же он закончил свои «Воспоминания», несмотря на то, что рукопись трижды была у него похищена и один раз официально изъята при обыске.
Летом 1985 г. в письмах на имя М. С. Горбачёва и министра иностранных дел А. А. Громыко С. заявил, что не намерен впредь открыто выступать по общественным вопросам, «кроме исключительных случаев».
20 февраля 1986 г. он обратился к М. С. Горбачёву с письмом, в котором призвал советского лидера «способствовать освобождению из мест заключения, ссылки и специальных психиатрических больниц всех узников совести».
В октябре 1986 г. С. снова обратился к Горбачёву с письмом, в котором, подчеркнув незаконность своей внесудебной депортации в Горький и несправедливость приговора, вынесенного его жене, подтверждает своё обязательство не выступать по общественным вопросам, кроме исключительных случаев.
1 декабря на заседании Политбюро ЦК КПСС М.Горбачёв с одобрением зачитал это письмо и поднял вопрос об освобождении С. и помиловании его жены. Члены Политбюро приняли предложение Генерального секретаря без особых дискуссий. Однако Горбачёв по собственной инициативе 16 декабря 1986 г. позвонил в горьковскую квартиру Сахаровых (накануне там внезапно, без каких-либо просьб с их стороны, был установлен телефон) и сообщил С., что действие Указа от 8 января 1980 г. будет прекращено и он сможет вернуться в Москву, «к патриотическим делам». Он также сообщил, что в Москву сможет вернуться и Е.Г.Боннэр.
Знаменитый звонок Горбачёва 16 декабря 1986 г. означал не только прекращение жестокой и незаконной ссылки С. и не менее жестокой, но оформленной с помощью судебной процедуры ссылки его жены. Это был сигнал, данный стране, и понятый ею, — действительное, а не декларируемое начало перестройки.
Намерению С. не заниматься общественной деятельностью не суждено было сбыться; в условиях перестройки не только общественность, но и те, кто ещё недавно добивался от него обязательств «не выступать по общественным вопросам», теперь ожидали от С. прямо противоположного поведения. Три года, прошедшие между возвращением С. из ссылки и его внезапной смертью, заполнены интенсивной политической и общественной деятельностью.
С. участвует в международном форуме «За безъядерный мир, за выживание человечества». Принимает активное участие в создании Общества «Мемориал» и дискуссионного клуба «Московская трибуна».
20 октября 1988 г. С. избран членом Президиума Академии наук СССР.
В апреле 1989 г. С. избран делегатом Съезда народных депутатов СССР по «квоте» от Академии наук СССР, несмотря на сопротивление консервативной части руководства Академии. Вошёл в образованную частью депутатов Межрегиональную депутатскую группу — прообраз демократической парламентской оппозиции, стал сопредседателем этой группы.
С. разработал проект конституции нового союзного государства, которым, по его мнению, должен был стать преобразованный СССР — Союз Свободных Республик Европы и Азии.
Осенью стал одним из инициаторов кампании за отмену 6-й статьи Конституции СССР, в которой КПСС провозглашается «руководящей и направляющей силой» советского общества. В начале декабря выступал на заседаниях Межрегиональной депутатской группы с предложением призвать страну ко всесоюзной забастовке с целью поддержать это требование.
14 декабря 1989 г. С. скоропостижно скончался в своей квартире.
Похороны С. стали всенародным событием: проститься с ним, принять участие в похоронной процессии и траурном митинге в Лужниках пришли сотни тысяч людей.
Похоронен на Востряковском кладбище в Москве.
Библиография:
І.
Воспоминания // Сахаров А.Д. Воспоминания. В двух томах. Том 1. – М.: Права человека, 1996.
Горький, Москва, далее везде // Сахаров А.Д. Воспоминания. В двух томах. Том 2.– М.: Права человека, 1996. – С.239-446.
Мир, прогресс, права человека: Статьи и выступления. – Л.: Советский писатель, 1990. – 128 с.
Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе // Сахаров А.Д. Тревога и надежда. – М.: Интер-Версо, 1991. – С.11-47.
Памятная записка и Послесловие к ней // Там же. С.48-62.
Интервью Улле Стенхольму // Сахаров А.Д. Воспоминания. В двух томах. Т.2. – М.: Права человека, 1996. – С.449-456.
О письме Александра Солженицына «Вождям Советского Союза» // Сахаров А.Д. Тревога и надежда. – М.: Интер-Версо, 1991. – С.63-72.
Мир через полвека // Там же. С.73-85.
О стране и мире // Там же. С.86-150.
Мир, прогресс, права человека: Нобелевская лекция // Там же. С.151-163.
Тревога и надежда // Там же. С.173-184.
Открытое письмо Л.И. Брежневу [План мирного урегулирования в Афганистане] // Там же. С.199-201.
Сахаров А.Д. Ответственность учёных // Там же. С.201–212.
Сахаров А.Д. Опасность термоядерной войны: Открытое письмо д-ру Сиднею Дреллу // Там же. С.212–227.
ІІ.
«Он между нами жил…» Воспоминания о Сахарове. – М.: Практика, 1996.
Боннер Е.Г. Постскриптум. Книга о горьковской ссылке // Сахаров А.Д. Воспоминания. В двух томах. Т.2. – М.: Права человека, 1996. С.7-238.
Боннер Е.Г. Вольные заметки к родословной Андрея Сахарова. – М.: Права человека, 1996.
Горелик Г. Андрей Сахаров: Наука и Свобода. – Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2000.
30 лет «Размышлений…» Андрея Сахарова: Материалы конференции. К 30-летию работы А.Д.Сахарова «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе». – М.: Права человека, 1998.
Летопись жизни, научной и общественной деятельности Андрея Дмитриевича Сахарова. 1921-1989. Ч.1.: 1921–1953. / Фонд Андрея Сахарова; Публикации Архива Сахарова. М.: Права человека, 2002.
Ковалев С.А. А.Д.Сахаров: ответственность перед разумом. – Известия. 21 мая 1998 г.
Александр Даниэль, Москва. Июль, 2006. Последнее прочтение 22.07.2016. .
После абзаца «9 октября 1975.. » ХПГ добавила абзац:
«В СССР присуждение С. Нобелевской премии мира...»