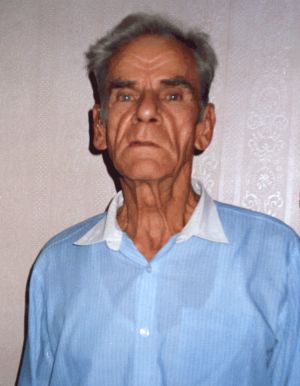ВАСИЛИЙ КОНДРЮКОВ. ВОСПОМИНАНИЯ.
Предложение записать на диктофон что-то из моего прошлого было неожиданным. Поэтому записанное на нём имеет некоторые ошибки и неточности. Правда, господин Дробаха как-то позвонил и сказал, что хочет приехать ко мне с Василием Овсиенко. Но я подумал, что посидим, поговорим да и разойдёмся, как это часто бывает. Поэтому предложил без диктофона записать на бумаге свои воспоминания и передать через несколько дней. На что господин Овсиенко возразил: «Так мы никогда ничего не сделаем». Но мне сейчас без дневника (я никогда не вёл дневника) перелопачивать события более чем сорокалетней давности, уже отстоявшиеся в памяти, было слишком. То, что должно было осесть — осело и окаменело. То, что всплыло на поверхность, давно безвозвратно унесено куда-то течением времени. Да и не это сейчас главное. Ныне Украинская Государственность в опасности. Нависла угроза потери независимости. Произошёл переворот. К власти пришла антиукраинская коалиция. Надо думать, как спасать Украину. Кому сегодня нужны эти воспоминания простого смертного? Кто их будет читать? Когда даже мемуары выдающихся или известных людей никто не читает. А если и прочтёт, то какой в этом смысл? Что это даст? На кого повлияет? И всё же пришлось исповедоваться, давать показания, то есть отвечать на вопросы господина Овсиенко.
В. Овсиенко: Фамилия, имя и отчество? Где родился? Кто родители?
Я, Кондрюков Василий Александрович, родился 24 марта 1937 года в селе Вишне-Греково (теперь Вишнёвое) Ровеньковского района (теперь Антрацитовского) Луганской области. Жена — Кондрюкова Зинаида Тарасовна, родилась 13 июня 1942 года в селе Орехово Антрацитовского района Луганской области. После окончания сельскохозяйственного техникума в посёлке Успенка работала экономистом на предприятиях города Киева. Сейчас на пенсии. Старшая дочь — Черноус Ольга, родилась 26 сентября 1964 года в Киеве. Имеет среднее специальное образование. Проживает со своей семьёй в Киеве. Младшая дочь — Кондрюкова Татьяна, родилась 13 марта 1974 года в Киеве. Имеет высшее образование. Проживает с мужем вместе с нами.
Отец мой, Кондрюков Александр Кирсанович, работал в колхозе, потом на шахте. Не вернулся с войны. Мать, Кондрюкова Мария Ивановна, всю жизнь работала в колхозе. В начале войны осталась с пятью детьми. Старший мой брат, 1929 года рождения, Кондрюков Дмитрий Александрович. Всю жизнь, кроме службы в армии, проработал в шахте. Сейчас на пенсии. Живёт в городе Ровеньки, на Луганщине. У него есть дочь Галина, которая проживает с семьёй в городе Севастополь. Издала свой сборник стихов под названием «Разрушенный горизонт». Издательство «Вебер», г. Севастополь, 2006 г. (Дмитрий умер 21.06.2007). Второй брат, Кондрюков Николай Александрович, родился в 1931 году. Также всю жизнь (кроме армии) работал в шахте. Образование 7 классов. Живёт в селе Вишнёвое Антрацитовского района Луганской области, на усадьбе родителей. У него есть сын, проживающий в г. Луганск со своей семьёй, и дочь, живущая в г. Антрацит с мужем и детьми. Сестра, Кондрюкова Евдокия Александровна, родилась в 1934 г. Окончила 7 классов. Живёт в г. Антрацит с дочерью и внуками. Ещё была сестра Алла 1941 года рождения. Но умерла в 40-летнем возрасте.
В школу я пошёл в 1944 году. Война ещё не закончилась, но немцев на Донбассе уже не было. Помню девятое мая 1945 года. Сидим на уроке в большой комнате. Это был помещичий одноэтажный дом на пять комнат. Одну, небольшую, занимал директор, во второй была канцелярия, а остальные — классы. Вдруг по дороге мимо проходит парторг, Пётр Васильевич, и что-то кричит в наши окна. Галина Тихоновна открыла окно, и он ей сказал, что закончилась война. Сразу прекратились занятия. Нас построили в колонну, дали флаги, и мы прошли по улице через всё село в оба конца. Это был день победы. Но теперь я думаю, что для украинского народа это был День Окончания Войны. Который так и надо отмечать. Было бы кощунством в этот день веселиться, когда погибли миллионы людей. Ведь для украинского народа не было никакой победы. Освободившись из одного ярма, Украина попала в другое. В состязании двух фашизмов — победил сильнейший.
Детство пришлось на военные и послевоенные годы. Мы облазили все балки и овраги. Весной копали птицемлечник, жгли костры. Находили патроны, гранаты, снаряды. Интересно было смотреть, как горит длинный, как вермишель, желтоватый порох из снарядов. Делали самопалы. Однажды на «Харитине» (название пустыря между усадьбами) разожгли большой костёр, насыпали в него патронов, а сами залегли вокруг неподалёку. Интересно было наблюдать, как бухали патроны и свистели пули над нашими головами. В этот раз обошлось, но не всегда заканчивалось хорошо. Некоторых ранило, отрывало пальцы. А тело Николая Куликовского даже не смогли собрать воедино после взрыва снаряда. Мы с Борисом Егоровым через несколько дней нашли ботинок со ступнёй и отнесли на кладбище. Как-то пришёл я вечером домой. Мать за прут: «Ты опять с Борисом снаряды разряжал?» — «Нет, я не разряжал. Это Борис разряжал. А я только сидел и смотрел, что он делает». Мать отвернулась, бросила прут и пошла в хату.
Вспоминаю 1947 год. Я прихожу в отчаяние, когда причиной голодомора называют войну. Но ведь сразу после войны, с 1944 по 1946 гг., народ не голодал. За 1946 год колхозникам на трудодень ничего не дали. Пообещали рассчитаться из будущего урожая 1947 года. В огородной бригаде, где работала моя мама, писали по 0,6–0,7 трудодня за световой день. Рассчитывались за трудодни в конце года товаром, после того, как был выполнен план заготовки государству. Сады люди повырубали, фруктовые деревья не могли окупить тех больших налогов, которыми облагалось каждое деревце. Кто имел корову, молоко должен был носить в заготовку, яйца от каждой курицы-несушки также сдавались государству. Шкуру с поросёнка надо было сдавать. Кто пытался тайно выкормить и зарезать поросёнка — получали большие штрафы. За колоски, подобранные на уже собранном колхозном поле, — судили. Досталось и мне. Трактор в «Кутереве» (это километрах в пяти от нашего дома) пахал собранное поле под озимые, а где ещё было не вспахано — я насобирал с треть ведра колосков. Вдруг, откуда ни возьмись, — объездчик на коне, быстро догнал меня, и колоски пришлось высыпать. Дело до суда не дошло, но я долго ходил с красной полосой на спине от его кнута.
Зимой 1947 года в нашей семье был период, когда нам всем пришлось три дня жить только на квашеных огурцах. Мы жили впроголодь ещё с декабря 1946 года. Старший брат Дмитрий бросил школу (ходил в 10-й класс) и пошёл работать на шахту «Венгеровка», которая находилась в восьми километрах от села. Подземному рабочему давали карточки на 1 кг 200 г хлеба. На каждого иждивенца, которые числились за ним, давали 250 граммов хлеба. Каждый день Дмитрий приносил 2 кг 450 г хлеба — это спасло нашу семью из шести человек от голодной смерти. Парень, которому ещё не исполнилось 18 лет, измождённый и голодный, после работы отыскивал на терриконе глыбу антрацита и нёс на плечах домой за 8 км. Так мы и перезимовали. Когда наступила весна — это уже был рай, особенно для детворы. Объедали цвет вербы, которая распускалась весной одной из самых первых. Перекапывали огород, искали гнилую картошку, из которой в воде оседал на дно крахмал. Потом шла в пищу лебеда, крапива, касатик и все другие неядовитые травы.
Название села Вишне-Греково происходит от фамилии есаула Грекова. До 1782 года земли, на которых находится село, принадлежали государству и назывались вольными. Крепостные, бежавшие от помещиков, прятались в балках. В 1782 году между областью войска Донского и соседними губерниями произошло размежевание. Все, до того вольные земли, отошли в область войска Донского. Был создан Миусский округ (название реки Миус). По действовавшим в то время законам всем генеральским и офицерским чинам казачьих войск при выходе в отставку нарезались на вольных землях наделы. Люди, которые жили на этих наделах, переходили в собственность вельмож и автоматически закрепощались. Название селу давалось по фамилии хозяина. В Ростовском областном архиве один любитель старины, житель нашего села Кондрюков Алексей Яковлевич, нашёл в 1966 году некоторые документы об основании села. Образец документа:
Комиссия Высочайше
учреждённая для
размежевания земель
Войска Донского
…………………………………….
Канцелярия
…………………………………….
Новочеркаск 26 июня
1843 г., № 663
В Войсковое правление Войска Донского. На основании решения Господина Военного Министра от 13 марта 1841 года №726, комиссия сделала дозволение Есаулу Тимофею Грекову (отзывом на имя его от 26 июня 1843 г. №662), 43 душ ревизских мужского пола крестьян его, состоящих Миусского округа в посёлке Вишневецком Грековом, переселить довольствие того же посёлка на левую сторону речки Вишневецкой по течению ея выше существующего ныне селения и основать новый посёлок при устье оврага Куханного близ устроенного им, Грековым, тока, против урочища, именуемого Большим Пристеном.
Подписали:
> Членъ. Статский Советник Воронченков
Членъ. Полковник Бахтистов
Скрепил Правитель Канцелярии Подполковник Пудавовъ
Верно секретарь (подпись неразборчиво).
Род Кондрюковых происходит от казаков. В «акте купли и продажи крепостных крестьян» есть реестровая запись: некий хорунжий Ушатов из Донецкого округа продал пять душ мужчин Кондрюковых, разжалованных из казаков в крестьян «за неповиновение и разбой». Купившим оказался Греков. Сделка произведена в 1842 году. (Ростовский областной архив). Что касается фамилии Кондрюков, то существует две версии. По первой, как утверждает Алексей Яковлевич, слово «кондрюк» означает беглец. Откуда взялось «ов» — всем понятно. Вторую версию я услышал от Крымской поэтессы Кондрюковой Галины Дмитриевны. Она обращалась к знатоку восточных языков Симферопольского университета, который сказал, что «Кондрюков» в переводе с персидского языка означает «Светлый День».
Как известно, жители, проживавшие на территории будущей Украины, ещё в шестом тысячелетии до нашей эры, изобрели колесо, оседлали коня и занимались земледелием. Род распространялся. В поисках новых земель отделившиеся кланы через несколько веков достигли земель, на которых теперь расположено государство Иран. И, вполне возможно, что одного из прибывших старейшин местные жители избрали вождём и назвали «Светлый День» за его белую кожу, светлые волосы и, не исключено, за светлый ум. Так что потомки «Светлого Дня» возвращались уже с фамилией Кондрюковых. Да и само название «Иран» созвучно с Ориантой, Орантой — это название страны, которая в то время существовала на берегах Борисфена (позднее — Славутич, Днепр) и Десны.
Семилетку я окончил в своём селе. Обучение велось на украинском языке. Бумаги не было, писали на листках, вырванных из разных книг, между строк. Чернила делали из бузины. В восьмой — десятый классы ходил в русскоязычную школу в посёлок Михайловка за семь километров. После окончания десятилетки учился в училище электрификации. Через год окончил и устроился на шахту. Затем — армия 1957-1960 гг. В КПСС вступил в армии, а не в 1961 г., как пишет Назаренко в «Вышгородских легендах». Тогда, не скажу чтобы беспокоила, но иногда проскакивала мысль: «Чтобы сделать что-то полезное для своих людей, необходимо выбиться в люди. То есть иметь какую-то власть. А без партии чего-то достичь в то время было невозможно». Позже понял, что это ошибка. К ступеням власти допускались лишь подобные уже правящим. Малейшее проявление вольнодумства портило карьеру. Какой бы чин ты ни имел — сделать добро людям не сможешь. (Даже если не будешь вместе с ними пить водку, будешь выглядеть белой вороной и быстро полетишь вниз). После демобилизации в 1960 году и до июня 1961 года — снова шахта.
В 1961 году я покинул шахту и поехал «куда глаза глядят» искать другой судьбы. Попал в Вышгород на строительство Киевской ГЭС. Работал электриком в управлении Гидроспецстрой. Жил сначала на брондвахтах (большие баржи, приспособленные для проживания людей). Потом жил в металлическом вагончике, в котором жарко летом и холодно зимой.
Постепенно среди знакомых появились люди, с которыми я мог быть более-менее откровенным. Разговаривал и на русском, и на украинском, в зависимости от того, кто на каком языке обращался ко мне. Собирались по три, четыре человека. При встречах разрешалось говорить всё, что вздумается. Обсуждались такие вопросы, как роль украинского пролетариата в международном движении. Что дружба между народами будет крепче, когда они будут жить отдельно. Потому что в одном доме, где несколько семей, даже дети ссорятся с родителями. Отвергали нелепые примеры относительно СССР о преимуществе прочности связанного веника перед отдельными прутьями. Ведь в СССР в то время были связаны не отдельные «прутья», а 16 «веников» (республик). И в таком состоянии они не могли быть способны к чему-либо, пока их кто-то не развяжет или не перегниют их путы. Ампутацию Украины от империи считали гибелью для союза. Знали, что в желудке империи смешанная пища усваивается лучше. Велись разговоры по национальному вопросу — развитие языка, литературы, культуры и т.д.
Всё шло самотёком. Это не была партия. В шутку мы называли себя Партией реального коммунизма (ПРК), а не Партией Честных Коммунистов, как называет Олесь Назаренко в «Вышгородских легендах». У нас не было никаких программных документов, ни устава. Но всё же мы хоть немного над чем-то задумывались. Развивался критический способ мышления. Видели, что в жизни что-то не так, но не знали, как это изменить. Это были шаги к самосознанию. А сознание быстро эволюционировало к Украинской государственности.
Когда я познакомился с Владимиром Комашковым, все эти вопросы предлагались для обсуждения. Потом он даже написал стихотворение как ответ на то, что главную роль в международных отношениях играет не народ, а его кормчие.
«Уйдите! Станьте в стороне!
Сойдите на обочину!
Я сам дорогу проложу
К американскому рабочему!»
На ГЭС Комашков был известен как комсомольский поэт. Впрочем, он тогда таким и был. Сменил свою фамилию с Комашко на Комашков (по его рассказам). Со временем, наверное, под влиянием самиздатовской литературы — внутренне изменился, а внешне остался таким же. Думаю, это была в то время необходимая маска. Уже после моего освобождения, где-то в середине семидесятых годов, было очень обидно видеть его с красной повязкой добровольной дружины. Когда зашёл разговор о прошлом, он в шутку напомнил слова местного кагэбэшника, сказанные ему: «Твои десять лет у меня в кармане». Не знаю, что хотел он этим подчеркнуть. Скорее — весомость своей роли в нашем деле. Хотя, действительно, роль Владимира как поставщика самиздатовской литературы, а Назаренко как размножавшего и распространявшего, была неоспоримой. Почти весь самиздат поступал через Комашкова к Назаренко. Изготовлением или печатанием машинописных текстов, фоторепродукцией, плёнками я не видел, чтобы Владимир занимался. Он их доставал готовыми. При встрече в лаборатории, где он работал, некоторые материалы лежали у него на столе вместе с газетами и журналами. С его молчаливого согласия мы сами брали эти материалы для размножения. Получалось, что распространением Комашков не занимался. Это дало нам возможность так утверждать на допросах. С Олесем Назаренко я познакомился немного позже, чем с Комашковым. Этот непоседливый человек, постоянно в движении, он быстро сходился с людьми. С господином Олесем мы всегда общались на украинском языке. Быстро прониклись доверием друг к другу. В то время самиздат уже набрал большие обороты. Некоторая часть его лавины поглотила нас. О масштабах материалов, проходивших через наши руки, можно судить по обвинительному заключению (которое прилагается). Здесь и «По поводу процесса над Погружальским», и «Горе от ума» В. Черновола, «Интернационализм или русификация?» И. Дзюбы, и Джилас, и Донцов, и многое другое. Да ещё не все материалы были изъяты. Юрий Клен остался у Римы Мотрук. Я его успел ей передать перед самым арестом. Письмо Раскольникова Сталину передал Филатову Фёдору. Хотя они и пытались, как говорил следователь КГБ по Киевской области майор Коваль, всё вырвать «с корнем».
Расширялся кругозор. Возникали новые вопросы. Приходил к выводу, что человек утверждается сначала сам в себе, в своём индивидууме, потом — в семье, потом — в нации, а уже потом — в интернационализме. Интернационализм рассматривался не как смешение наций, а как дружба между свободными странами. Если же отбросить индивидуальность, семью, нацию и принудительно навязанный народам безосновательный, ничем не обоснованный интернационализм, то он может держаться только на штыках. Осознавал, что без своего независимого государства никто не позаботится о нашем народе. Мы уже знали, чего мы не хотим. Знали, чего хотим. Но как этого достичь — не знали. Но метод борьбы вырисовывался сам по себе. Стихийно. Не прав, на мой взгляд, господин Иван Губка, когда пишет в книге «В царстве произвола. Воспоминания. Часть 1», стр. 359: «Но многим из тогдашних „борцов“ (ставлю это слово в кавычки, потому что борьба не велась вооружёнными методами) не удалось „зажечь“ идеей государственности массы, поднять их на борьбу. Одним из тогдашних „лидеров-неудачников“ был Иван Дзюба, он не имел националистической подготовки, не был закалён в рядах ОУН — УПА и в конце концов не выдержал бешеного давления со стороны большевиков. Хочется заметить, что в то время в политической борьбе появились люди случайные, люди, которые не ставили вопрос государственности на первый план, а лишь прикрывались требованиями частичной украинизации, собственно, украинского общества. Их удовлетворяли: легализация украинской исторической науки, снятие ограничений с литературной деятельности, уменьшение цензурного надзора и свободы слова. Об этих требованиях свидетельствуют документы тех времён — заявления, статьи, жалобы таких организаций и обществ. Конечно, мы не преуменьшаем вклада шестидесятников (как они себя называют) в процессе освободительной борьбы, но преувеличивать ценность их работы на этом поприще тоже нельзя, особенно сегодня, когда некоторые политические лидеры ставят их выше героев ОУН — УПА».
Вклад героев ОУН — УПА в освободительную борьбу — непревзойдённый. Но нелегальная вооружённая борьба в шестидесятых годах была невозможна. Люди с оружием в то время — это лишние жертвы. Отпадало любое подполье. Даже за правозащитную группу Левка Лукьяненко, действовавшего без оружия, его приговорили к смертной казни. Напрашивалась необходимость легализовать борьбу. Когда «на всех языках всё молчит» (Т. Шевченко), надо было начинать с малейшего. Искать слабые места и пытаться рвать то и там, где это было возможно. Критика существующего строя заставляла людей мыслить. Письма в адрес власти распространялись среди людей и попадали за границу. Будоражилась человеческая мысль. Это был метод борьбы. Шестидесятники знали, что к заветной цели, на данный момент, надо идти методом легальной критики существующего строя, тем самым расшатывая его основы. Это подтверждает результат их стремлений. Советский Союз пал без оружия. И это был, я считаю, единственно правильный метод на то время. Между ОУН — УПА и шестидесятниками не существует никаких недоразумений. Наоборот, ощущается непрерывность связи освободительной борьбы украинского народа. Иван Дзюба в своей работе «Интернационализм или русификация?» показал противоречивость утверждений коммунистической идеологии. Был подвергнут сомнению монолит её незыблемости. Я не поверил (и, думаю, что каждый, кто читал эту работу), что в «Интернационализме или русификации?» он отстаивал чистоту Ленинской политики. Его раскаяние я не считал искренним. Книга разошлась по всему миру и сыграла чрезвычайную роль в становлении сознания людей.
Губка понимает, что история изучается не по протоколам допросов, подписанным самими же обвиняемыми, раз пишет (там же, стр. 250): «Когда мы сыты, как говорится, при галстуке, в тёплом доме и ничто нам не угрожает, а может, и кто-то нами опекает, тогда хорошо говорить об общечеловеческих правах, моральности, осуждать кого-то, что мол „сломался“, просил прощения и т.д. А что делал бы этот морализатор, если бы оказался в таком положении?! Вырванный из тёплого дома, оторванный от родных и друзей, он оказывается за короткое время в одиночной камере и против него работает вся криминальная машина. Его запугивают — „можно схлопотать“, даже не обещают свободы, а дают на выбор — десять, пятнадцать или больше лет, а ты думай. А дома осталась жена, дети, которых наверняка повезут в Сибирь. Подумаем, прежде чем кого-то осуждать, а какую бы мы „запели“. Как нельзя говорить о правдивости показаний протокольных допросов (там полуправда, многое скрыто, а кое-что, под давлением, сказано лишнее). Так нельзя судить и о правдивости убеждений шестидесятников по написанной ими литературе на основах существующей идеологии. Ведь это было прикрытием для распространения правдивой информации среди населения. История, как сказал господин Овсиенко, — не то, что было, а то, что записано. А сейчас есть возможность записать правду от людей, оставшихся в живых, которые преодолели страх, потому что сейчас пока что более-менее есть свобода слова.
Постепенно расширялся круг знакомых: Григорий Волощук, Рима Мотрук, Александр Дробаха, Иван Гончар, Валентин Карпенко, Богдан Дырив и другие. С Назаренко посещали Владимира Забаштанского, который жил в начале 60-х годов в однокомнатной квартире на Подоле. Мы его приглашали посетить стройку. Однажды он посетил Киевскую ГЭС и подарил с автографом для Кондрюковых свой сборничек стихов «Приказ каменщиков», вышедший в 1967 году. Он читал свои неопубликованные стихи. Переписывать не разрешалось, но кое-что запомнилось:
«Скільки відцвіло не наших весен?!
І невже чергова теж чиясь?
Десь несе мене в човні без весел
По ріці життєвій течія.
І немає ні мети, ні долі.
Тільки ятрить душу мука з мук,
Що лежить моя Вкраїна долі,
Як бандура, вибита із рук!»
А его «…прямая дорога от кривого колеса» настолько поразила меня, что решил и сам что-то написать. Но ведь «рождённый ползать — летать не может» (М. Горький). Но, оказывается, писать можно и без Божьего дара. Только, чтобы добиться чего-то, надо посвятить всего себя до остатка, для осуществления одного чего-то, тобой задуманного. Постоянно совершенствуя его, не распылять себя на множество других порывов. В качестве пробы пера приведу отрывок из стихотворения, написанного мной в середине шестидесятых годов.
«…Але під дахом у штучному світлі
Весела мати дітей навчала:
Немов би сяйва усього світу
Лиш тільки звідси беруть начала.
Сокира батька лежала в сінях
І хтось тягнувся до неї нишком,
Якщо не можна рубати стіни,
То хоч би дірку у темній криші.
Уже гораздо позже, где-то в 89-м или 90-м году, Забаштанский вёл литературный кружок в клубе завода «Станков и автоматов», куда я попал по его приглашению. Меня удивило, когда он, выслушав критическую новеллу молодого автора, сказал, что из текста надо убрать слово «советский» и произведение станет восприниматься лучше. Так он учил молодёжь высокому искусству совершенства. Тогда мне показалось, что в те времена огонь, который пылал в сердцах молодых авторов, надо не лелеять в пещерах, а выносить на ветер, чтобы бушевало пламя, а его искры летели бы по всей Стране, зажигая других. А он по инерции хранил огонь в пещере, подбрасывая нужную порцию дров, чтобы не погасло. Словно Прометей, скрывая от Зевса, когда тот дождём залил всю Землю.
С господином Александром Дробахой общался меньше, чем с Назаренко или Комашковым. Насколько мне известно, он не занимался размножением или распространением, но с самиздатом был знаком. Александр тогда был озабочен своими стихами. Он готовил к печати свой первый сборник «Папоротник», который вышел уже после нашего ареста. (Суд состоялся в конце января 1969 года, а «Папоротник» вышел в августе 1969 года). Во время отпуска ездил в Москву в библиотеку, чтобы, как он говорил, ознакомиться в оригинале с Пастернаком, Хлебниковым и Зощенко. Вернувшись оттуда, повторил выражение древних греков, напомненное (с его слов) В. Черноволом в Вышгородском музее Киевской ГЭС: «Karfagen esse delendam», что означает «Карфаген будет разрушен».
Музей задумал Назаренко, и уже кое-что было собрано. Находилось у него под кроватью на брондвахте. Но «выбил» помещение в подвале общежития и заканчивал музей Дробаха. Господин Александр организовал литературный кружок под символическим названием «Малиновые Паруса». Но не хватило днепровского ветра и воздуха из наших лёгких, чтобы сдвинуть с гравия бетонного завода эту шхуну, в ленинской комнате, в которой она расположилась. Повеял другой муссон. За само название «Малиновые паруса» кружок был обвинён в национализме и распущен.
С Валентином Карпенко, Богданом Дыривом, Иваном Гончаром, Петром Иорданом и другими встречаться приходилось меньше. При встречах мы знали, кто что читает, чем занимается. Обсуждали некоторую информацию. Передавать фоторепродукцию или печатные тексты не было нужды. Об этом заботился Назаренко.
Григорий Волощук, о котором упоминают в своих произведениях Г. Касьянов «Несогласные» и В. Овсиенко «Свет людей», и Рима Мотрук — его жена, в 1967–1968 гг. жили у меня в квартире почти до самого моего ареста. Плату за квартиру мы с них не брали. В одной комнате находились мы (я с женой и ребёнком), а в другой, где не было кровати, а только письменный стол с двумя стульями — они. Вообще, это был незаурядный, неординарный, эмоциональный, непоседливый человек. Помню, как он пел песню на слова Богдана Лепкого:
«Чуєш кру, кру, кру, в чужині помру, заки море перелечу – крилонька зітру».
Часто прикладывался к рюмке. Но я не берусь анализировать его поступки. Он не смог в полную силу реализовать свои большие потенциальные возможности, но «пропащей силой» его назвать нельзя. Его деятельность бунтаря была той каплей, что вместе с другими попадала на «металл» господствующей идеологии, и разъедала, словно ржавчина, её нутро.
Были намерения создать партию. Видели нецелесообразность её создания. Все партии в конце концов разоблачались. И наша также будет разоблачена, как её ни конспирируй. Ограничились культурологической деятельностью и критикой существующего строя, прикрываясь марксизмом-ленинизмом. Даже после появления на Киевской ГЭС Вячеслава Черновола, который первым начал открыто критиковать власть, используя малейшую возможность на любых собраниях. Назаренко своё обращение «Ко всем гражданам Киева» заканчивает словами: «Да здравствует Ленинская национальная политика!».
Количество самиздатовской литературы, проходившей через наши руки, постоянно увеличивалось. Мы с Назаренко уже не успевали не то чтобы прочитать её, а даже переснять на плёнку. Олесь занимался фотоплёнками и изготовлением фоторепродукций вместе со мной в моём жилище. Сначала — в вагончике на Киевской ГЭС, а позже — в моей квартире. Часто мне самому приходилось сидеть ночами над изготовлением фоторепродукций. Кстати, фотоувеличитель мы приобрели с Назаренко на общие средства. Но не могли справиться с наплывом информации. Возникла потребность найти машинистку. Когда я договорился с Филатовой Ларисой (женой Николая Савченко), то передал ей печатную машинку, принесённую Олесем. Сначала Лариса отказывалась от денег за печатание. Но когда я сказал, что это ей может понадобиться для защиты, на случай провала — скажешь: «Работала ради денег», тогда согласилась. За каждый печатный лист платили 20 копеек. Олесь с Ларисой не был знаком и поэтому в своих «Вышгородских легендах» он ошибочно называет её Лариса Панфилова.
Об аресте даже не думалось. С одной стороны, пренебрегал осторожностью, с другой — существовал инстинкт самосохранения. Мои поступки напоминали какую-то существующую в людях природную примитивную конспирацию.
Арестовали меня 17 сентября 1968 года. Назаренко утверждает, что был подослан В.М. Пчёлкин, который выпросил у него почитать «Большую историю Украины с древнейших времён до 1923 года», написанную в антисоветском националистическом духе. Мне о В.М. Пчёлкине ничего не было известно. О методах следствия говорить не буду, они известны. О них пишут Масютко, Губка, Овсиенко и многие другие авторы, которые там побывали. Скажу лишь, что меня не били. Никаких физических пыток не применяли. Запугивание, измор, вызовы ночью, обман, провокации, подсадные утки и другие юридические тонкости были на вооружении. Как мог, сопротивлялся следствию. Подтверждал лишь то, что было им известно. Чтобы не попасться на провокации — требовал доказательств. Избегал обвинений в создании какой-либо организации, преуменьшал свою деятельность. Говорил, что чтение запрещённой литературы является лишь естественным стремлением человека к познанию чего-то нового. В своём оправдании нам не на что было опереться. Тогда ещё не было Хельсинкских соглашений, поскольку совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе состоялось лишь в 1975 году. Следовательно, ссылаться на юридические документы, чтобы легально и вполне законно бороться с нарушением прав человека, опираясь на внутреннее и международное право, — мы не могли. В то время существовала Декларация прав человека, принятая ООН в 1948 году, но мы о ней ничего не знали. Приходилось ссылаться на Конституцию УССР. Сетовать на последствия культа личности и тогда ещё не совсем забытые последствия бериевщины, которая наверху вроде бы осуждена, а на низах требует искоренения. Следователи не боялись этих высказываний, но у них не было и уверенного в своей правоте решительного нажима. Я стремился как можно меньше втянуть людей в этот процесс. Не рассказывал о материалах, которые не фигурировали на следствии, поэтому и свидетелей у меня было мало. Так, у Фёдора Филатова осталось «Письмо Раскольникова И.В. Сталину», а у Римы Мотрук — фоторепродукция «Пепел Империй» Юрия Клена. Обидно об этом говорить, но я проигрывал не только в том, что не имел никакого юридического опыта, но и потому, что не знал в совершенстве украинского языка. Если «щеколду» от «щиколотки» я ещё мог отличить, то значения слов «небіж» (племянник) и «небіжчик» (покойник) я не понимал. А слова «розмноження» (размножение, тиражирование) и «розповсюдження» (распространение) имели для меня одинаковое значение. Следователям гораздо сложнее было бы обвинить меня в распространении, если бы я знал, что это не размножение.
На следствии Олесь Назаренко, как мне показалось (подчёркнуто мной), побоялся недооценки органами нашей деятельности. Пытался преувеличить и придать больше весомости нашему делу, хотя ничего лишнего не выдумывал, а говорил правду. Возможно, он и прав. Надо было раздувать дело, чтобы о нём узнало больше людей.
Перед украинцами всегда стоял вечный вопрос — бороться ли с оружием в руках и погибнуть, или, зная заранее обречённость такой борьбы, «лечь на дно», сохраняя генофонд нации на будущее. Не эта ли проблема разъединила бандеровцев и мельниковцев. Подобных примеров в истории много. Но если бы не было борьбы — не было бы в истории народа и борьбы за своё освобождение от оккупантов. Казалось бы, что народ смирился со своим угнетённым существованием.
Если мою деятельность рассматривать со стороны существовавшей тогда власти, то вся подпольная литература, попадавшая ко мне, была антисоветской, а значит для неё — преступной. Поэтому на суде я признал себя частично виновным перед существующей властью. Но по общечеловеческим понятиям свободного человека, я не видел за собой никакой вины.
Потом этап. В январе 1969 года нас посадили в отдельные «купе Столыпина». Куда везли — никто не знал. С одной стороны от «купе» Назаренко находился я, с другой — Валентин Мороз, а за ним — Валентин Карпенко. Мы могли между собой переброситься несколькими словами, но друг друга не видели. К разговору как-то присоединился и Мороз. Назаренко через охранника передал ему текст невысказанной своей речи на суде. Я возмущённо сказал, что не надо этого делать, потому что мы не знаем, кто там находится. С Морозом мы не были знакомы и ни разу не слышали его голоса. Привезли нас в Харьков. К «воронку» надо было переходить несколько путей. Нас вывели из вагона. Там мы впервые увидели друг друга после суда. Поставили по три человека в ряд вместе с «бытовиками». Заставили взять друг друга под локти. Прозвучала команда: «Шаг влево, шаг вправо — считаю побегом. Стреляю без предупреждения. Шагом марш».
Поместили нас на «Холодной горе» в камерах смертников, каждого отдельно. У стенки было возвышение из бетона, на котором приходилось спать, подложив руки под грудь, чтобы не простудить лёгкие. Через несколько дней нас отправили снова неизвестно куда. Оказались на станции Рузаевка Мордовской АССР. Здесь нас, трёх подельников, поместили в большую камеру вместе с «бытовиками». Там можно было лежать на деревянных нарах. У охранников попросили станок для бритья, но нам дали лишь одну половинку лезвия. Я до сих пор удивляюсь, как удалось Карпенко побрить себя и нас той половинкой лезвия. На другой день нас отправили по месту назначения. Назаренко высадили на станции Явас, а мы с Карпенко попали на территорию тюремной больницы, которая находилась в конце этой железнодорожной ветки. Потом больницу отделили заборами, и мы оказались в концлагере №3. Здесь был полный интернационал: украинцы, русские, латыши, литовцы, грузины, армяне, евреи и другие. Здесь была относительная свобода: бараки не запирались, ходили и общались свободно. Железнодорожная колея, по которой нас доставили сюда, отделяла рабочую зону от жилой.
Постепенно познакомился со многими интересными людьми.
Стеценко, во время войны — бургомистр Краснодона, упоминающийся в «Молодой Гвардии» Фадеева. Кучером у него был отчим Олега Кошевого. Он рассказывал, что на тройке лошадей выезжал на место происшествия, где молодые ребята обокрали сигаретный киоск (речь шла о молодогвардейцах). Немцы, как известно, воров не миловали, некоторых расстреляли и бросили в шурф. Когда Стеценко подходило время освобождения, он говорил, что боится ехать в Краснодон, поэтому поедет с баптистом Сафроновым в Россию и там вступит в секту, чтобы его никто не трогал.
Иван Покровский бывал во многих лагерях. Всюду пользовался большим уважением среди политзаключённых. Говорил, что здесь условия хуже, чем в лагерях №11 или №19. Как-то в разговоре с ним я обмолвился, что очень хотел бы увидеть своё дело. Каково было моё удивление, когда через некоторое время он принёс моё обвинительное заключение, напечатанное на кальке. Не знаю, как ему это удалось, но расспрашивать было не принято.
Левко Лукьяненко — неоспоримый авторитет. Когда он ознакомился с моим обвинительным заключением, поражённо произнёс: «И это творилось в Киеве, у них под самым носом! Значит наше дело не такое уж безнадёжное».
Всем известный в то время Синявский после разговора сказал: «Я считал вас экстремистами».
Валентин Карпенко раздобыл где-то гитару и прекрасно сочинял, знал много песен, которые речитативом напевал в свободное время. На память выучил почти всего Высоцкого. Вокруг него собирались не только украинцы.
Карпенко дружил с Николаем Тарнавским — учителем с Кировоградщины. Мы с Иваном Губкой пели «Думи мої, думи мої» Тараса Шевченко. Также я общался с Николаем Береславским из Бердянска, который 10 февраля 1969 года совершил попытку самосожжения в вестибюле Киевского университета.
Был в дружеских отношениях с латышом Андрисом Метра. Помню, когда я разговаривал с Андрисом и русским Дмитрием Куликовым, подошёл к нам латыш Круклинш, отбывавший срок не по политическим мотивам, и с ехидной улыбкой обратился ко мне, указывая на Дмитрия: «Это кацап, это твой враг!». На что я ответил: «Ты сначала определи своих врагов, а потом будешь определять уже моих». В спор вмешался Андрис, он стал на мою защиту.
Я общался с литовцами, латышами, армянами, грузинами, русскими, евреями. В нашем лагере евреев было мало. Они не вступали ни в какие споры. Своих понимали без слов. Знали, что их скрытая цель — распространение космополитизма среди других национальностей — в лагере просто невозможна. И потому относились как к заключённым разных национальностей, так и к администрации лагеря лояльно. Разговор пытались направить в русло демократизации общества, свободы слова, свободы печати, права на эмиграцию.
Когда русские собирались вместе, то преобладающей темой их разговоров была культура. Украинцы на первый план ставили национальный вопрос. Каждый хотел иметь то, к чему стремился. Русские, как во время революции 17-го года, так и теперь, доказывали, что сначала надо вместе добиться демократического общества, а национальный вопрос потом решится сам собой. Революция не решила национального вопроса. Империя не отпустила от себя ни одной нации. Наоборот, пыталась завоевать как можно больше стран. Поэтому, вместе с демократией, на первый план необходимо ставить национальный вопрос. Каждая страна, освободившись от оккупации, будет строить строй, соответствующий уровню её общественного и экономического развития. Со всеми людьми других национальностей я был солидарен в их стремлении к свободе.
В лагере было много людей, осуждённых не за политику. Их использовал оперуполномоченный. Он за пачку чая собирал от них информацию о разговорах в лагере. «Бытовиков» было меньше, чем политических, и поэтому отношение их к нам было нормальное, даже не было краж. Когда вдруг видели, что кто-то открыл не свою тумбочку, сразу слышались окрики: «Ты что там выискиваешь? Ты что, „стукач“?»
Каких только рассказов не ходило в лагере. На воле не каждый мозг смог бы додуматься до такого. Но это не сплетни, а высказанные из глубины измученной души истины. Одному «бытовику» врач вырезал без наркоза татуировку «Раб СССР», которая была на лбу. Когда вывозили мёртвых, то дежурный офицер на проходной протыкал каждый труп шилом, чтобы под мертвеца не замаскировался кто-то из живых. Один рассказывал, что в лагерях, когда «бытовики» ходили в гражданском, они в зонах содержались вместе с женщинами. К нему приходила приятельница, приносила краюху хлеба, которую ей удавалось скрыть. Они прятались под одеяло и ели, чтобы никто не видел. Только благодаря этому он и выжил. Другой рассказывал, как часовой с вышки бросил в зону пачку чая. Она упала, немного не долетев до ограждения. Первое ограждение от лагеря было низенькое, и поэтому один из осуждённых осмелился забрать чай, переступив его. Он тут же был застрелен с вышки. Так часовой заработал себе отпуск. Однажды мы объявили голодовку, потому что с вышки был убит человек, который днём переступил первый барьер проволоки и стал на вспаханную землю. Через трое суток, ничего не добившись, вышли на работу.
Мне отбывать свой срок пришлось от «звонка» до «звонка».
Анализируя борьбу власти с диссидентством в шестидесятых годах, я пришёл к мысли, что некоторые действия кагэбэшников были необъяснимы. Чтобы вырвать с корнем постоянно растущий «буржуазный национализм», КГБ в шестидесятых годах прошлого века отправлял в тюрьмы большое количество людей, даже таких, которые не заслуживали лишения свободы. Возникает вопрос: пытались ли карательные органы таким образом доказать необходимость существования своей структуры, или возможно, в высших эшелонах власти в то время появились единичные влиятельные люди, которые либерально относились к демократическим идеям в Украине? Они понимали, что в лагерях не перевоспитывались, а наоборот — закалялись, прозревали и становились убеждёнными, национально сознательными личностями. К тому же эти процессы приобретали большую огласку в своей стране и за рубежом. Известно, что лучший способ от чего-то избавиться — это замалчивание. А огласка, даже критическая, создаёт популярность и всегда даёт обратный результат. Не с такими ли намерениями была разослана Центральным Комитетом партии работа Ивана Дзюбы «Интернационализм или русификация?» во все областные партийные организации якобы с целью осуждения? А возьмём резкую критику «буржуазного национализма» в прессе, откуда можно было узнать о людях, которые борются, и вообще о происходящих событиях. Разве результат не тот же? Так что, наверное, не случайными были и легенды о «Малиновых парусах». Назаренко рассказывает в своих «Вышгородских легендах», что в институте связи города Киева была прочитана лекция об украинском буржуазном национализме, в которой лектор из ЦК комсомола утверждал, что в Вышгороде раскрыта подпольная организация «Малиновые паруса», которая готовила вооружённое восстание. Намеренное преувеличение, чтобы придать веса. Такую же лекцию прочитали в Харьковском доме литераторов. Зачем это было делать, когда там мало кто знал о Киевской ГЭС, не говоря уже о «Малиновых парусах»? Зачем нужны выдумки КГБистов о съезде националистов в Вышгороде? Из всех этих вопросов возникает один самый главный вопрос: это была их ошибка, или это делалось намеренно?
Освободили меня 17 сентября 1971 года. На воле ничем антисоветским не занимался, но это не была «Бочка Диогена», как я ответил Лукьяненко на вопрос: «Чем занимался?», когда встретились в 1989 году на Олеговской улице.
Через некоторое время посетил Оксану Мешко и записал собственноручно «Письмо к И. Вильде» Левка Лукьяненко, которое выучил на память ещё в лагере. Кстати, с О. Мешко приходилось встречаться часто. Я ей помогал по хозяйству. Потом это «Письмо к И. Вильде» переписал Ивану Светличному и оставил ему некоторые свои стихи. Я просил его переписать своей рукой, чтобы мой почерк нигде не значился. После ареста Ивана Светличного меня вызвали в КГБ. О «Письме» разговоров не было. Возможно, оно к ним не попало. Но о стихотворении «Ливень в Карпатах» следователь, показывая его мне в оригинале, пытался узнать, кто его автор и как оно попало к Светличному. Просил объяснить смысл таких строк:
«На Говерлі здригнулася корона,
Як уздріла гору мертвих тіл –
Це мітла пролетіла червона,
Що розкраяла небо навпіл.
Не злякалися бурі по селах,
Люди в ліс потяглися возами…
Тріснув гнівом наповнений келих
І заплакало небо сльозами».
Спросил: «Не идёт ли в стихотворении речь о „красной метле“, когда Красная армия выметала с Западной Украины немецких прислужников? И чего это люди в лес потянулись на возах?» На что я ответил: «В поэзии каждый видит то, что он хочет видеть. Я в „красной метле“ увидел молнию, а люди спешили сложить сено, чтобы не намокло. Если вы увидели что-то другое, это ваше дело». Хочется сказать, что в поэзии в то время распространялся символизм, настолько сближенный с реальностью, что описанные реальные факты говорили сами за себя. Но упрекнуть автора никто не мог. По этому поводу анекдот. Идёт пьяный по улице и кричит: «Царь дурак». Появились полицейские: «Ты что ж так на нашего царя-батюшку?». «Так я ж не на нашего», — ответил тот. — «Не выкручивайся. Раз дурак — значит наш». И бросили пьяного в каталажку. В таких произведениях каждый читатель ясно видит критику существующего строя, но упрекнуть автора, что этот строй и есть советский, не мог. Если бы кто осмелился обвинить автора, тем самым он признал бы абсурд общественных отношений, описанный в произведении, советским. Правда, появились и такие, что свою сущность настолько ретушировали символикой, что только сам автор мог знать, о чём идёт речь в произведении. Такие произведения не запрещались. Следователь составил протокол, в котором отметил, что я стихотворение объяснить не смог. Это ставит под сомнение моё авторство. Вот так и изучай историю по протоколам КГБ. На предложение работать в КГБ — я отказался. В шутку сказал: «Вы же мне генерала не дадите, а стукачом — не буду». В конце протокола он добавил о неразглашении разговора и заставил меня подписать. Больше меня в эти органы не вызывали, но следили несколько лет. И этого не скрывали. Как-то (уже прошло много лет) главный энергетик завода детских колясок, где я работал электриком, пожаловался, что не знает, что писать обо мне в КГБ. Рассказал, как ему предлагали напроситься ко мне в гости с бутылкой, чтобы выведать, чем я дышу.
До и после перестройки, нового мышления, гласности, я не пропускал ни одного массового собрания у памятника Т.Г. Шевченко, на площади у Республиканского стадиона, на Софийской площади и на Майдане Незалежности. Во время оранжевой революции выносил на майдан продукты и одежду.
Оранжевая революция победила благодаря патриотизму людей. Эти чувства намеренно замалчивались, и сегодня замалчиваются, а события, происходившие в то время на Майдане, пытаются подать как борьбу кланов за власть. Правда, некоторые кланы патриотизм людей используют в своих целях. Сегодня не надо ставить на личности. Как у Ющенко, так и у Тимошенко есть много людей, на которых нельзя положиться. Если какой-то деятель говорит, что он сделал правильный выбор, когда его избранник победил на выборах, то этот деятель не имеет никаких убеждений. Его цель — угадать, кто придёт к власти, на кого поставить. Им руководит в душе своя идеология, которая позже реализуется через власть и обогащение. Странно сегодня слышать, когда мусолится мысль: вокруг какой идеи объединяться. Некоторым хотелось бы объединиться вокруг идеи уничтожения украинского языка, вокруг временного улучшения жизни за счёт потери суверенитета, или, возможно, вокруг идеи разрушения Украины. Но ведь объединение украинского народа возможно только вокруг национальной идеи. Патриотизму — альтернативы нет. Никогда украинские националисты-патриоты не ставили свою нацию выше других. Они лишь пытались поднять свой народ-мученик с колен и поставить вровень с другими народами. Против такой идеи выступают шовинисты, космополиты, «пятая колонна», янычары и предвзятые личности.
Для развития украинской государственности нужна крепкая украинская власть. Демократически принятые законы должны выполняться безоговорочно. Кто их игнорирует — привлекать к ответственности. Если демократически принятые законы не выполняются, то это уже не демократия, а анархия.
Когда в треугольнике все углы тупые, то необходимо менять законодательную, исполнительную и судебную власть. Потому что получается так, как говорит Татьяна Коробова (корреспондент «Вечерних вестей»), что наша власть имеет три головы, как змей Горыныч. Когда одна голова чего-то переест, то всем трём плохо. Потому что желудок у Горыныча один, а у власти одна Конституция. Сейчас существует угроза потери независимости. После сомнительного меморандума, когда была объявлена амнистия предыдущей власти, все антиукраинские силы вылезли из нор и совершили антиукраинский переворот.
После оранжевой революции люди вздохнули, думая, что борьба за национальное освобождение наконец закончилась. Осталось решить только социальные вопросы. Но, как видим, борьбу надо продолжать, чтобы дело Независимости довести до конца.
Деятельность Вышгородской группы почти не известна. В средствах массовой информации за десятки лет не появилось ни одной статьи о диссидентстве в Вышгороде. Лишь совсем недавно «Вышгородские легенды» Олеся Назаренко впервые коснулись этих вопросов.
Считаю, что деятельность Вышгородской группы заслуживает большего освещения.
Кондрюков В. А.
Декабрь 2006 года. г. Киев
Редакция В. Овсиенко 28 мая 2007 года.
Редакция автора 19 июня 2007 года.
Знаков 45 723