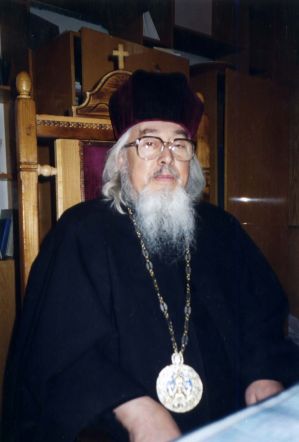Воспоминания Епископа-Ординария Коломыйско-Черновицкой епархии Кир ПАВЛА ВАСИЛИКА.
Записал ЮМ. 1991–1999 гг.
Отсканировал, вычитал и разместил на сайте ХПГ на Сретение Г. Б. 2008, 15 февраля, В. Овсиенко.
Опубликовано: «Християнський вісник». Журнал Коломыйско-Черновицкой епархии УГКЦ. Май 1999, номер 7 (67), спецвыпуск. 24 с.
Жизнь несгибаемого Воина Христова Преосвященного Владыки Кир Павла Василика — пример служения нашей Церкви и Украине. Мы записываем воспоминания о Его тернистом жизненном пути. Хотим издать книгу.
Работа над воспоминаниями ещё не окончена. Печатаем их такими, как есть, не только для того, чтобы отметить Юбилей Владыки, но и чтобы получить помощь от наших Верных.
Среди Вас, Дорогие Братья и Сёстры, есть те, кто делил с Владыкой тюремный хлеб и скитался вместе с Ним по сталинским и хрущёвским концлагерям, кто присутствовал на Его подпольных службах, кто хранит написанные Владыкой из-за колючей проволоки письма и фотоснимки.
Просим принести нам эти редкие и важные документы. После копирования мы их вернём. Они будут использованы в книге.
Просим подавать уточнения и дополнения.
Надеемся на Ваше понимание и поддержку.
Издатели.
1.
Чем ближе человек к своей земной черте, тем чаще он вспоминает то время и то место, где появился на свет Божий. С большой радостью посещает он тропинки своего детства.
И я там был, где сделал первые шаги. Но не радость ощутил от своих визитов, а великую скорбь. Потому что заросли мои детские тропинки. И не только травой, сорняками, но и деревьями, кустами. На месте моего села шумит лес. Хотя как густо от деревьев там, где стояли церковь и кладбище, но ещё стоят кое-где на бывшем кладбище покосившиеся кресты. А один крест, с железным Распятием, показал мне, где была моя школа.
Тот крест я узнал. Помню его, с тех пор как себя помню. Он стоял перед школой, и сейчас стоит на том месте, только уже не вкопанный, а приставленный к дереву, потому что перегнил.
Что это тот самый крест и что там была школа, подтвердил человек из нашего села, который спрятался от поляков, когда нас вывозили, и остался здесь жить. Он рассказал нам, что сразу после нашего отъезда поляки село подожгли. Церковь сжечь не посмели. Её через несколько лет разобрали, дерево использовали на хозяйственные нужды.
Село разрушили и засадили лесом, чтобы уничтожить о нём память. А память хранит сердце, хоть и обливается кровью. Его боль, а не рук, не лица, чувствовал я, когда продирался через крапиву и тернии к отчему порогу. Ещё не утонул в зелёном водовороте фундамент нашего дома.
Узнал я среди деревьев и наши яблони, и грушу, которую очень любил. Она уже стояла усохшая, потому что её заглушил осот.
Последний раз я был в своём селе пять лет назад. Тогда сошлись на пустырь из окрестных сёл наши односельчане, которым удалось остаться на родной земле. Я отслужил на дорогих нам руинах Службу Божью. Мы вкопали возле церкви крепкий дубовый крест.
Не таким, каким я увидел его при последней встрече, храню я в своей памяти родное село. Оно было живописным. Поля на холмах, а оно притаилось в долинке, как в Божьей ладони. Вокруг леса, и что когда-то водилось в тех лесах, видно по их названию. Один из наших лесов назывался Турница. Туров, правда, я в нём уже не застал, но когда мы ходили туда за малиной, то могли спугнуть зайца или лису. Из-за дальних деревьев смотрели на нас красавцы-олени с большими пышными рогами и ревели так громко, что даже страшно было слушать. В чаще можно было наткнуться на дикую свинью или даже на медведя.
Были леса вокруг нашего села. Леса, боры. Боры славные. Потому и село — Бориславка. В двадцати четырёх километрах от Перемышля, на этнографической границе — между бойками и лемками. Я так толком и не знаю, кто я: бойко или лемко. Когда кто-то спрашивает, говорю так: если нужно быть лемком — я лемко, если нужно быть бойком — я бойко. Но всегда хочу быть украинцем.
Мне кажется, что украинцем меня сделали не только домашнее воспитание, некоторые учителя в школе, которые рассказывали нам, кто мы есть, рискуя потерять должность, полученную из рук польской шовинистической администрации, не только уличные песни молодёжи тёплыми летними вечерами, но и ручеёк, что протекал недалеко от нашего дома.
В хорошую погоду нужно было хорошо прислушаться, чтобы услышать серебряный перезвон его кристально чистых волн по радужному каменному ложу. Эту диво-музыку слушали не только мы, ребятня, но и рыбы, что плавали в потоке, лениво помахивая хвостами. А заплывал к нам с гор даже пструг (форель), потому что Бориславка — село подгорное.
На другом инструменте играл наш поток, когда были дожди и ливни. Тогда он набухал, чернел от ярости и ревел, как Днепр. Но и тогда мы его не боялись. Берега были высокие, и наш ворчун не мог причинить селу беды.
Беду Бориславке причинили поляки.
Естественно, что человек уходит, проводив перед тем в вечный путь своих родных. Уходя, оставляет за собой и свои детские следы.
Следы моего детства уничтожены. Это меня очень ранит, поэтому я и начал свои воспоминания не так, как все, не с рассказа о своих родных. Когда же излил свою боль и тем немного её утолил, буду дальше рассказывать в привычном порядке.
Итак, я родился 8 августа 1926 года в селе Бориславка, которое относилось к Перемышльскому повету Львовского воеводства. Я — сын и внук сечевых стрельцов, потому что в УСС были и мой отец, и мой дед. Дед даже был на фронте ранен, а отец, хвала Богу, вернулся целым.
Моего отца звали Аким, сын Михаила. Работящий, степенный хозяин, он был от природы не очень разговорчив. О себе рассказывать не любил, поэтому я очень мало знаю о его службе в стрельцах. Знаю лишь, что он воевал на Волыни. Иногда вспоминал город Сарны.
Отец был не только хорошим земледельцем, но и разбирался в столярном деле. У него была от Бога душа артиста — хорошо играл на скрипке и на гармони. Научился самоучкой. Жизнь у него сложилась так, что он не смог развить свои способности соответствующим обучением, но они очень пригодились ему в общении с людьми, а больше всего — при воспитании детей.
Мама моя — Ксения, из дома Кульгавец. Родословных ни по отцовской линии, ни по материнской не вели, но сохранилось предание, что моя мама происходила из казацкого рода. Говорят, что в 1775 году кто-то аж из разогнанной Екатериной Запорожской Сечи прихромал в наши края да и пустил корни. Может, это лишь легенда, но у моей мамы было увлечение не такое, как у наших женщин и девушек: очень любила ездить на лошадях. Верхом.
Ещё мама отличалась от других тем, что была едва ли не лучшей в селе огородницей. На нашем огороде созревали и большие красные помидоры, которые ещё были очень мало распространены. И они, и новые сорта овощей шли по селу от нашего дома. До сих пор мне кажется, что фасоль, картошку, свёклу, морковь, капусту никто не выращивает такими красивыми, как когда-то моя мама.
А ещё цветы. Мама очень за ними следила. Цветы были на огороде, перед домом. Хлев, хата и рига под гонтом, крытый соломой стог; плетёный тын и — цветы, цветы, цветы... Господи, как могла подняться рука на такую красоту!.. Сделать из земной сказки пустырь!
Огород был под маминой опекой, сад и поле — под отцовской. Отец прививал груши, яблони. Даже в поле на меже росли у нас сливы. На тех венгерских сливах мы, дети, учились считать, их было более ста деревьев.
Земли у нас было гектаров десять. Сеяли зерновые яровые и озимые. Хватало и для себя, и на продажу. В хлеву всегда были две коровы, двое телят. Мы держали кур, гусей, свиней. Было чем кормить детей.
А нас было у отца и мамы целых одиннадцать. До сих пор ещё живы девять.
Хотел я писать о каждом отдельно. Но жизненные бури, которые терзали наше двадцатое столетие, добавили каждому из нас, людей старшего поколения, столько фактов (преимущественно невесёлых) в наши биографии, что каждому, чтобы всё описать, хватило бы на книгу. К написанию таких книг всех призываю. Это будут лучшие учебники по нашей истории для грядущих поколений.
О своей семье скажу лишь одно. Никто из детей Ксении и Акима Василиков не пошёл по ложному пути. Ни один не кривил душой, чтобы добиться в жизни тёплого местечка, ни один не вступил в ту человеконенавистническую партию, хоть, имея высшее образование, перечёркивал этим свою карьеру. Чего было вдоволь у всех Василиков на их жизненном пути — так это терний. Слугой Господним стал я один.
Отец мой, сечевой стрелец, заботился о том, чтобы мы вырастали национально сознательными. Что касается религиозного воспитания, то оно не отрывалось от национального. Это было едино, потому что наши национальные традиции давно уже срослись с духовными, христианскими.
Мы все ходили в церковь. На праздничные Богослужения — с самого малого возраста. Когда ещё не умели ходить, то на руках у отца, мамы или кого-то из старших братьев и сестёр. Каждый из нас, как только научился читать, получал в подарок молитвенник. Мы ходили с молитвенниками в церковь. В церкви молились, пели, внимательно слушали проповеди.
Дома, кроме постоянно выписываемого «Колокольчика», книжек Андрея Чайковского, у нас были и религиозные книжки. Мы всё время получали «Миссионер». Нам читали дома и его, и «Жития Святых». Отец и мама, хоть и были очень заняты и нами, и хозяйством, находили время послужить церкви. Отец был в церковном Братстве, мама — в Апостольстве молитвы.
Каждый год в августе, когда по римо-католическому календарю было Успение Божьей Матери, мы все ходили пешком в Кальварию. Это было от нас семь километров. У украинцев там был свой отпуст, свой Крестный Путь и прекрасная церковь. Ту церковь потом поляки сровняли с землёй...
Пошёл я в школу в 1933-м году. Тогда на Большой Украине как раз был голод. В селе, в читальне «Просвиты», в церкви о том голоде много говорили. В «Миссионере» были фотографии иссохших до костей голодных детей. Село отправило голодающим продукты, но советы их за Збруч не пустили.
Учителей своих помню лишь по фамилии: Возьни, супруги. Это были твёрдые украинцы. Поляки таких преследовали, но они мужественно делали своё дело — воспитывали нас украинскими патриотами.
Мы тогда были намного послушнее, чем нынешние дети, и потому много пользы извлекали из науки. На переменах и после школы мы играли в казаков, в сечевых стрельцов. Все были вооружены. Ружья, сабли вытёсывали из дерева, стрелялки из бузины. А из наших луков действительно можно было стрелять. Стрелы — с металлическими наконечниками.
Я так же «воевал» с другими, но с большей охотой я делал себе из какой-нибудь одежды сутану, из рушника — епитрахиль и подражал нашему отцу-настоятелю. Раз даже мы с пением и проповедями похоронили голубя, которого загрыз кот.
Но это были ещё детские бессознательные забавы.
Я почувствовал, что хочу быть священником, когда учился в третьем классе. Это случилось после одного случая, который меня неприятно поразил. В то время настоятелем села и нашим катехизатором был молодой священник о. Павел Павлиш, потому что когда я был ещё в начале второго класса, нашего отца Николая Щепанского, который меня крестил, Владыка Кир Иосафат Коциловский перевёл на другое место.
В одно воскресенье отец Павел стал в Царских Вратах и говорит:
— Люди, скажите своим детям, чтобы они следили за скотом, когда гонят на пастбище и с пастбища. Потому что они не следят, и ваши коровы топчут мои посевы, наносят мне ущерб.
Я знал, как это было. Была корова в шкоде, но не из-за недосмотра пастухов, а из-за жары. Жара, зной, коровы побежали. Кто может их догнать... А что поле церковное не было огорожено, то в чём тут пастухи виноваты.
А если бы и были виноваты, то можно ли в церкви такое говорить? Я себе подумал, что так никогда в церкви не скажу. И я буду Бога просить, чтобы помог мне стать священником. А поля церковного мне не надо будет. Я его раздам бедным.
В родном селе я окончил четыре класса. Дальше пошёл на два года в соседний городок Рыботычи. В нашей Бориславке были одни украинцы, а там было много поляков. У них был свой костёл.
С поляками в школе мы часто дрались. Поляки-учителя пытались нас ополячить, но мы не давались. У нас была огромная поддержка от нашего катехизатора о. Гайдукевича.
После шестого класса отец отвёз меня в перемышльскую гимназию. Классы в Рыботычах были гимназические, поэтому в Перемышле после соответствующих экзаменов меня взяли сразу в третий класс.
До Бориславки из Перемышля по шоссе 24 километра, напрямик, через горы — 14. Ко мне приезжали редко. Я очень тосковал по Бориславке. В городе были прекрасные церкви и была Богословская семинария, где я надеялся с Божьей помощью осуществить свои мечты.
Я был гимназистом необычным. Шалости, забавы, чрезмерные шутки были не для меня. Я много читал. Не только то, что в гимназии по программе, но и духовную литературу. Здесь у меня был больший доступ к книгам. Я часто ходил в церковь, на исповедь, к Святому Причастию.
Я жил как аскет. Строго постился. Умерщвлял себя, бичевал. В юношеском фанатичном порыве я пускал себе кровь. До сих пор у меня на запястье шрамы в виде креста. Я заставлял страдать своё тело, закалял душу.
Перемышльский кафедральный собор стал словно моим вторым домом. И когда мы, гимназисты, каждое воскресенье и в праздники шли строем в нашу кафедру на «девятку», на службу владыки Кир Григория Лакоты или других каноников, мне казалось, что мы идём ко мне домой.
Но пришли первые советы, и мы уже не могли идти строем в церковь. Они ещё в первый раз не решались закрыть её, а мне никто не мог запретить ходить в неё так часто, как я хотел.
Первые советы вредили скрыто. Могли в каком-нибудь селе устроить танцы в таком месте, чтобы громкая музыка мешала служить в церкви. С приходов неизвестно куда исчезали наши священники. А настоятеля села Макова нашли мёртвым, с выкрученными руками и поломанными ногами...
Те первые советы были хороши лишь тем, что скоро ушли.
2.
Пришли немцы. Они хоть и не вмешивались в церковные дела, но жить стало намного тяжелее. Начался голод, потому что в наших местностях выпал страшный град. Уничтожил всё. На поле — как будто кто-то плугом перепахал. Хоть как я был приучен к нужде своими постами, но от голода страдал и я. Еду тогда присылали мне из Бориславки необычную: лепёшки с осотом, лебедой, крапивой. Это всё перемешивалось с тестом. Лепёшки лишь выглядели сытными...
Из-за голода я не смог переехать в Ярослав, куда переводили нашу гимназию. Мне было грустно расставаться с товарищами-гимназистами, но ещё тяжелее было бы покидать Перемышльский кафедральный собор.
Я не делал ничего напоказ, но моё рвение было замечено. Много внимания уделил мне о. Гриник, каноник епископского капитула. Видя меня каждое утро на Службе Божьей, и если была возможность, то и в другое время дня, отец без моих объяснений понял, что я хочу стать священником. Но всё-таки спросил.
И был такой случай. На «Апостольство молитвы» ходила одна простая женщина, очень набожная, но юродивая. Даже зимой ходила босая. Может, и холода не чувствовала.
Как-то раз встретились мы трое в притворе собора — отец Владимир Савка (или Савко?), руководитель Апостольства молитвы, та женщина и я. Отец спрашивает её:
— Прошу пани, скажите мне, что из этого парня будет?
— Прошу отца, почему вы меня такое спрашиваете? Что я могу сказать? — смутилась женщина. Отец спрашивал в шутку, а она это восприняла серьёзно. Говорит мне:
— Прошу перекреститься!
Теперь смутился я. Но перекрестился.
— Из этого парня будет священник! — произнесла она торжественно.
Отец-руководитель воспринял её слова серьёзно. Я же очень этим пророчеством утешился. Рассказал о нём о. Гринику. После этого отец ещё больше начал обо мне заботиться. Я начал питаться с их кухни.
Сначала я жил в Перемышле на улице Словацкого у одной польки, потом — у гимназического профессора немецкого языка, которому помогал по дому и в саду. В конце войны меня взяли на жительство в капитул, к отцу-митрату Василию Пениле. Он был профессором в духовной семинарии. А я в ней учился частным образом, с тех пор как был в Перемышле.
Когда Германия распалась, в Перемышль снова возвращается гимназия, и я продолжаю обучение. Вернулись советы и снова взялись за своё. Весной 45-го арестовали нашего епископа. Поляки взялись выселять украинцев. В Перемышле нам было опасно даже выходить на улицу.
В сентябре нас отпустили домой, чтобы помочь выкопать картошку. Беда была и в Бориславке. Люди работали в поле, на огородах, но постоянно высматривали, не едут ли их выселять. Окрестные сёла уже вывозили.
Пришла беда и в Бориславку. Ворвались в село войска. «Выезд! Выезд!». Плач, крики, ругань. Через два часа выехала из села длинная печальная вереница. На подводах — маленькие дети, мука, сухари, одежда, постель. Сбоку от подвод — люди. За подводами шли привязанные коровы. Хорошо ещё, что слухи о выселении уже ходили давно, и люди смогли многое распродать. Но много и осталось. Самого важного: родных стен, родной церкви, родных могил — мы взять не могли...
Позабирали, правда, из церкви иконы и церковные вещи. Но наш путь изгнанников был нашим крестным путём. Облегчал его нам наш Спаситель, который был с нами на четырнадцати иконах Крестного Пути. Люди разобрали его и везли бережно спрятанным, как дорогое сокровище. Не оставили мы в церкви ни литургических, ни дьяковских и других церковных книг (метрическая сейчас хранится в Тернопольском архиве), ни хоругвей, ни фелоней. Но хоругви и фелони хранились по людским сундукам. Влажность и время их испортили. Всё сопрело, пришло в негодность.
Мы везли на своей повозке монстранцию — церковный сосуд, где хранятся Святейшие Тайны (она потом была разобрана на части и хранилась в разных местах), литургическую чашу (ей уже тогда было более ста лет, на ней надпись «Двулит» — фамилия нашего односельчанина, который купил её для церкви) и Святое Евангелие. Эти вещи до сих пор хранятся у меня, хотя Евангелие и было в руках кагэбэшников.
...Наша скорбная, словно похоронная вереница, от которой доносились ржание лошадей, мычание коров, плач женщин и детей, доехала до Нижинковичей — это в 14 километрах от нашей Бориславки. В Нижинковичах мы разобрали повозки и погрузили их вместе с лошадьми и скотом в поезд. Сели и мы в такие же вагоны, как и скот. Поезд тронулся.
Ехали мы в Тернопольскую область почти два месяца. Это даже не триста километров дороги! Поезд надолго останавливался в тупиках. Ели мы из своих запасов. Варить ничего не могли. Ещё хорошо, что на каждой станции можно было набрать кипятка. Нас не сопровождала ни милиция, ни войска, но бежать мы не могли, потому что не было документов, а в наших бумагах был указан пункт, куда нас везут: село Джурин в Чортковском районе на Тернопольщине.
Мы приехали туда в ноябре. Там на станции получили направление в Бучачский район, в село Барыш.
В Барыше расселили нас по тем домам, где раньше жили поляки. Это были полуразвалины. В нашей была завалена печь, сломаны окна, двери. Даже не у каждого дома был хлев.
Вначале было очень трудно. Мы, как только приехали, ходили в поле дожинать кукурузу, которая осталась без хозяев. Надо же было кормить чем-то лошадей и корову. Мука сначала ещё была своя. Было немного денег, потому что ещё в Бориславке кое-что продали перед выселением — купили картошки. Казак не без доли, а Бог не без милости. Как-то перезимовали. Весной дали нам землю — не столько, как дома, но достаточно. Дали семена. Люди начали весенние работы. Ещё лето перемучились, а весной было уже своё.
Помогали нам стать на ноги местные люди — те, что были национально сознательными. Люди тёмные относились к нам с презрением, будто мы покинули свои отчизны по доброй воле.
В Барыше была нас половина Бориславки. Другая половина была в Рудковском районе. Люди переписывались, навещали друг друга. Но было горько, потому что за много поколений привыкли жить вместе.
Наши приживались на новых местах. В Барыше я не мог осуществить своё призвание. После Крещения поехал во Львов. Там жила моя тётя. Меня приписали у неё, на улице Хмельницкого, 19/20.
Нужно было иметь документ об образовании, и я сразу пошёл в школу, в десятый класс. Директор был наш. Я сказал ему, что хочу быть священником, и директор отнёсся ко мне благосклонно. Школа была на улице Калинина, теперь — Замарстыновская. Окончив её, я поступил в фельдшерскую школу, что на улице Каменярской. Я любил медицину с детских лет. Думал я, что это моё увлечение будет полезным для людей, потому что знал, как не хватает нашим сёлам медицинской помощи. Хотелось лечить не только душу, но и тело.
1946 год — печальный для истории нашей Церкви. Ещё с прошлого года, после ареста всех наших епископов и многих священников, гонения на Неё были уже неприкрытыми. Они достигли наибольшего размаха 8–9 марта 1946 года, когда во Львове был согнан тот псевдособор. Тогда Львов рыдал. После «собора» мы перестали ходить в храм Святого Юра — в нём происходило то сборище.
Я знал, что в Преображенку (церковь Преображения Господня, что в центре города, возле театра Заньковецкой) ходит о. Гавриил Костельник. Я пошёл туда специально, чтобы с ним встретиться. Когда он с чашей в руках шёл из бокового престола в ризницу, я перешёл ему дорогу:
— Что вы наделали? Как вы посмели так предать Церковь?!
Он, бедняга, посмотрел на меня печальными глазами, но не сказал ничего. Пошёл в свою сторону, а я в свою.
Я заметил, что двое в штатском пристально на меня смотрят. Я понял, что это энкавэдэшники. Но они меня не остановили. Не знаю, слышали ли они, что я говорил отцу.
Москали не ожидали, что так скоро и легко разрушат официально нашу Церковь. Ведь тот «собор» не был неожиданным, его «инициативная группа» работала целый год. Москали спокойно арестовывали наших священников и епископов — хоть бы какое-то сопротивление, протест. А тогда москали ещё немного боялись мира. Мир, может, за нас и заступился бы, но мы молчали, как рыбы...
Во Львове не осталось ни одной греко-католической церкви. Из двух зол я выбрал меньшее. Пойти в управляемую большевиками московскую православную церковь я не мог. Пошёл, как и многие наши греко-католики, в польский костёл, в кафедру.
Я каждый день ходил на Службы Божьи, часто исповедовался и причащался. Моими духовниками были о. Нищомский, а потом — о. Криницкий. Но я не говорил с ними по-польски, хотя и умею. Они понимали по-украински, отвечали мне по-польски.
Очень горько было после того, как мы столько натерпелись от поляков, идти в их костёл. Да и поляки — всегда поляки. Даже ксёндзы. Не сжалились над нашей бедой, а взялись нас полонизировать. Начинали с наших детей. Мы жаловались. Дошло до Рима, но он ничего не изменил. Мы перестали в костёл ходить, собирались по частным квартирам. Наши священники, которые потеряли официальную работу, но не подписались на то москвославие, служили подпольно. Так наша Церковь уходила в катакомбы.
О какой-либо легальной духовной учёбе тогда не было и речи. Могли меня, конечно, отправить куда-нибудь в Одессу или Московию учиться на батюшку, но я был верен вере своих отцов.
Трагические события 1946 года лишь укрепили моё стремление стать священником. Ещё в Перемышле я собрал себе большую духовную библиотеку, привёз с собой и её, и конспекты из духовной семинарии (они у меня до сих пор). Я учился самоучкой.
В те годы ещё сильна была Украинская Повстанческая Армия. У меня была интересная встреча с несколькими её руководителями.
Я узнал, что в Якубовой Воле, недалеко от Дрогобыча, настоятелем является отец Павел Павлиш. Он меня крестил, был до второго класса моим катехизатором, потом из села уехал. Я учился в Перемышле с его детьми, моими ровесниками. Я поехал отца навестить.
Отец остался в церкви, потому что подписал православие. Говорил мне, что по заданию повстанцев, которым помогал. Так, очевидно, и было, потому что в 1965 году отец покинул православие. Он был православным лишь на бумаге. Перед Богом и своей совестью он до самой смерти был греко-католическим священником. Умер, имея 92 года.
Тогда в Якубовой Воле отец познакомил меня с партизанскими командирами. От них я узнал, что они выпускают партизанскую газету-бюллетень. Потом мы встретились в лесу за селом, и я передал в бюллетень свои патриотические стихи. Их уже не помню. Знаю, что один назывался «Вперёд».
Наша фельдшерская школа также имела связь с подпольем. У меня было много товарищей-патриотов, они очень мне помогали. Потребность в их помощи была велика.
Где-то через месяц после моего приезда во Львов навестил меня отец. Привёз длинный список лекарств и рецептов. На тех рецептах были печати и подписи врача больницы в Барыше. Но отец не скрывал от меня, что те лекарства — для партизан. Ещё в Бориславке отец был станичным в УПА (организовывал сбор продуктов, лечебных трав, перевязочных материалов). В Барыше также немедленно взялся за дело. Сечевой стрелец продолжал служить Украине.
Отец привозил списки лекарств и рецепты, а мы с доверенными ребятами из моей школы бегали по львовским аптекам и всё это малыми количествами скупали. Накупить всего в одной аптеке не могли, потому что это было бы подозрительно.
Раз в месяц отец приезжал с односельчанином (ещё из Бориславки). Возвращались от меня с полными чемоданами.
Всё купленное я хранил у себя на квартире. Чтобы не подвергать тётю опасности, я перебрался от неё на улицу Калинина, 28. Поселился у польки, пожилой пани. У меня была у неё комната. Чувствовал себя безопасно. До поры, до времени...
Мы жили на этаже. Как-то пришла к нам с партера старенькая бабушка и сказала, что её квартирантка хочет со мной поговорить. Я согласился. И она пришла. Ей было на вид 25 или 26 лет. Сказала, что она панна Надя, из священнического рода Лончинов, что сидела в тюрьме на Лонцкого 9 месяцев. Её взяли за сотрудничество с бандеровцами, но не нашли подтверждений и выпустили. Надя говорила, что может меня сконтактировать с повстанцами.
Я отказался. Надя показалась мне очень подозрительной.
3.
Перед тем приехал за лекарством только тот наш земляк, без отца. На этот раз, кроме лекарств, я накупил в Барыш бумаги и лент для пишущих машинок (машинки я отправил раньше). На обратном пути посыльного задержали энкавэдэшники. Как там было — не знаю, но его со всем отпустили. Он моему отцу не признался...
После этого случая повадилась та Надя. Я старался зайти и выйти из квартиры незамеченным. Так же скрытно поехал я в 1947-м в Барыш на Рождественские праздники.
Я добирался тяжело. В поезд тогда не всегда можно было втиснуться. Я часто ездил на крыше или стоял на одной ноге, держась за входную ручку. Но до Бучача как-то тогда доехалось. До Барыша из Бучача — 30 километров. Дальше добраться было нечем. Я пошёл пешком...
Мы сидели за столом в Сочельник, как стук в дверь. Открываем — на пороге... Надя!
Я был очень удивлён. Были удивлены и мои родители. Они знали, что я не буду жениться, что хочу стать священником. А тут Надя! Как будто моя невеста!
Я только спросил:
— Как вы сюда приехали? Первый раз в село, не зная?
— Я спросила у людей.
Её пригласили к ужину. Я всё допытывался:
— Панна Надя, почему вы приехали, почему вы приехали?
Она не отвечала. Выкручивалась. Пришли колядники.
Забрали Надю с собой колядовать. В одной хате они застали районного проводника Грома с повстанцами. Надя сказала, что она дочь священника, и её приняли за свою...
Когда Надя пошла колядовать, я родителям сказал, что мне и Надя, и её приезд кажутся подозрительными.
Когда я вернулся во Львов, начал осторожно разузнавать про Надю. Подтвердилось, что она действительно дочь священника, и что сидела в тюрьме.
Всё выяснилось в первые недели Великого Поста. Прибегает ко мне её подруга и подаёт мне скомканный листок бумаги. На нём — донос Нади в НКВД на меня и на других. Тот листок Надя выбросила в печь, когда в комнату неожиданно вошла подруга, но подруга вытащила.
Всё стало ясным. Я добра не ждал.
1 апреля 1947 года я зашёл дать телеграмму, что приеду в Барыш на Пасху. Почтовое отделение было на той же улице Калинина, где-то номер 30. Я ещё не закончил писать на бланке, как ко мне подошли четверо. Показали удостоверения:
— Вы арестованы! За нами!
Вывели меня на улицу. Ведут. Двое сзади, двое спереди. В штатском, в плащах. Руки в карманах. В руках, очевидно, наганы.
Завели меня аж на улицу Горького, в НКВД. На втором этаже передали меня следователю. Сразу допрос. С оскорблениями, бранью, с гадкими москальскими матами. «Фамилия! Имя! Отчество!..» Выпытывали про дедов, бабок. «Связь с бандой: кто, когда завербовал...»
Я не скрывал, что покупал лекарство, но говорил, что покупал для больницы, знаю об этом по печатям на рецептах. Это были веские доказательства. Не знал я, что им уже всё известно...
Потом я узнал, что где-то через неделю, на саму Пасху, арестовали моего отца и того человека.
Страшно вспомнить те допросы. Били. Кулаками — в спину, в голову, по животу. По шее — «дубинкой». Ставили «к стенке»: лицом к стене и руки вверх. Стоял так часами. Руки опадали — били. Ничего в них человеческого не было. Это как если бы человек попал в руки дьявола. У них не было ни малейшего милосердия, ни малейшего. Вначале с неделю я сидел в «одиночке». Потом бросили меня в подземелье, в общую камеру.
Людей очень много. Вповалку на бетонном полу. Не у каждого было что подстелить. Окошко сантиметров на двадцать, и то с корзиной-«намордником», лишь сверху блестела полоска свободного неба. В баню не водили, белья не давали. Кормили впроголодь — солёная и ржавая тюлька, кусочек мокрого хлеба, похлёбка из полугнилого картофеля и свёклы... Ещё и нас ели клопы. Но очень скоро им уже нечего было на нас есть. В камере не было покоя ни днём, ни ночью. Брали на допросы и по ночам. Возвращались со свежими побоями, стонали.
Один из моих допросов был на Пасху.
Завели меня к следователю. Поставили лицом к стене. Следователь что-то писал, а мои мысли были на воле. Вспоминались Пасхальные праздники в родной Бориславке. Вдруг слышу:
— Христос Воскрес!
— Воистину Воскрес! — ответил я торжественно.
Удар дубинкой по шее, чуть ниже головы (они знали, где больнее) вернул меня к действительности. Я потерял сознание. Потом еле дошёл до камеры.
Эти нелюди издевались над самым святым.
Но и в этих нечеловеческих условиях мы старались быть людьми. Не забывали о Боге. Утром и вечером — общая молитва. Молились и по отдельности. Вполголоса пели — потому что что за украинец без песни. Нам, разумеется, не давали ни книг, ни газет. Так мы рассказывали друг другу, кто что прочитал. Рассказывали из Библии, из Священного Писания, наши исторические повести. Здесь, в камере, были мои первые попытки катехизации, проповедования.
Где-то за месяц до суда меня перевели на этаж, в камеру поменьше. Среди нас был наш славный партизан Сорока (недавно под Дрогобычем его перезахоранивали). Это был коренастый мужчина лет тридцати, хорошо сложенный физически, а ещё лучше — идейно. Сознательный, умный, интеллигентный человек. Чувствовалось, что он занимает высокое боевое положение.
Сорока готовил в камере побег. Мы стояли «на атасе», а он металлическим предметом выдалбливал решётку. Собирались мы бежать в дождливую и грозовую ночь. Уже немного осталось выдалбливать, две нижние перекладины уже были освобождены, как нас кто-то выдал. Нас — по карцерам. Там держали только в белье, днём не на что было даже сесть, раз в три дня — стакан воды и сто граммов хлеба.
В карцере меня держали неделю. Потом перевели в другую камеру, но Сороки уже там не было.
Раз на следствии сделали мне «очную ставку». Заводят меня к следователю, а там Стефа Кривулец, моя родственница. И их вывезли из Бориславки, но во Львовскую область, в Рудковский район, село Подгайцы. Я там был перед арестом, навещал родню.
Я очень удивился, когда увидел Стефу. Сразу к ней:
— Стефа, ты что здесь делаешь? Ты нигде не была, ни с кем не связана. Будь осторожна, чтобы тебя не запутали. Ты нигде не была! Ты ничего не знаешь!
Следователи не ожидали, что я так буду себя вести. Когда опомнились, начали бить. Тогда меня избили едва ли не больше всего.
Уже в лагерях я узнал, что мои предостережения помогли Стефе выбраться на волю. Её ещё подержали неделю и отпустили.
Пришло время «суда». Он был в той же тюрьме. Завели меня в судебный зал. Здесь я встретился с отцом. Был здесь и тот человек, что приезжал с отцом во Львов. Мне на следствии не делали с ними очных ставок, ничего о них не упоминали, но по протоколам я догадывался, что и отец — за решёткой.
Нас посадили за ограждение. Стража не дала перемолвиться и словом.
Судил нас военный трибунал. Судилище было очень коротким. Нам троим дали по 10 лет лагерей и 5 поражения в правах (на лагерном жаргоне — «по рогам»). Статья 54-1-а, 11 — «измена родине». Партизанская. По этой статье коммуна расправлялась со всеми воинами Украинской Повстанческой Армии.
После суда перевезли нас в тюрьму на Лонцкого. Везли на открытой машине. Был июнь. Лето в разгаре. Над головой яснело небо. Тяжело было вновь возвращаться в тюремный ад.
Уже до суда я знал, что на волю не выйду, на срок надеялся разве что больший. Поэтому чувствовал после суда облегчение на душе. Я никого не «засыпал», никто от меня не пострадал, хотя я на каждом допросе был избит или пытан иным способом. А тех побоев и издевательств можно было не выдержать. В этой тюрьме людям ломали между дверями пальцы, девушек подвешивали за косы. Отец Яворский под пытками «сознался», что застрелил генерала, хотя при войске никогда не был, оружия никакого в руках не держал и не мог зарезать даже курицы.
Тот, кто пережил те физические, моральные и духовные пытки и выжил — тот ощутил на себе великое чудо Божьей благодати.
Тюрьма на Лонцкого отличалась разве что тем, что мы были на этаже и на деревянном полу. Решётки, параша, порядки — такие же. Камера переполнена, душно. Мучила жажда, воды достаточно не давали, а давали очень солёную тюльку.
...Приближался праздник Пресвятой Евхаристии. Мне было очень грустно. В тот день на воле я ходил на исповедь, к Святому Причастию. А здесь... Но Всевышний и Пречистая Богородица не оставили меня без своей опеки и в тюремных стенах.
То, что случилось в субботу, накануне Праздника Пресвятой Евхаристии, считаю чудом Господним.
А было так.
Во время моих печальных раздумий послышались в коридоре шаги, заскрежетал в двери ключ, дверь открылась и надзиратель толкнул в камеру человека. Лицо интеллигентное. Измученное, но выражение непокорное.
Двери закрылись.
— Слава Иисусу Христу! — поздоровался прибывший.
Мы поняли, что это священник. Он сразу подтвердил нашу догадку:
— Я отец Цегельский. У меня есть всё для того, чтобы отслужить Службу Божью. Кто желает исповедаться — прошу.
Исповедовалась вся камера. Нас было в ней около 50.
Я исповедовался в числе первых. Моему счастью не было предела.
Я прислуживал отцу при службе. Отец знал Службу Божью наизусть. Чтобы иметь с собой какую-нибудь книжечку или записную книжку — о таком не могло быть и речи.
Очень трогательно выглядело наше Причастие. Вино у отца было в пузырьке с надписью «Капли от сердца». Чашей служила небольшая кружка. Просфора была настоящая.
Рано, ещё до «подъёма», дверь камеры с грохотом отворилась. Дальше, как по тюремному «уставу»:
— Кто на «Ц»?
— Я, — отозвался отец Цегельский.
— Выходи с вещами!
Оказывается, его ошибочно поместили в нашу камеру.
Это они себе так думали, что они ошиблись. Но это была Божья Воля. Это была для меня великая Божья Благодать.
Я встречался с отцом Цегельским во Львове после моего второго заключения. Бог даровал ему долгий век.
Где-то в сентябре группу заключённых, а с ними — и меня, посадили в «воронки» и привезли в лагерь, который находился в 6 километрах от Николаева Львовской области, в 30–35 километрах от Львова.
Лагерь этот был в бывшем римо-католическом сиротском приюте. Там было свободнее. Можно было ходить по огороженному двору, заходить из барака в барак.
Здесь я встретился с отцом. Ни он, ни никто из заключённых не роптали на свою судьбу. Люди умели себя держать, потому что знали, за что пошли на муки. Мы лишь очень переживали за маму, за моих младших братьев и сестёр. Уже когда отец был в неволе, у меня родился самый младший брат. Мама год пряталась с ним по людям...
Мы с отцом были в разных бригадах. После работы я шёл к отцу в барак.
Там под Николаевом мы строили двухэтажные, на 4 квартиры, жилые дома. Отец сначала на стройке не был, а работал в огородной бригаде. Когда выкопали картошку, дали отца в бригаду плотников.
Я же не имел никакой строительной специальности, и потому был чернорабочим, грузчиком. Возил на тачках, носил на носилках цемент, кирпич, раствор, камни. Это была тяжёлая работа.
Как-то раз один паренёк лет семнадцати, бойко из-под Дрогобыча, сказал мне после ужина прийти к нему. Случилось так, что я не смог. На следующий день он сбежал из лагеря. Потом возле трубы, по которой за зону вытекала вода, нашли его куфайку. Он, очевидно, сбежал по той трубе. Я жалел, что не сбежал вместе с ним. Ещё и отца бы уговорил. Леса у нас большие...
В конце года нас перевезли на Львовскую пересылку. Там нас было, как сельдей в бочке. Хорошо ещё, что держали недолго. Загрузили нас в товарняк.
Везли нас в вагонах, построенных для перевозки скота. Но сделали с двух сторон нары, решётки на окна... Должен бы стоять где-то в Галичине такой вагон, как памятник. Как память о тех страшных временах, когда этими телятниками везли в сибири и казахские пустыни тысячи, миллионы невинного украинского народа. Ведь разве вина его в том, что любил и защищал свою землю, что хотел по-украински молиться Богу?
4.
И в поезде страдали от жажды. Давали солёную тюльку. Воду задерживали. Специально, чтобы люди мучились. Люди облизывали гвозди, которыми были прибиты вагонные доски, потому что на них выступал иней.
В дороге конвой не давал покоя. Сначала обстукивали вагон деревянными молотками: определяли, не надломил ли кто доску, готовя побег. Потом сгоняли всех в одну сторону вагона и заставляли перебегать в другую, считая. Считали теми же молотками: били каждого, куда попало, ещё и подгоняли: «Скорей, скорей». Смеялись, матерились. Такие вот были развлечения...
Раз меня ночью разбудили. Смотрим по очереди в окошко — город освещён. Мы поняли, что это Киев.
Поезд загрохотал по мосту. Что в вагоне началось! «Днепр! Киев! Днепр!» — кричали мы и радовались, как дети, забывая, что не едем в нашу столицу желанными гостями, а что повезут нас через неё дальше, в далёкую и холодную чужбину. Возникла песня: «Упала Москва, а город Киев уже столица!»
Когда за окном не стало садов возле белоснежных хат, а вместо опрятных домиков появились «избы» из почерневшего сруба, мы поняли, что это уже чужбина...
В дороге нас застало Рождество. Грустная это была коляда...
Измученные дорогой, частыми остановками, долгим стоянием в тупиках, прибыли мы, наконец, в Челябинск.
Затолкали нас в бараки — большие здания без перегородок внутри, по бокам — двухъярусные нары. В одном бараке жило 200–300 заключённых. По бокам барака словно дымились две печки, но не грели. Люди спали одетые, на голых досках, без матрасов.
Стены были красные от крови. Нас поедом ели клопы. Их ловили и давили о стены.
В лагере всех одели. Но в старое, засаленное, часто с кровью. Всё серое, валенки старые, перекошенные.
Здесь, за колючей проволокой, был настоящий интернационал. Были представители каждого народа того советского союза, а украинцев было столько, что казалось, будто их в СССР по меньшей мере две трети. После войны среди заключённых были немцы, венгры, итальянцы, японцы, китайцы. Никто из них отдельных бригад не делал, всё было вперемешку: «дружба народов».
Наш лагерь расстраивал Челябинск. Я был чернорабочим. Но работать здесь было намного тяжелее. Потому что строили пятиэтажные дома, а кранов для подъёма грузов не было. Вместо кранов были мы.
До сих пор страшно вспомнить те крутые трапы — доски, поперёк которых были набиты палки. Мы ходили по тем трапам на четвёртый, на пятый этаж. Руки не выдерживали. Раз я на глазах у бригадира выпустил носилки из рук. Бригадир подбежал и ударил меня кулаком в лицо. Он был тоже заключённый. Москаль.
Сильно меня ударил, я чуть не упал, но устоял. Я посмотрел на него, без злобы. С жалостью. Он отвернулся, пристыженный. Потом искал для меня работу полегче.
Это было тяжёлое послевоенное время. Вся Московия была голодной. Что уж говорить о заключённых? Некоторые получали из дома посылки. Мне не присылал никто.
В Челябинске была моя первая лагерная Пасха. В Пасхальное воскресенье мы собрались вместе, после общей молитвы съели отложенный из скудных лагерных пайков хлеб. Слёзы катились у нас из глаз, когда мы пели воскресные песни. Мысли наши были далеко отсюда, в родной стороне.
Я промучился на стройке почти до конца года. Перед Рождеством — этап. Завезли в Башкирию.
Сначала я был на лесоповале. Лагерь был в долине. На лесосеку в горы шли, а если далеко, то ехали на открытых машинах. На месте отгребали от ствола снег, подпиливали, сколько нужно, ручными пилами, потом упирались в дерево палками. Когда оно падало, поднималось облако снега. Потом обрубали ветки и сучья, ствол резали на брёвна. Тяжело было те брёвна сносить вниз, штабелировать.
Снега были в лесу глубокие. Люди проваливались в них. И я был в снеговой яме. Счастье, что другие видели, как я провалился. Сам бы я из неё не выбрался.
Не каждое воскресенье давали нам отдыхать. Когда выпадали снега, нас гнали расчищать колею и дороги. Казалось бы, что снег лёгкий, пушистый, но эта работа также очень утомляла.
Я думал, что тяжелее работы, чем на лесоповале, нет. Но меня перевели в каменоломню. Там были каменные горы, на их месте должны были потом строить какие-то военные объекты, и мы те горы стёсывали. Инструмент простой: лом, кирка, зубило, молот.
Но в Башкирии мне было намного легче, чем в Челябинске. Для души. Потому что со мной в одной бригаде был священник. Это был преподаватель Луцкой римо-католической семинарии отец Иосиф Пуковинский. Это был благородный, высокообразованный сановник. Отец был совершенно не приспособлен к лагерным условиям. Ему очень досаждал мороз. Отец очень мучился, но не болел.
Лагерные условия не сравнить с семинарскими, но в моём лице отец имел способного ученика. Он радовался, что я хочу быть священником, и охотно мне помогал. Отец хорошо говорил по-украински. Чтобы не забыть язык, я говорил с ним и по-польски.
Мы использовали каждый миг. Отец учил меня, и когда мы отдыхали несколько минут в карьере, опершись на лом или лопату, и вечерами в бараке. Больше всего — в воскресенье. Каждое воскресенье отец служил на своей тумбочке Службу Божью. Служил на латыни. Исповедовал, причащал, но под одним видом. Просфорой служил лагерный хлеб, а вина не было.
Я очень жалел в Башкирии, что не имел возможности рисовать. Дал мне Господь частицу этого таланта. Хоть какой тяжёлой была работа, но я любовался прекрасными пейзажами. Так, будто знал, что скоро их не увижу.
Так и случилось. Весной 1949-го товарняк повёз нас в Казахстан, в Джезказган, в песчаное море. Если где-то был клочок земли, то его покрывали роскошные красные тюльпаны. Мы любовались ими, когда ехали. Но через несколько недель всё выгорело на солнце.
Страшная вещь — песчаные бури. Но меня спрятали от них очень далеко, а точнее — глубоко. В шахту. Добывать медную руду. В шахте Покровской, номер 39.
Сначала бурили и взрывали руду, потом прокладывали рельсы, и по тем рельсам мы, проходчики, толкали в забой вагонетки. Там насыпали скребком на совок руду, с совка выбрасывали в вагонетку, и когда она наполнялась, толкали её назад. За смену нужно было наполнить 30 таких вагонеток.
В Джезказгане мне было у кого учиться. Здесь были из Закарпатья о. Долишевич и о. Пушкаш. Ещё был профессор Богословия из Белоруссии, римо-католик. Фамилии, к сожалению, не помню. Отец Долишевич погиб позже в Джезказганском восстании. Его раздавил танк... Его бросили за решётку потому, что не подписал православие. Он смело встал на свой крестный путь, оставил дома семью. Теперь священником является его сын.
Так как в нашем ярусе рудоносный слой был толщиной в четыре метра, и столько же метров, а то и больше, было до потолка в штреках-проходах. Потолки, как в угольных шахтах, здесь не крепили, лишь в угрожающих местах потолок подпирали столбами. Но этого было мало, и очень часто с потолка падали камни. Иногда столько, что перекрывали проход.
Один такой обвал застал меня с ребятами в шахте. Камень, отколовшийся от потолка, оторвал моему товарищу ногу. Другой камень (мы потом взвешивали — он весил 20 килограммов) упал мне на голову, отбился от каски и ударил в плечо, но не очень. Удар в голову меня оглушил, но я скоро отошёл.
Нас с раненым подняли наверх. Хотели поддержать и меня, когда я шёл, но я отказался. Начальник шахты, невысокий смуглый казах, на диво человечный, показал на меня своему сотруднику:
— А я знал, что с ним ничего не случится. Он верующий! Когда он спускается вниз, всё время крестится!
И так было. Заходя в лифт, я, не скрываясь, трижды крестился. Никто не смеялся, воспринимали это серьёзно, но не подражали.
Когда был тот обвал, в наш лагерь приехала комиссия из министерства здравоохранения. Нас удивлял их высокий культурный уровень, безупречное владение русским языком. Они вызывали заключённых. Спрашивали не только о здоровье. Выпытывали о лагерной жизни, об отношениях между заключёнными и начальством. Выпытывали до мелочей. Задавали и мне много вопросов, когда вызвали. Меня, обследовав, перевели в другую категорию, для работы на поверхности.
Комиссия поработала и уехала. Очень скоро приехала ещё одна комиссия из министерства здравоохранения. Уже настоящая. А предыдущая была организована... английской разведкой! Шпионаж!
Начальство о такой передряге заключённым не говорило. А, поскольку в моих бумагах было записано, что я от шахты освобождаюсь, я под землю не спустился.
Я на «разводы» утром не ходил, а прятался по зонам. Они были отделены друг от друга не огневыми полосами, а высокими стенами, в которых были калитки. У калиток дежурили заключённые, и они меня пропускали. Моя игра в прятки закончилась карцером. Меня посадили на неделю. Режим как и в тюремном карцере: раз в три дня — сто граммов хлеба и стакан воды.
После карцера меня перевели с третьего лагпункта, шахтного, на первый. Боялись, что, когда я снова начну бунтовать и не идти в шахту, за мной последуют другие заключённые. Всё-таки и в бумагах было записано: работа на поверхности. А для них бумаги были важнее, чем человек.
Я снова пошёл дробить скалу. Работа намного тяжелее, чем в шахте, но безопаснее. Да и небо над головой.
И снова — этому переводу, как и тому, что я не погиб и не был ранен в том обвале, я обязан Всевышнему. Он готовил для меня в этом лагере великое событие. На первом лагпункте также были священники. Наши греко-католики, польские латинники. Здесь я подружился со священником из Молдавии. Василианин, греко-католик. Кто-то у него из родственников был итальянского происхождения, кто-то румынского.
В декабре того, 1949-го, года перевели к нам заключённого-епископа, которого отец знал. У Владыки отец был из Московии, мать — итальянка. Когда Российская империя распалась, он вместе с родными эмигрировал. Вступил в иезуитский орден. Выучился, преподавал философию в Руссикуме, в Риме. Не знаю, каким образом он оказался во Львове, кто его рукополагал в епископы. Очевидно, тайно — Слуга Божий Митрополит Андрей Шептицкий, потому что епископ его часто вспоминал. Митрополит посылал его для миссионерской работы в Московию. Епископ был осуждён как ватиканский шпион.
Это был подвижный коренастый мужчина, фигурой похожий на Патриарха Иосифа Слипого. С рыжеватой бородой. Ему было тогда лет 50. Представился мне как Виктор Новиков. Надеялся, что выйдем из лагеря, и что будут лучшие времена, и что мы встретимся в Риме. Дал мне свой адрес в Вечном Городе: виа Спиритус Санктус, 5 (ул. Святого Духа, 5).
По Божьей Милости, времена изменились, и я искал в Риме Владыку. По указанному адресу его не было, в Руссикуме подтвердили, что действительно, там преподавал философию Кир Виктор Новиков. Сказали, что у него было ещё две фамилии: Маковский и Холява. Очевидно, Новиков было настоящей. Но в Риме его не было. О его дальнейшей судьбе никто не знал.
...После нескольких длительных бесед, которые имели характер экзамена и составили для Владыки соответствующее обо мне впечатление, он сказал, что даст мне диаконское рукоположение.
Я начал к рукоположению готовиться. Часто исповедовался, принимал Святые Тайны. Ретрит мне давал сам епископ.
В лагерных условиях я не мог и мечтать о соответствующей этому торжественному акту одежде. Но хотелось хоть как-то отличиться и внешне. Была у меня длинная белая рубаха. Она была вместо далматики. Один мой товарищ, который работал в прачечной и был посвящён в тайну, разрезал по длине полотенце и вшил мне из него орарь.
Торжественный и памятный день для меня настал. Это было 1 января 1950 года.
Рукоположение было во время завтрака. Епископ знал наизусть основные молитвы, самое главное — форму рукоположения «Божественная благодать».
После рукоположения я был на седьмом небе. Я забыл, что я в неволе. Для меня была великая радость, что даже такой тяжёлой дорогой, но Господь ведёт меня к священству, что Он слышит мои ревностные молитвы.
Свидетелем моего рукоположения из священников был только один тот отец из Молдавии. Владыка сам рассказал нашим священникам о моём диаконском рукоположении. Они с радостью приняли это сообщение.
Получив первую степень священства, я мог работать в лагере в пределах своей диаконской власти. Она давала мне право проповедовать, готовить к исповеди, служить молебны: вечерни, утрени, акафисты.
Владыка сказал, что иерейские рукоположения даст мне на Пасху. И он, и наши священники готовили меня к ним. Мне рассказывали и по памяти. Некоторым удавалось каким-то образом достать духовную литературу. Я жадно её перечитывал.
Но в Великий пост, среди ночи, Владыку от нас забрали. Не могу припомнить — до или после Пасхальных праздников отправили и меня этапом в Спасск.
5.
В Спасске лагеря были в Долине Смерти. Нас долго везли по песчаной пустыне, на открытых машинах. Ветер нёс песок. Он забивал рот, глаза.
В Долине Смерти было более 20 000 заключённых. Там было много священников. Встретил я там о. Ивана Готру — василианина, отца Мисяка — игумена монастыря студитов. Отбывали наказание за веру, как они себя называли, и «истинные православные» из Московии. Были и священники-латинники, среди них о. Туркус из Латвии.
Рядом с нашим концлагерем был концлагерь женский. Там были сёстры-монахини. Между нами была не огневая линия, а стена. Через калитку можно было общаться. Передавали мы сёстрам записки, в которых сообщали, в какое время у нас будет служиться Служба Божья, чтобы они могли молитвенно с нами соединяться. В условленное время они выходили в своей зоне на холмик, так что из нашей зоны их можно было видеть. Они выражали своё сожаление, бились в грудь. Отец Готра давал им разрешительную молитву, благословлял.
В Спасске были старые, выработанные, заброшенные карьеры. Мы сходились туда на молитву. Здесь мы действительно были похожи на первых христиан, которые молились в подземных римских катакомбах. Как диакон, я служил там вечерни, утрени, акафисты. Много людей сходилось. Надзиратели узнали, гоняли нас оттуда, а мы потом собирались там снова.
Жизнь была тяжёлой, климат невыносимым. Люди, истощённые непосильным трудом, очень умирали. Две бригады заключённых в две смены только то и делали, что рыли могилы. Долина Смерти оправдывала своё название.
Казалось, что этим лишениям и этому горю не будет конца-края, что в этих песках и в тех тайгах бескрайних, в тех голых тундрах вымрет наш народ.
Мы видели те страшные смерти, а в сердце теплилась надежда, что Бог поможет нам выйти из этого ада на земле.
Однажды вечером, после молитвы, я задумался над несчастной судьбой нашего народа. Я принял это близко к сердцу. Думаю: что будет с людьми, которые мучаются здесь? Что станет с концлагерями? Будет ли этому когда-нибудь конец?
С такими мыслями я уснул.
И приснилось мне, что я — на большой площади. Сижу на земле, вожу по ней палочкой и думаю: Боже мой, что станет с этим народом?
Вдруг передо мной появляется человек величественного вида. Седые, серебряные, и борода, и волосы на голове. Одежда такая небесная. Словно дух. Чувствовалась его сверхъестественная сила. Говорит мне:
— Дитя, о чём ты думаешь?
Я боялся слово промолвить, перепуганный. Тот величавый старец тогда говорит:
— Я знаю, о чём ты думаешь. Ты думаешь, что будет с моим народом. Каков будет этому конец, какова будет его судьба. Встань.
Берёт у меня палочку, а меня за руку выводит на середину площади, спрашивает:
— Что видишь?
Смотрю: перед нами — большой муравейник. Говорю Ему.
— Смотри, что сейчас будет.
Старец моей палочкой сюда, туда — разровнял тот муравейник. Муравьи — кто куда со своими белыми подушечками-личинками. Старец ко мне:
— А теперь скажи, что я сделал.
— Вы сровняли с землёй муравейник.
— А муравьи что делают?
— Разбегаются. Во все стороны.
— Да. Теперь встань и скажи моему народу, что скоро придёт то время, когда я все эти концлагеря также сровняю с землёй. А Народ мой вернётся домой.
На этом я проснулся. Сидя! Меня объял страх. Я же знал, что я ложился спать. Проснулся — сижу! Бужу своего соседа:
— Иван! Иван!
— Что случилось? — испугался он. Это было где-то в полночь.
Он был первым, кому я рассказал свой вещий сон. Пан Иван Сметанюк живёт сейчас в Гошеве.
Я рассказал этот сон своему исповеднику отцу Готре, отцу Мисяку, другим священникам. Они все также восприняли его как вещий.
Тот сон был нам большой духовной поддержкой.
Не могу сказать, кто явился мне в вещем сне. Кто-то из Пророков, посланников Божьих, или Сам Господь Бог.
После моего сна мы ещё ревностнее взялись за труд на Господней ниве. У меня был Молитвослов, я его очень берёг. Кроме того, у нас было много служб, псалмов, переписанных от руки. Не всегда можно было взять с собой книжечку или бумаги. Поэтому я много учил наизусть. Я знал наизусть молебен Сердцу Христову, Акафист Божьей Матери.
Где-то в 1952 году снится мне ещё один вещий сон. Он также сбылся, но позже. Снится мне тогда, что я в Риме. И что я епископ! Это было очень странно, потому что ни о каком епископстве я тогда не думал, я же ещё не был священником.
Снится мне, что я, как епископ, готовлюсь служить Службу Божью. И это в Базилике Святого Петра! На гробе Святого Иосафата Кунцевича! Несу чашу, несу всё, чтобы отслужить службу Божью. Мало того, иду на то место, где через много лет действительно торжественно положили его святые мощи. Захожу в храм, поворачиваю на правую сторону, захожу в третий или четвёртый неф...
Известно, что мощи Святого Иосафата до войны находились в Вене, в украинском греко-католическом храме Святой Варвары. Во время войны они, вероятно, были вывезены в Рим. Но в базилику Святого Петра, главный в мире католический собор, они были перенесены на второй сессии Второго Ватиканского Собора, когда в Риме уже был, вырванный Божьей благодатью из хрущёвских концлагерей, светлой памяти Блаженнейший Патриарх Кардинал Иосиф Слипый.
В 1990 году я, как епископ, находясь в Риме, в сослужении других епископов отслужил на гробе Святого Иосафата Службу Божью. Сон мой сбылся через 38 лет!
О том сне я рассказал только отцу Готре. Потому что не все наши священники, к сожалению, смело выполняли свой долг, не все одинаково воспринимали моё рвение, и если бы я ещё сказал им, что видел себя во сне епископом...
Расскажу ещё и о третьем сне, который приснился мне в том же 1952 году, перед моим отъездом в Алтайский край.
...Снится мне, что я на большом пространстве. Не засаженном, не засеянном. Как пустыня. А в пустыне той — очень много крестов. Разных. Большие, малые. Железные, деревянные. Новые, старые. Ровные, покосившиеся. Я понял, что это кресты людские. Каждого человека. Меня заинтересовало: есть ли среди тех крестов и мой крест?
Я начал искать. Искал, долго искал. Даже устал. Моего креста не было. Подхожу к одному, второму, десятому. Чувствую: не мой это крест, не мой!
И вдруг вижу — стоит отдельно, далеко от меня и от других высокий крест.
Дошёл я до него. Крест высокий, дубовый. У подножия — цветы. Нежные белые цветы. Под крестом и по кресту вьются. И перекладина в цветах.
Стою я перед тем крестом, как вкопанный. Думаю, удивляюсь. И вдруг говорит мне сердце: мой тот крест, мой!
Падаю перед ним на колени, обнимаю, целую, умываю слезами... Так в слезах я и проснулся.
Сказал мне этот сон, что Господь готовит мне особый крест. Хоть и увенчанный белыми пречистыми цветами, но больший и тяжелее других.
Дальнейший мой невольничий путь лежал в Алтайский край, в Ольжерас. Здесь строили какой-то огромный завод, кажется, нефтеперегонный. Здесь работало более 5 000 заключённых — «ударная комсомольская стройка»!..
В Ольжерасе мне повезло. На объекте не было медработника. Просматривая, как у новоприбывшего, мои бумаги, вычитали, что я учился во Львове в фельдшерском училище. Начальником санчасти был капитан Шкуро. Украинского происхождения. Он меня вызвал. Я объяснил ему, что моё медицинское образование не завершено. Поговорив со мной, он решил, что моих знаний достаточно, и вручил мне ящичек с лекарствами и всем необходимым для оказания первой помощи.
Бог помог мне и на этом поприще стать нужным людям.
Почти сразу, как я приступил к своим фельдшерским обязанностям, произошёл такой случай.
Именно тогда, когда у меня в санчасти были о. Кузик, бригадир Петрив с Дрогобыччины и автокефальный священник с Ровенщины, пришёл больной заключённый Власенко, с Большой Украины. Бригадир на него накинулся:
— Ты постоянно морочишь голову врачам, ходишь по амбулаториям. Дай людям покой! Марш на работу!
Я за Власенко заступился. Говорю бригадиру:
— Пан Петрив, ко мне пришёл посетитель. Он имеет на это право. Пришёл, как больной человек. Я обязан его обследовать.
Больной жаловался на боль выше поясницы. Я попросил его снять рубашку, выслушал стетоскопом его сердце, лёгкие. Не заметил ничего.
Священники и бригадир следили за моими действиями, подсмеивались. Я делал своё. Сказал лечь больному на кушетку, ощупывал мышцы. Когда я нажал на седалищный нерв, больной вскрикнул, и очень громко. Я понял, что у него острое воспаление этого нерва.
Я попросил Петрива вызвать с вахты дежурного. Нашли машину и отправили больного в центральную больницу. Там Власенко полгода лечился.
Ещё был трагический случай: человека ударило током. Я взялся делать искусственное дыхание. Вызвали врача из вольной больницы. Приехал, посмотрел:
— Коллега, не трудись. Он мёртв!
Уехал себе. Я продолжал дальше. Записано же в инструкции: делать искусственное дыхание четыре часа! Через три с половиной часа человек вернулся к жизни.
Раз на стройке поднимали лебёдкой горячую смолу, бадья открылась и облило того, кто поднимал. Я оказал первую помощь, отправил в больницу. Ни воспалений, ни абсцессов. Значит, сделано стерильно.
Иногда приходилось браться и за работу хирурга. Содрало человеку кожу на спине, на груди. Висит полосами. Пока тот хирург приедет... Взял я скобы, скрепил. Уже меньше мука.
Случалось идти и на конфликт с начальством. Оно отказывалось подписывать составленные мной акты о травмах. Они давали право истощённым и травмированным людям на короткую передышку. Как-то раз, когда начальник очень упирался с подписанием, я пошёл с проверкой по рабочим местам. Право на неё давала мне инструкция. Придирчиво проверяя соблюдение правил техники безопасности, я выявил ряд нарушений и остановил весь объект. Начальнику не к чему было придраться, чтобы меня наказать. Заключённым выдали рукавицы, укрепили траншеи, поставили заземление — словом, ликвидировали почти все недостатки. После этого случая начальник выписывал акты даже на царапины.
Были у меня благодарности из больницы за моё фельдшерство. Но больше всего радовало меня то, что могу послужить людям.
В этом лагере я исполнял и свои диаконские обязанности.
Наших священников здесь было много. Кроме о. Кузича, были здесь о. Коржинский (сейчас живёт в Коломые), о. Николай Желтвай из Закарпатья, о. Баслядинский и ещё один священник, фамилии его не помню. Но, к сожалению, духовная жизнь в зоне была очень вялой. Этим пользовались иеговисты и другие сектанты, которые смущали людей. Надо было браться за работу.
6.
Перед Великим Постом прошу о. Желтвая созвать в ближайшее воскресенье наших священников. Ведь надо перед Пасхой исповедовать заключённых, надо постоянно служить по баракам службы Божьи. Наша пастырская работа должна быть организована. Я сказал отцу, что буду готовить заключённых к святой исповеди, на Службах Божьих — говорить проповеди.
О. Желтвай согласился со мной и поручил мне созвать священников.
Священники сошлись. Когда о. Желтвай рассказал им о моём предложении, о. Баслядинский возмутился:
— Что? Этот сопляк будет нами руководить?
Я не ожидал такого услышать. Мне было обидно, но я не проронил ни слова. Сказал о. Желтвай:
— Всечестные отцы, сопляков среди нас нет. Мы не можем противиться Божьему устроению, когда Дух Святой говорит нам и выбрал отца диакона, чтобы напомнить нам о том, что мы забываем, что и в тюрьме мы не освобождены от пастырского труда. Здесь наши верующие, и мы, как священники,
обязаны работать над их душами. И Бог призвал нас в тюрьмы лишь для того, чтобы мы были среди своих людей, помогали им, защищали их, давали им душевный покой. Итак, это важное дело — не дело отца диакона. Это дело Божье. И мы должны подчиниться Божьей Воле!
После нашего собрания заключённые получили большую духовную опеку.
В бараках, между нарами — службы. Вместо Святого Престола — убогие тумбочки. Исповеди, Причастие, катехизация...
Меня же снова переводят на другой лагпункт. Мы сопротивлялись жёсткому лагерному режиму. Я участвовал в шестидневной голодовке. Начались в лагерях волнения. Уже был приказ нашего комитета на забастовку.
Мы вышли вечером во двор. Выстрелы. Со мной парень лет 18-ти. Рвётся бежать. Говорю ему:
— Михаил, Михаил, нам надо в другую сторону, потому что оттуда стреляют!
Не послушал меня, вырвался. Побежал под пули. Его убили на моих глазах.
Пули уже свистят возле меня. Я сел под стену. Молюсь...
Утром я пришёл туда, где молился. Стена в том месте, где я сидел, была изрешечена четырьмя пулями. Две были очень близко от головы.
Великое чудо Господне, великая сила молитвы!
После смерти Сталина (о ней нам сообщил «брехунец» — так мы в лагере называли радио), меня снова перевели на третий лагпункт. Снова организую священников. Здесь снова были о. Коржинский, о. Баслядинский. Мы застали здесь о. Владимира Сеньковского.
На этом лагпункте мы взялись за катехизацию. Организовали катехизические кружки, взяли себе в помощь ребят, которые с дому знали Закон Божий. Мы подготовили их в катехизаторы.
Наши священники согласились служить Службы Божьи, но без проповедей. Проповеди говорил я. Присматриваясь ко мне, о. Владимир Сеньковский сказал мне, может и с иронией:
— Отец диакон, вы так нами здесь руководите, что нам кажется, что вы наш епископ!
— Отец Владимир, прошу принять во внимание, что я здесь, в лагере, являюсь вашим епископом!
Я ответил сразу, не задумываясь, так, как будто кто-то заранее вложил эти слова в мои уста. Сказал я их и улыбнулся, чтобы не было напряжения. И отец улыбнулся. На том мы тогда и закончили.
В апреле 1990 года, когда мы приветствовали во Львове, возле ратуши, с первым приездом на Украину нашего Блаженнейшего Патриарха Кир Мирослава Ивана Любачивского, я встретился с о. Сеньковским. Мы встречались с ним после первого заключения, когда я ещё был священником. Здесь же, возле львовской ратуши, он напомнил мне о нашем лагерном разговоре.
— А я ведь в лагере принял ваши слова за шутку. А видите, как повернулось: Вы действительно епископ!
Дивны пути Господни! Тяжёлой дорогой вёл Ты меня, Боже, к священству, к епископству. Благодарю Тебя, что не дал мне сбиться с пути, ослабнуть духом, разувериться.
В Ольжерасе, кроме того, что я говорил проповеди, я ещё организовывал молебны к Матери Божьей, к Сердцу Христову. Служил их сам, а также утрени, вечерни. Всё это было тайно.
Но «стукачей» (доносчиков) у начальства было среди заключённых предостаточно. Они доносили, когда должна быть служба или молебен, и приходила проверка. Когда она приближалась, прибегал от входных дверей тот, которого мы оставляли следить, или кричал со своего поста: «Атас!». Мы тогда замолкали, сидели себе спокойно на нарах, всё выглядело так, что проверке не к чему было придраться.
Всё же начальство за «религиозную пропаганду» заперло меня в карцер. Я шёл в него с радостью, с благодарностью Всевышнему, что награждает меня ещё и этим страданием.
После карцера подходит ко мне Гавриил, студент университета, не Львовского ли. Сообщает о заключённом, учителе с Большой Украины. Фамилия его, кажется, была Мельник.
Мельник попал за решётку как националист. Но был он ярым атеистом. Собирал вокруг себя сторонников. Они говорили, что будут строить Украину без Бога.
А было это перед 14 августа. По преданиям, в этот день Святой Владимир Великий крестил Украину. Я попросил Гавриила, чтобы по два представителя-украинца из каждого барака сошлись 14 августа в определённый барак.
Людей пришло очень много. Преимущественно молодые парни. Я обратился к ним с проповедью о крещении Украины. Разъяснял им, какое большое значение имело для нашего Государства принятие христианства, что мы не для того сбросили иго язычества, чтобы накладывать на себя новое иго — атеизм. Это новое иго ещё страшнее, потому что атеизм отрицает существование Божества.
После моей проповеди не только распался тот атеистический кружок, но и прибавилось работы нашим мирянам-катехизаторам. К ним приходило много парней с Большой Украины, которые родились при той безбожной дьявольской власти, не видев ни церкви, ни священника, а многие даже дома не слышав и слова о Боге. И они приходили к нашим катехизаторам, просили написать им на листочке молитвы, части катехизиса.
До сих пор они, уже седовласые, вспоминая лагеря, греют свои сердца воспоминанием о том, что научились там молиться, а ныне учат своих внуков и правнуков молитвам, которые выучили в лагере с клочка бумаги, исписанного нашим катехизатором.
Разрослось, пышным цветом расцвела в наших лагерях христианская жизнь. Глядя на нас, украинцев, и другие нации в лагерях повернулись к Богу. Уже не здоровались «Добрый день», «Гутен Таг», «Здрасьте», «Лаба диена» («Добрый день» по-литовски), а разносилось над лагерем на разных языках «Слава Иисусу Христу!»
Когда мы в бараках служили или я говорил проповеди, то мы не просили чужаков выходить. Меня слушали все нации, христиане разных конфессий, даже мусульмане.
Мусульмане, зная по-русски, понимали мои проповеди на украинском языке. В них не было ничего, что противоречит их Корану. Когда я говорил, что мы вырвемся из этой неволи и поедем на Украину — они тогда думали о своей родной земле.
Мусульман в лагерях было немного, у них не было своего проповедника, и когда у них было что-то на душе, они обращались... ко мне.
Как-то раз один мусульманин, лет где-то 24-х, кажется, афганец, попросил объяснить ему необычный сон. А снилось ему, что неизвестные отрубили ему мечом голову. Дальше всё его сознание — в той голове. Понесли ту голову над колючей проволокой, в родной Афганистан. Любуется он с высоты пышной зеленью, цветами, а на те роскошные травы и цветы капает с головы его кровь. Спрашивает меня: что этот сон означает.
— Приятель, — говорю ему, — я не толкую снов, и мне трудно вам ответить. Но кажется мне, что ещё в этом году вы будете дома. А раз вам снились травы, цветы — то ещё этим летом.
Бог так сделал, что так и случилось. Пришла амнистия, его освободили. Его радости не было предела. Приходил, благодарил меня со слезами на глазах. Я говорил ему, что это заслуга не моя, а что это милость Божья. Он же ходил по своим:
— Мулла предсказал мне! Молодой мулла украинский!
Меня же тот случай ещё больше утвердил в мысли: Бог един.
Украинцы, доколе будем делить нашего Единого Бога?!
Припоминаю себе из того лагеря и неприятное. Приходит ко мне в слезах закарпатский священник Галайда:
— У меня блатные забрали посылку. А в ней был изюм на вино!
Из изюма мы готовили вино для Причастия. Расскажу сразу, как это делалось.
Изюм мыли холодной кипячёной водой, засыпали в банку, заливали водой так, чтобы она лишь покрывала изюм. Банку обвязывали марлей и прятали в не очень тёплое и тёмное место, пока изюм не вберёт в себя воду — столько, сколько было в винограде сока до сушки.
Когда воды в банках не оставалось совсем, а она вся переходила в изюм, его, а это уже был снова сок, через марлю выжимали, процеживали и сливали в бутылки. Бутылки закрывали пробкой и клали на неделю-две, чтобы ферментировало. Надо было лишь следить, чтобы пробка не выстрелила. Потому что она раз выстрелила, и так громко, что надзиратель, который как раз был на проверке, от страха сбежал: подумал, что стреляют. Но это уже было в мордовских лагерях, когда я отбывал второй срок...
Так вот, пришёл ко мне в Ольжерасе отец Галайда, что у него блатные забрали посылку. Блатные — это вид бытовых преступников. Но хуже всего было то, что это были не настоящие блатные, мы уже тогда их из лагерей выгнали (о борьбе в советских спецлагерях между бытовыми преступниками и нашими политзаключёнными написано немало), а это были наши ребята, которые под их влиянием в лагерях оступились.
Нахожу тех ребят:
— Как вы посмели? Забрать посылку у священника?! Ведь тот изюм — на литургическое вино! Вы что, выгнали блатных для того, чтобы занять их место?!
После этого разговора вызывают меня из медпункта однажды вечером (а я дежурил во вторую смену), на улицу тот «блатной» и его дружок. Вытащили ножи:
— Теперь мы с тобой покончим!
— Почему?
— Ты нас оскорбил.
— Чем?
— Сказал, что мы стали на место тех бандитов.
— Так выглядит, — говорю. — Вы всё-таки свои люди. Так зачем так делаете? Если у вас есть основания меня убивать — то дело ваше. Но знайте, что за это будете отвечать перед Господом Богом. Моя совесть спокойна. Я был обязан заступиться за священника, которого вы обидели.
Они постояли, подумали, спрятали ножи.
— Смотрите, не черните нас больше перед людьми.
— А я никому о вас не говорил.
Потом они извинились перед отцом Галайдой, всё ему вернули. И изюм.
Те ребята после этого случая стали моими приятелями и хорошими христианами.
Раз наши дозорные в бараке не уследили, и меня застали, когда я служил вечерню. Карцер. Держали меня в нём лишь три или четыре дня, потому что я был нужен как фельдшер.
Лагерная администрация очень боялась восстаний, волнений. Подозрительных, которые могли быть зачинщиками, долго в одном лагере не держали. Подозрительным в глазах начальства был и я. Меня на полгода отправили в БУР — барак усиленного режима, своеобразную лагерную тюрьму. Не страшно было мне, что барак тот — за колючей проволокой, что снова тяжёлый, непосильный труд, но хуже всего было то, что в БУРе было лишь около двухсот заключённых. Малая паства для пастырского труда... Из БУРа я вышел где-то в сентябре. Уже в «свой» лагерь не вернулся. Снова этап. Снова издевательства в тюрьмах-пересылках. Сухой паёк из ржавой тюльки. Жажда.
Три недели тяжёлой дороги — и Омские лагеря. Третье отделение. Это в конце лагеря.
Надеялись мы после смерти Сталина на лучшее. Но изменений не было. Дальше режим, дальше не люди — номера. «Г-995!» — называли меня на перекличке. Я должен был отзываться... После карантина в Омском лагере меня вызвал начальник санчасти полковник Малиновский:
— Вы будете работать у нас фельдшером в туберкулёзном отделении!
— Но я же в этом не разбираюсь!
— У вас в формуляре написано, что вы работали фельдшером...
— Но неотложной помощи. Ну там палец перевязать...
— Вы и в лекарствах разбираетесь. Вас и судили за то, что вы лекарства перевозили банде.
Это «банде» ещё больше усилило моё нежелание идти работать в больницу. Но работали там врач Савка (или Савко, даже родня у него была в Коломые) и наш знаменитый знаток лечебных трав Кархут. Они уговорили меня не сопротивляться. И здесь, по Божьей милости, пошло у меня хорошо. Я научился здесь умело делать внутривенные уколы.
Был ещё в больнице отдел психически больных. Того, кто отказывался есть, я кормил через трубку, через нос. Это была очень ответственная процедура. Надо было попасть трубкой в пищевод, иначе — смерть.
Были и другие трудности. Один азербайджанец, когда я делал ему укол, не садился, не ложился, а только стоял. Было трудно колоть напряжённые мышцы, но не было выхода...
Молодой, лет 17-ти, литовец не выходил на прогулку, только ковырял стену. Только её и ел. Съел так полстены. Я поддерживал парня своими разговорами, потом уговорил есть витамины, а дальше — нормальную еду. Мне удалось вывести его из отчаяния. Он выздоровел. Его, как несовершеннолетнего, вскоре отпустили. Он уехал почти здоровым.
Мне писали из Латвии его родные, благодарили, высылали посылки. Я делился с больными.
Господь Бог действительно мне помогал. Больные мне верили, принимали из моих рук лекарство. Я же просил начальство, и оно меньше выписывало для больных ядовитых химикатов, а больше — витаминов. Я составлял заказы на лекарства, а их по моему списку присылали.
7.
В 1954 году вспыхнул брюшной тиф. На борьбу с ним мобилизовали всех. И меня забрали от психически больных.
Мы прививали невольников и вольных, военных и детей. Болезнь отступила. После эпидемии меня оставили в поликлинике. Душевнобольные по мне тосковали, и я ещё около трёх месяцев к ним приходил, хотя у них уже был новый фельдшер. Он прислушивался к моим советам, делал так, как я, и мой уход стал для больных не таким ощутимым. И в поликлинике, по милости Всевышнего, сумел я помочь людям. Утром приходили ко мне ослабленные, чтобы получить освобождение от работы. Для этого надо было иметь повышенную температуру. Я находил способы, чтобы освободить больных и с нормальной температурой.
Раз квалифицированный специалист, бывший корабельный фельдшер, не учёл, что уротропин поступил к нам намного более концентрированный, чем обычно, назначил больному, как всегда, по 6 капель. А вышло — по 60. Больной лекарство принял и начал бушевать, лезть от боли по стенам.
Я уже был в бараке. Меня вызвали. Я глянул в рецепт, на этикетку. Понял, что передозировано. Дали больному для поддержки и сердечные капли, и укол. Через час прошло.
Уколы я делал лучше врачей. Они сами это признавали, присылали ко мне больных. Пришла как-то жена одного начальника, полная, вен на руках не видно. Но нашёл, уколол, как положено.
Парень никак не мог проглотить зонд, чтобы сдать на анализ желудочный сок. Я добился. У него обнаружилась повышенная кислотность. Его комиссовали, он поехал домой.
Ещё был у меня такой случай. Обратился ко мне токарь: попала в глаз стружка. Я заглянул. Не увидел. Закапал альбуцидом, сказал, если будет беспокоить, прийти на следующий день. На следующий день должна была быть среда, а по средам приходил с воли окулист. В среду токарь пришёл к окулисту. Окулист также ничего не обнаружил. Дал те же капли, что давал я. Больной — снова ко мне.
Я зажёг мощную лампочку, где-то пятисотку, и через лупу посмотрел на тот глаз. Увидел почти у самого зрачка крошечную стружку. Позвали мы врача. Он не увидел и при лучшем свете, и через лупу. Говорит мне:
— Если вы видите, то снимите!
Принёс мне свой инструмент — миниатюрные ножницы, скальпели, держатели. Принёс и ушёл. Я понимал ответственность, не хотел за это браться. Но больной упросил:
— Делайте, что хотите, потому что режет днём и ночью, я не выдерживаю.
Ждать долго было нельзя. Потому что стружку затянуло бы в глаз, её не было бы видно, и тогда — сложная операция. Да и была ли бы она успешной...
Взялись мы за тот глаз вместе с санитаром. Он держал лампу и лупу, а я орудовал пинцетом. Где-то через десять минут я держал зажатый в нём металлический осколочек...
Сразу после моего вмешательства тот глаз перестал беспокоить.
И в Омских лагерях не прекращал я пастырского труда. Были там о. Степан Баслядинский и о. Иосиф Каганец. Измученные неволей, они уже очень ждали освобождения и ничем не хотели нарушить лагерного режима, чтобы не отдалить волю. Приближалась Пасха, а я не смог их склонить к исполнению их обязанностей. Тех, кого я готовил к исповеди, исповедовал литовский священник, отец Александравичус. И я у него исповедовался.
Я нарисовал Плащаницу. В Страстную Пятницу установил её в бараке. Люди шли к ней и шли...
Я служил Воскресную Утреню. Я очень обрадовался, когда увидел на ней о. Баслядинского. Он красиво пел. На утрене начал со мной служить. Но не как священник, а как дьяк. После службы отец пожелал сказать проповедь.
Отец говорил то, что на таких торжественных службах говорится. Но так, как в своей церкви, ещё перед войной.
Но ведь надо было связать проповедь с нашей нынешней жизнью, духовно поддержать заключённых. Отец этого не сделал. Я не мог так оставить, и потому взялся отца дополнить. Именно дополнить, а не опровергнуть. Я тогда сразу перед людьми попросил у отца разрешения, и он разрешил. В начале своей проповеди я поблагодарил его, похвалил вот такими примерно словами:
— Женщины, которые шли ночью с мирром ко Гробу Христову, боялись, что их может обесславить грубая римская стража и что они не смогут отвалить тяжёлого камня, которым был привален вход в гроб. Но они победили ту боязнь, потому что имели великую любовь к Богу...
Участие отца в Воскресной Утрене и его проповедь — это был очень смелый поступок! Мы же не были дома, в покое и мире, среди празднично одетой паствы с приготовленными к освящению корзинками...
Я говорил на проповеди так искренне, как только мог. Я заверил наших товарищей по неволе, что Бог не зря дал им такие страшные испытания, что им воздастся сторицей, что скоро они будут на нашей родной Украине...
Не думал я, что своей проповедью наживу себе врага...
Попался я и в этом лагере. Поймал меня на службе сам начальник режима. Меня посадили в карцер на десять дней.
Но на этот раз не было в нём мне тяжело. Разве что на душе. Потому что сопереживал человеческому горю. Надеялся, что если сделаю то, о чём меня просят, то хоть немного утолю людскую боль.
У начальника режима умер перед тем 14-летний сынишка. Сам начальник пришёл ко мне в карцер. Узнал (знал ли раньше, или донесли доносчики о Плащанице?), что я рисую, и попросил нарисовать с фотографии портрет сына.
Я согласился. Мне принесли рамку, краски, холст и всё необходимое для того, чтобы его загрунтовать. Грунтовка долго сохла, я готовил её по своей технологии. Потом взялся рисовать. Я не спешил, хотелось сделать как можно лучше:
Начальник режима сам нарушал лагерный режим: приказал мне приносить в карцер еду три раза в день, а на ночь выпускал спать в барак.
То была обычная человеческая благодарность. Горе может сделать сердце из самого твёрдого камня.
Перед выходом из карцера я отдал начальнику его заказ. Он сказал, что портрет очень похож на его сына, и очень меня благодарил.
О. Баслядинский после моей пасхальной проповеди косо на меня смотрел. Он подумал, что так смело, как я, может говорить только сексот, чтобы провоцировать других. То, что меня отпускали на ночь из карцера, убедило отца в его мысли. Тогда в том лагере была наша подпольная националистическая организация, о. Баслядинский в неё входил. Под его влиянием наши вынесли мне смертный приговор...
Об этом мне сообщили два члена организации — Ивахив Петро из Бибрки, что на Львовщине, и один гуцул (фамилии, к сожалению, не помню) из села Уторопы Косовского района. Я рассказал им, что было в карцере и почему меня отпускали ночевать в барак.
Ивахив Петро тогда за меня заступился. Больше всего я благодарен ему за то, что не остался лежать в чужой земле. Я и дальше так же трудился на духовной ниве. Мои судьи убедились, что их приговор ошибочен, и не привели его в исполнение.
Я не питал ни малейшей обиды к о. Баслядинскому, а он меня избегал. Я же искал духовного с ним единения, как подобает душепастырям. Отец отказал мне в святой исповеди.
Нас снова перевели в другой лагпункт. Здесь я уже был не в медпункте, а на строительстве нефтеперегонного завода. Поставили меня тут художником. Я рисовал объявления, производственные плакаты, калькуляционные таблицы. Но на этом моя лагерная «карьера» не закончилась. Последняя моя работа была — возница. Мне дали коня с телегой, и я работал извозчиком. Возил строительные материалы.
В моём последнем лагере было, наверное, больше всего священников. Здесь я встретился с о. Иваном Чавьяком, которому Бог дал великий талант проповедника. Исключительно скромный, отец до конца тихо служил в церквушке гуцульского типа на окраине Ивано-Франковска. Тихо и умер в преклонном возрасте.
Был тут и о. Иван Сливка, и о. Степан Баслядинский. Но больше всего было греко-католических священников из Закарпатья: отцы Кркечени, братья Ромжи (однофамильцы епископа), Степан Бендес (я нарисовал карандашом его портрет), Павел Сабо. И были там закарпатские священники вместе со своим епископом, с Преосвященным Владыкой Александром Хирой!
Узнав о том, что в лагере есть епископ, я обрадовался, что осуществится моя мечта о священническом рукоположении. Но и епископ, и закарпатские священники пренебрегали нами, галичанами, больше общались с мадьярами. Будто не было у них на Закарпатье кровавой весны 1939 года, будто не резали наших мадьяры. Таковы уж мы, украинцы. То ходим в церковь, которая прокляла нашего национального героя Мазепу. А ещё эти наши мадьяроны в Закарпатье...
Хотя в том лагере было достаточно священников, но из-за такого нашего национального раздора мы не могли прийти и к духовному единству. Были службы, исповеди, Причастие. Но всё это шло как-то вяло, неорганизованно…
Настали в лагере перемены. С нас сняли номера, с окон бараков — решётки. Наезжали комиссии, освобождали. Одна из таких комиссий осенью 1956 года освободила и меня. После освобождения меня из Омских лагерей перевели в Омскую тюрьму. Так с
нами обращались, будто только что заперли. Снова все те же физические и моральные издевательства. В Омской тюрьме держали две недели. Дальше — этапом в Новосибирск. Держали и там с месяц. Где-то 10-го декабря завезли нас в Устарск, районный центр. Там нас ждали сани.
Те огромные сани тащил трактор. В них для каждого из нас был тулуп и пимы — большой тулуп и валенки. Это одолжили люди из того села, куда нас везли, потому что им сказали, что мы легко одеты и можем по дороге позамерзать.
Мы сели, зарылись в солому. Тронулись. Нам предстояло ехать так сто километров.
Дорога шла лесом, степью. Ночевали на «постоялом дворе». Две ночи. Дорога в ямах, трактор ехал медленно, а ревел, как танк.
На третий день где-то к обеду завезли нас в Новоалександровку. Здесь тот трактор развозил нас по селу. Пришла и моя очередь:
— Василик! Вылезай! Вот видишь — твоя квартира. Здесь будешь жить!
Я слез. Смотрю — а меня ведут в хату без крыши. Только один дымоход. Выглядит довольно высоким, потому что крыши нет.
Тот, что меня вызвал, пошёл вперёд.
— Нюра, принимай гостей! — стукнул ногой в дверь и убрался. Я остался под дверью. Слышу женский голос:
— Войдите!
Я открыл дверь. Вижу: сидят за столом немолодая женщина и девушка лет 17-ти, что-то шьют. В хате одна кровать. Часть хаты отделена ширмой. Я догадался, что там кухня.
Я вышел из лагеря лишь с деревянным чемоданом. Поставил его в хате на пол, говорю: — Здравствуйте.
— Здрасте.
Больше от них ни слова. Сидят себе, шьют. А я стою. Где-то через 5 минут:
— Садитесь!
— А где?
— Где хотите.
Я так посмотрел — на кровать не сяду. Они сидели у окна на лавке. Стульев в хате не было. Я тогда сел на свой чемоданчик. Начали знакомиться. Нюра расспросила, кто я, откуда. О своих:
— Это моя дочь Маша. Сын у меня ещё есть, Витя. Он пошёл к ребятишкам, в деревню. Что ему ещё делать — зима.
— А почему хата без крыши?
— Сгорела.
— А почему муж новую не поставил?
— Мужа нет. Сдох, слава богу.
— Как сдох? Ведь человек умирает...
— А он сдох. Он был пьяница. Замёрз на улице.
Потом спросила:
— Кушать хотите?
— Хочу.
— Маша, нажарь там картошки. И чаю.
Маша управилась быстренько. Картошка была наполовину с салом, вместо чая — кипячёная вода. Сахар «вприкуску».
Я наелся вкусно. Потом мы дальше говорили. Медленно, потому что Нюра была не очень разговорчива.
Нюра рассказала мне, что село их построили переселенцы ещё при царе, в основном — с Украины. Что живут в селе и немцы — колонисты из Одесской области, с Поволжья. Их завезли сюда большевики. Что недалеко отсюда есть чисто немецкие сёла, а дальше — украинские. Что в селе у них в церкви склад.
Пришёл вечер. Я уже пошёл бы отдыхать. Спрашиваю:
— Тётя Нюра, а где я буду спать?
— А где хотите, — знакомый ответ. Чуть позже:
— Или на печке спать будете, или на полатях.
— А где полати?
— Над головой.
Смотрю — висит на четырёх верёвках что-то вроде двери. Я выбрал печку. Накидали туда вместо матрасов каких-то телогреек, другого тряпья. Дали рядно — укрыться. Главное — тепло.
Перед сном я, как обычно, помолился. Нюра и Маша не удивились. Ночью пришёл Виктор:
— Ма, кушать есть?
— Чшш!.. Там ссыльный спит.
— Где?
— На печке.
Он заглянул: есть для него место. Лёг возле меня. Утром мы познакомились.
8.
Через день приходит бригадир — тот, что нас привёз и расселял.
— Слушай, завтра на работу.
— Я не пойду на работу ни завтра, ни послезавтра. Только через месяц. Мне положен после тюрьмы отдых.
— Ваши товарищи уже сегодня пошли на работу.
— Пусть идут. А я пойду через месяц.
Бригадир ушёл. На другой день снова пришёл. Я ему ответил так же.
— А что кушать будете?
— Как-нибудь будет. С голоду не умру.
Пришёл бригадир и на третий день. Но чтобы сказать мне, чтобы я пошёл в контору заполнить бланк, потому что мне выписали продукты. Я пошёл. Мне выписали муку, сало, масло, картошку, макароны, другие продукты. Всего много. Ещё и сами привезли. Тётя Нюра готовила из этого для нас всех.
Месяц я отдыхал. Ходил по селу, знакомился с людьми, много молился.
Нюра и её дети были добрыми людьми, но я был у них лишь месяц.
Сначала, где-то на третью ночь, начало меня что-то кусать. Говорю утром Нюре:
— У вас, наверное, есть клопы.
— Да, есть.
— Но ведь они кусаются!
— А что им ещё делать?
— Их же можно вывести.
— Да, конечно. Кабы хотелось...
К клопам я привык. Но к тесноте...
Раз Виктор со мной пошутил: защекотал меня во сне. Я выпрямил ноги — и проломил стенку печки. Она была не из кирпича, а из глины. Мы были чёрные от сажи.
Ещё в самом начале Виктор привёл домой товарища Давида, немца. Похвастаться, что у него на квартире есть «ссыльный», и к тому же «верующий». Давид рассказал маме, как мне у Нюры тесно. Мама сказала, что если я хочу, то чтобы к ним переселился.
У Давида тоже не было отца. В войну его взяли на фронт. Заставили немца воевать против немцев. Он погиб. И у Давида была сестра, тоже — Маруся.
Они были католики. У них на стенах висели образа Божьей Матери и Сердца Христова. Сохранили.
Я переселился, хотя Виктор не хотел, плакал. Я успокаивал его, говорил, что иду недалеко. Я помогал им, пока был в Новоалександровке.
Немцы везде немцы. И в хате, и возле хаты — чистота и порядок. И хата у них была больше — две комнаты и кухня. У меня была отдельная комната.
Я узнал, что в селе Ярматушкино, которое было недалеко от нашего, есть семья сына священника из Галиции. В воскресенье поехал туда.
Люди в селе сказали мне, где их хата. Я нашёл, постучал. Слышу из хаты:
— Войдите!
Я открыл дверь. Из хаты ударил пар, очки вмиг запотели. Я сделал вслепую шаг, второй и услышал крик. Я остановился, снял, чтобы вытереть, очки. Смотрю — я стою в корыте с бельём, в воде. Тогда как раз стирали, оттого и был пар.
Мы очень смеялись с того случая. С меня стащили валенки, высушили.
Я у земляков переночевал. В Ярматушкино было больше украинских семей. Я там был не раз, удовлетворял, насколько позволял мне мой диаконский сан, их духовные потребности.
Ровно через месяц по приезде на ссылку я пошёл на работу. Меня поставили ухаживать за сотней бруцеллёзных коров. Люди могли употреблять их молоко только кипячёным.
Я привозил коровам корм, вывозил навоз. Дали мне в помощь вола, ленивого-преленивого. Я его не бил — жалел. А привязывал его за рога где-то двухметровым шнуром и тянул. Только тогда он тащил сани. Я поработал с месяц и сказал на собрании, что нужно изменить график ухода за скотом — дать ему утром хотя бы на часок дольше поспать. Не говорю, что мукой было каждый день вставать почти ночью, в 5 часов, и в лютый холод тащиться на ту ферму. Приходим — а наши коровки ещё спят. Сами мучаемся и их мучаем, поднимая ту бедную скотину на ноги.
Я сказал на собрании, что нужно давать коровам есть в 6 часов, а то и позже. И начал со своими так делать. Стучал ко мне в 5 часов завфермой:
— Вставайте, кормите!
Я стоял на своём. Приходил на ферму в 6. Мои коровки уже выспались и были на ногах.
Меня ругали, пока не заметили, что мои подопечные стали лучше доиться. Я кормил их, как и раньше. Надои увеличились потому, что я поменял им режим.
Когда снова было собрание, то меня хвалили. Увеличили мне пай и наградили... бараном. Мы его зарезали и съели.
Я следил, чтобы мои коровы были чистые, вовремя вывозил навоз, кормил, ухаживал, как за своими. Они меньше страдали от своего бруцеллёза и постепенно выздоравливали.
На той ферме было помещение, куда доярки сносили молоко. Туда работники фермы заходили погреться. Зашёл и я раз. Но больше не заходил. Доярки, в основном молодые женщины и девушки, спрашивали, почему я их избегаю. Может, мне лучше с коровами?
— Да, — ответил я. — Мои коровки спокойные, не поют таких грубых песен, как вы, не рассказывают таких грязных анекдотов. Вы же благородные женщины, вы матери, девушки, и так паскудно себя ведёте. Вы не смотрите, старший ли это, ребёнок или диакон...
Я с первого дня не скрывал, что имею диаконское рукоположение. Это сразу разнеслось по селу. Приходила как-то, когда я ещё был у Нюры, навестить «отца диакона» старенькая бабушка. Принесла мне «солёных огурчиков, кислой капустки». Больше, бедная, ничего не имела. Здесь люди были добрые, чувствовалось, что их предки когда-то были украинцами. Но эти маты, та мерзкая грубость в поведении...
Доярки же в нашем разговоре:
— Заходите к нам, заходите, мы не будем! Нас никто не учил. Церкви нету, священника нету, живём, как животные.
Я начал к ним снова заходить. То место на ферме было первым в селе, где я проповедовал перед большой группой людей. Работали на ферме и парни, и мужчины. Я имел на них хорошее влияние. Рассказывал им о Боге, что хорошо делать, и что плохо. Когда люди узнали, что я могу крестить (я только не миропомазывал — не имел на то права), начали приходить ко мне из села.
Окрестил одного ребёнка, окрестил второго, третьего. Оказалось, что некрещёные и старшие, которым по 18, по 20. Просили меня — я крестил и их. Крестины отмечали торжественно, с обедами. Я лишь просил, чтобы не злоупотребляли на них водкой.
Впоследствии я окрестил детей и председателя колхоза, председателя сельсовета, заведующего фермой. Просили меня крестить детей и в окрестных сёлах. Когда пришла весна, я объезжал сёла на велосипеде.
Пасху мы отпраздновали торжественно. Я служил Пасхальную утреню, потом святил куличи. Это был большой, радостный, многолюдный Праздник. Люди поснимали дома образа, шли с ними процессией на кладбище. Я служил на могилах...
Недалеко от села стояли табором цыгане. В таборе родился ребёнок, барон прислал за мной тачанку, то есть бричку. Я взял с собой Витю. Цыгане встретили нас с песнями, танцами. Я окрестил ребёнка, цыгане пригласили на обед. Я никогда не думал, что они такие прекрасные кулинары.
Потом я ещё не раз крестил цыганских детей. Они ждали разрешения выехать в Италию, приглашали и меня. Говорили, что перевезут без документов. Я очень хотел домой и не терял надежды, что поеду на Украину. Хотя у нас, высланных, ту надежду отбирали.
Где-то через две недели по приезде собрали нас в сельсовет. Прибыло из района начальство КГБ, зачитало нам, что мы здесь — на вечном поселении. Сказало ту бумагу подписать. Когда пришла моя очередь, я заявил, что не буду подписывать себе пожизненный приговор. Суд приговорил меня только к 5 годам лишения прав. Другого приговора не было.
— Вы что, бунт здесь поднимаете? — КГБ ко мне.
— Какой бунт?! Разве я говорил что-то тем, кто подписывал вашу бумагу до меня? Я отвечаю только за себя. Добровольно шею в вашу петлю не суну. Ничего я подписывать не буду.
— Тогда мы вас снова — в тюрьму!
— Делайте, как знаете. Для меня и здесь — тюрьма.
Они уехали без моей подписи. Тогда не подписался лишь я один. Из тех тридцати, что со мной приехало, только двое были из Галиции. И украинцев с Большой Украины было мало.
Пришли весна, лето. Мне дали вместо быка коня, потому что нужно было пасти скот.
Мы, пастухи, становились на весну и лето кочевниками. Стадо шло себе пастись всё дальше и дальше. Степь — без края. Мы отходили от Новоалександровки и на 50 километров. Только доярки приезжали каждый день на машине доить. Они показали мне двух коров, у которых было очень вкусное молоко, и я, когда хотел пить, то себе надаивал в бутылку — так научился доить.
Мои коровы, за которыми хорошо ухаживали зимой, на свежем пастбище выздоровели, и их перевели в общее стадо. А пастбище то было... высокие, густые, сочные травы. Чернозём!
Я пас коров сутки, потом трое суток был свободен. Имел достаточно времени на душепастырскую работу.
Имея такой график работы, и ещё, попросив Виктора выехать один раз вместо меня в степь, я решился на дальнее путешествие, о котором мечтал давно. Мы с Давидом взяли в дорогу хлеба, сели на велосипеды. Ехали полевыми и лесными дорогами напрямик, обминая сёла. Проехали около ста километров, измучились, но не жалели, потому что приехали в сказку. Ибо увидеть после чёрных «рубленых» изб, заросших бурьянами, крапивой (в Новоалександровке даже не знали, что рубленую крапиву хорошо давать и птицам, и свиньям, и скоту — я их и этому научил)... Ибо приехать из запущенной москальской «деревни» и увидеть опрятные беленькие хатки с обведёнными и синим, и жёлтым, и розовым завалинками, с прекрасными, будто вышивка, цветниками, с подсолнухами (ещё тогда, правда, не расцветшими), с вишнёвыми (деревца были, к сожалению, карликовые) садиками... С плетнём, на котором сушились горшки...
Как радовалось тогда моё сердце, как я горд был за наших украинцев, как радовался, что могу здесь, на чужбине, показать Виктору осколочек своей Украины. Болезненный осколок...
Ещё при царе-сатрапе завезли сюда ахтырцев с их родной Сумщины. А они здесь построили себе Ахтырку. Так и назвали новое село. И сделали всё для того, чтобы и новые жилища, и окружение выглядели так, как дома.
Стоит ли описывать, как меня здесь земляки встречали. Прежде всего нас покормили, потом отвели в клуб. Речи, правда, чистой они не сохранили, но песни были, как горные ручьи. Они питали душу.
В Ахтырке я был не раз. Служил землякам, как священник. Я писал им с Украины, когда вернулся. Отписывали и мне — КГБ пропустило лишь два письма.
Раз плавал я в Новоалександровке на лодке по озеру. Зовёт меня с берега мама Давида:
— К вам гости приехали.
Я подумал, что это кто-то из литовских священников. Они жили в других сёлах, я к ним тоже ездил на велосипеде. Но ведь говорят, что незваный гость хуже татарина...
Их было двое. Важные. Одетые в чёрное.
— Это вы Василик?
— Я.
— Хорошо. Пошли в комнату.
В хате говорят мне, что они из КГБ, показывают документы. Сели за стол.
— Нам известно, что вы крестите детей...
— А что, у вас есть дети, которых нужно крестить? Едем...
Такого начала разговора они не ожидали.
— Нет! Нет!.. По какому праву вы это делаете — калечите молодёжь...
— Так вы только сейчас узнали, что в Новоалександровке живут молодые люди? А до сих пор вы не знали? Вы не знали, как ваша молодёжь издевается над родным языком? На каждом шагу — матерщина, нет разницы, парень ли, девушка ли, отец ли, мать ли,
сосед ли... Вы только сейчас узнали, что у вас есть молодёжь? Она искалечена — вами! И теперь, когда молодые парни и девушки, дети, между собой не матерятся, уважают отца и мать — то вы говорите, что это я их искалечил?
— Учтите, а то получите срок.
Должны были что-то сказать. Ушли.
Я и дальше ждал других «гостей», с красными погонами. Но больше никто не тревожил меня до конца ссылки. Ибо открыл Всевышний уши тем двоим в чёрном, и они слушали, и мои гневные, но горькие слова нашли дорогу к их сердцам, и они, очевидно, так составили отчёт о своей поездке, чтобы у меня не было препятствий в труде на Божьей Ниве.
9.
В августе (1956 года) пришло мне разрешение выехать на Украину. Не мешкая, поехал я на родную землю. В том же месяце я уже был в Барыше. Больше всего меня радовала мысль, что я, наконец, смогу рукоположиться в священники. Сколько я ни расспрашивал — не имел никаких сведений о том, что есть на воле кто-то из греко-католических епископов. Они все были либо вывезены, либо расстреляны...
В конце сентября пришло мне письмо из Каунаса. Мой побратим о. Сянкус, с которым я делил лагерную баланду в Ольжерасе, сообщал мне, что меня согласен рукоположить литовский епископ. Я сразу решил — поеду!
Но где-то через два часа — ещё более радостная весть. Принёс её мне посланник о. Ивана Готры. Я обрадовался уже от самой вести о моём дорогом исповеднике, потому что ничего не слышал о нём с 1952 года. Рад был, что он жив и что на Украине.
Но моя радость была двойной. Посланник отца сообщил мне, что во Львов из ссылки вернулся наш старенький Владыка Кир Николай Чарнецкий. О. Готра рассказал Владыке обо мне, и Владыка ждёт, чтобы я приехал на рукоположение!
Отправив в Каунас благодарственное письмо, я на другой день был во Львове. Невозможно описать нашу радостную встречу с о. Готрой. Со слезами на глазах благодарили мы Всевышнего за Его великую милость, что помог нам вернуться на родную землю.
Отец отвёл меня к епископу. Владыка встретил меня очень благосклонно. Сообщил мне, что моё рукоположение — через три дня.
Мне было очень приятно, что Владыка на основе рассказа обо мне о. Готры и разговора со мной пришёл к такому мнению, но я попросил Владыку отсрочить хотя бы на два месяца это очень важное в моей жизни событие. Я хотел к нему должным образом подготовиться.
Владыка согласился. К своим духовным книгам я добавил привезённые теперь из Львова. Выпрошенные два месяца я напряжённо учился.
10 ноября во Львове перед экзаменационной комиссией, в которой были о. Иван Готра, отец-профессор Иероним Тымчук ЧСВВ и ещё два духовных лица, я успешно сдал экзамены. 18 ноября 1956 года осуществились мои детские сны и лагерные грёзы. В этот знаменательный для меня день из рук несгибаемого Воина Христова Преосвященного Владыки Кир Николая Чарнецкого я получил иерейское рукоположение.
Во Львове я долго не задерживался. Упаковал в чемодан чашу, фелонь, книги — и в Бучач. В этом старинном городе на праздник Архистратига Михаила я отслужил первую в своей жизни Службу Божью.
Служба была в помещении Сестёр-Служебниц. Подпольно, но днём. В то время у сестёр был отец-игумен Розумейко ЧСВВ. Я был очень рад, что отец присутствовал на этой службе. Все последующие годы, вплоть до его смерти в 1967 году, о. Розумейко был моим духовным наставником и исповедником.
В тот же день пошёл я служить и в село Переволока. Здесь на Службе Божьей собралось более 200 человек,
В конце Службы Божьей я сказал проповедь. Я обычно говорил после службы, не хотел её затягивать. Боялся, что враг прервёт.
По милости Божьей, за всё время подполья я не прервал ни одной службы!
На проповедях я призывал людей к терпению, к верности святой Греко-Католической Церкви, Апостольскому Престолу, убеждал, что Всевышний послал нам это страдание как испытание, что за это он вознаградит нас ещё в этом мире, если мы проявим любовь к Нему и не подчиним свои души тому безбожному большевистскому миру.
Об этом я говорил людям во всех сёлах, на каждой своей проповеди.
Так началась моя подпольная душепастырская работа на Украине. Ходил я от села к селу. Ежесуточно — по 20, даже по 40 километров. Днём — полевыми дорогами и лесными тропами. Ночью мог выходить на широкие тракты, но там
перед каждой машиной нужно было ложиться на обочину или даже в канаву, чтобы спрятаться от света фар. Потому что охотились на меня и ночью.
Охотились на меня постоянно. Лучше всего им было захватить меня в дороге. Устраивали на меня облавы, засады. Но энкавэдэшники, или позже — кагэбэшники, не знали так этих тропинок, как знал я. Прошумели десятилетия, но и сейчас в моей памяти их сотни и тысячи.
Очень не любил я лесные поляны. Потому что их нужно было перебегать. Было горько бегать со Святыми Дарами, но что поделать... Боялся я, что потеряю среди леса очки.
Я запоминал дорогу. Проводники, которые постоянно ходили со мной, очень скоро стали мне нужны лишь для того, чтобы сообщить, когда меня схватят, и чтобы, как когда-то в партизанке, перед моим приходом в село пойти в разведку, не ждут ли нас враги. Потому что и без проводников я скоро знал, как подойти лесом или оврагами к Тарновице или Гостеву, Заставцам или Зарванице — со всех концов света.
Мы никогда не выходили из села той же дорогой, что входили. Часто обходили село лесом, чтобы зайти с более безопасной стороны. Я научился ходить по чаще бесшумно. Это мне очень пригодилось. Больше всего милиция устраивала засады в лесу. Однажды в праздники, идя из Надорожной в Клубовцы, мы обошли 27 милиционеров!
Надорожная была под особой милицейской «опекой». И не случайно. В это небольшое село по воскресеньям и на праздники скоро начали приезжать верующие и из других областей.
Порога небольшой церквушки в Надорожной не переступала нога священника московского православия. Враги закрыли церковь, но люди его не пустили. Таких стойких греко-католических сёл в Галиции было много.
Служил в Надорожной старенький отец Любомир. Но годы брали своё, и настало время, когда отец настолько ослаб, что уже не мог служить.
Об этом я узнал в с. Микитинцах, что под Станиславом (теперь — Ивано-Франковск), куда приезжал к своему двоюродному брату. Рассказала мне о церкви в Надорожной монахиня Анна, Мироносица, и попросила взять её под свою опеку.
Сестра Анна привела меня под надорожнянскую церковь в начале декабря 1956 года. Привела — и оставила одного. Пошла за людьми и пономарём. Сестра привела меня первый раз, потому что её в селе знали. Без неё трудно было бы людям поверить, что я священник. Мог прийти к ним какой-нибудь подосланный кагэбэшник. Да и я скорее похож был на какого-то молодого рабочего, чем на священника. Я радовался, что так выглядел. Так было лучше для конспирации.
Сестра пошла за людьми, а я остался один. Не могу передать, что было у меня тогда на душе. Первый раз в жизни я должен был служить Службу Божью не в городском жилище, не в сельской хате, а в Доме Господнем!
Вернулась сестра с пономарём. С ними — человек двадцать селян.
Я отслужил, исповедал, причащал. Святые Дары ждали неиспользованными три месяца. Я их потребил, а взамен оставил свежие. Люди обрадовались: это был знак, что я намерен ещё к ним прийти.
Служил я в Надорожной в день Святого Николая, потом приходил сюда почти каждое воскресенье.
В конце 1956 года я поехал во Львов отчитываться Владыке. Встретился я у него с греко-католическим священником из Закарпатья о. Павлом Мадьяром ЧСВВ. О. Павел говорил, что на его территориях мало священников, приглашал меня для душепастырской работы. Я с радостью согласился. Владыка был этим доволен, и я до своего второго ареста одну неделю почти ежемесячно проводил в Закарпатье.
А тогда я первый раз поехал в Карпатскую Украину вместе с о. Павлом, в его родное село Белки, что в Иршавском районе. Путешествовал я от села к селу. Мстичево, Раковцы, Завадка... Какие милозвучные украинские названия!
Я старался не только духовно, но и национально просвещать русифицированных русинов. Здесь были сильные венгерские, чешские, румынские влияния. Здесь глубже, чем в Галиции, въелась в душу большевистская пропаганда. Всё это нужно было учитывать, проповедуя. Веря мне как священнику, люди лучше, чем от мирянина, воспринимали от меня нашу национальную Идею.
И в Закарпатье, случалось, открывали мне запертую властями церковь, но в основном служил я в домах людей. Здесь не так, как в Галиции, подстерегала меня милиция и энкавэдэшники, зато в поездах ездить было очень опасно, особенно на галицкой стороне. Мне было чего бояться, потому что где-то полгода в моём паспорте не было отметки о прописке. Об этом я расскажу дальше.
Многие милиционеры знали меня в лицо. Хорошо могли присмотреться, когда на службы люди собирались сотнями, не помещались в сельской хате, и нужно было служить на улице, когда люди преклоняли колени к Причастию, и я шёл к ним со Святыми Дарами.
Во многих сёлах Галиции, где собиралось на службу много людей, уже нельзя было скрыть службу от кагэбэшников. Важно было, выслав моих проводников в разведку, используя их данные, зайти на окраину села. Люди выработали тактику, как провести священника на место службы. Они по одному, незаметно, подходили ко мне. Когда собиралась их большая группа, брали меня в середину, и мы двигались. Этих «опекунов» было не раз больше сотни, но людей всегда было намного больше. Они даже под пулями не подпустили бы ко мне человеколовов.
Когда милиции и кагэбэшников было мало, то тихо стояли где-то под забором. Когда много, то вели себя наглее — во время службы кричали, свистели, хохотали. Но когда я говорил проповедь, они замолкали. Слушали. Внимательно слушали. Господи, дошло ли до кого-то из них вложенное Тобою в мои уста Твоё живое слово?
«Охотники» пытались схватить меня после службы. Но и здесь у людей была своя тактика. Выходили гурьбой с места службы. На кагэбэшников и милицию надвигалась человеческая стена. Перед ними она неожиданно распадалась на малые группки. Ловцы не знали, в какой из групп был я. А я был в одной из них посредине. Я тогда не носил ни усов, ни бороды, и было хорошо, когда удавалось незаметно переодеться в женскую одежду.
И так бывало, что я уходил от церкви, снова переодевался в своё, уже мог доходить до другого села, а мои «опекуны» ещё караулили меня у того места, где я перед тем служил...
Случалось, что людей сообщала о службах в Надорожной... областная станиславская газета «Прикарпатская правда». Таким вот сообщением: тогда-то и тогда-то в селе Надорожная какой-то пришлый униат, самозваный священник Василик будет смущать людей, чтобы остерегались, не шли.
А люди сами знали, кого и чего им остерегаться.
После тех сообщений людей на службах собиралось очень много. Специально ли кто-то додумался использовать таким образом для объявлений советскую прессу? Могло быть и так.
10.
В ночь с субботы на Вербное воскресенье в 1957 году я служил в Долишней Переволоке. К исповеди пришло 300 человек. Я очень устал. Думал, что до утренней службы хоть немного вздремну. Но одна женщина попросила меня пойти с ней и исповедать её очень больную маму, потому что до утра она может не дожить.
Когда она меня провожала обратно, я увидел, что за нами крадутся. Я оставил её на дороге, сам пошёл быстрее. Успел зайти в дом Марии Гнытки. У неё я должен был служить. Во дворе уже ждало много людей. Я был убеждён, что люди ко мне не подпустят ни одного врага, пока я не отслужу.
Я закончил Службу Божью, освятил вербные ветви. Долго говорил проповедь. Люди плакали. Они знали, что меня ждут...
Я говорил людям, чтобы они вытерли слёзы, чтобы не покорялись, что Всевышний хочет нашего терпения, что Он испытывает нас, что чем больше жертв, тем скорее подарит Он нашей Церкви и нашему Народу свободу.
Я закончил. Мне открыли окно. Но лезть через него после такой проповеди я не мог. Мне было стыдно перед самим собой. Пошёл в дверь.
За дверью меня ждали. Я дался им в руки.
Меня доставили к грузовой машине. Сказали садиться в кабину. Загудел мотор, но ехать было невозможно. Люди легли под машину. Старики, молодые. Парни, девушки, дети.
Следователь начал людей уговаривать, уверял, что меня берут лишь поговорить.
Ничего не помогало.
Тогда следователь попросил... меня!
Я вышел из машины. Сказал, что принимаю это испытание.
Люди меня послушали. Встали.
Меня повезли в Бучач. В то воскресенье я лишил бучачских кагэбэшников выходного. Они были злые, как осы.
За меня взялся сам начальник КГБ Рыбченко. Начал с проверки документов. Придраться было не к чему, потому что у меня ещё была бучачская прописка.
Начался допрос.
— Каким правом служите по сёлам униатские службы?
— Я имею на то право Божье.
— Униатской Церкви нет! Она ликвидирована!
— Так в какой тогда я?
У начальника на дальнейший допрос не хватило слов. Зато были кулаки. Тяжёлые, огромные. Ударил меня по голове раз, другой.
— Если у вас есть такой закон, чтобы бить священника, бейте дальше. Если нет — будете отвечать перед Богом и перед людьми.
Дальше уже было без кулаков.
— Выписывайтесь! И чтобы духу вашего здесь не было!
— Я никуда отсюда не поеду. Я дома.
— Ищите себе какую-нибудь работу.
— Так я работаю: проповедую Слово Божье. А на какую работу вы возьмёте греко-католического священника?
Допрос — до обеда. Кто рукополагал, где рукополагал, кого знаю из священников. Уговоры вперемешку с угрозами, с гадкими матами.
Не узнали и не добились от меня ничего. Выпустили. Вечером я служил дальше.
Через несколько дней мне сообщили, что я из Бучача выписан. Это была беда побольше, потому что меня таким образом подвели под тюремные двери. Теперь меня могли запереть как бродягу, за нарушение паспортного режима.
Нужно было немедленно добывать тот крепостной штамп. Лишь где-то через полгода сумел я прописаться в Микитинцах, под Станиславом, у моего двоюродного брата Степана Долины. Это стоило времени, нервов и денег.
Но в государстве, где продавали душу и совесть, было возможно купить и прописку.
Время, когда я был, по сути, беспаспортным, не отсиживался где-то в хате. Моя душепастырская работа не прекращалась ни на день.
Не только врагам нашим я нарушал покой.
Конец 1957 года. Я во Львове, на улице Вечерней. Подхожу к дому Владыки Кир Николая Чарнецкого. Владыка отбрасывает во дворе снег.
— А на вас есть жалоба! — говорят мне после приветствий.
— От кого?
— От наших подпольных священников.
— Как?!
— Жалуются, что из-за вас проверяют и их, не дают им покоя. Говорят, что если вы не угомонитесь, то пойдёте в тюрьму, а за вами могут забрать и их. Просят, чтобы я вас немного сдержал.
— Так что мне делать дальше, прошу Владыку? — опечалился я.
— То, что и до сих пор. Я не для того вас рукополагал, чтобы сдерживать.
Сдержать меня хотели кагэбэшники. Они шли на всё. Готовы были даже меня ликвидировать.
Не скажу, в какой местности и кого встретил я среди леса. Он был с топором. Я должен был идти один, но напросился меня сопровождать мальчишка, ученик четвёртого или пятого класса.
Это спасло мне жизнь. Потому что тот, кто подстерегал меня в лесу, ещё мог бы зарубить меня одного, но не смог взять на душу жизнь невинного ребёнка.
Он вышел ко мне с топором, но, видно, когда-то в детстве учила его мама молиться и рассказывала о Боге, о Божьем милосердии. Хотя со временем это забылось. Он стал на негодную дорогу, совершил преступление, его заперли. Выпустили теперь, чтобы меня убить. Пообещали, что если он выполнит их задание, то ему простят его вину, судить не будут.
Вместо того чтобы занести надо мной топор, тот грешник пришёл ко мне на исповедь. Он ушёл с моим благословением.
Потом я узнал, что его всё-таки осудили.
После того случая я стал осторожнее. Уже не ночевал в хатах, а в сараях, кладовых. Часто спал на стогах, даже когда уже был снег.
На Пасхальные Праздники люди хотели есть освящённое. Освятить, как обычно, когда всё испечено, сварено и сложено в корзину, я мог бы лишь в одном селе, от силы — в двух. Поэтому я взялся святить то, из чего пеклось: муку, яйца. Освящение и в таком случае имело силу, а мне это дало возможность приступить к Пасхальному обряду уже после Вербного воскресенья. Великую радость имел я от такого труда, хоть недосыпал, натруждал ноги. С ногами у меня была беда. Ещё в лагерях, работая грузчиком на стройке, я получил плоскостопие. Было мне тяжело, но я ходил от села к селу и исполнял свой душепастырский долг. Знал, что смогу передохнуть лишь после Праздников.
В Пасхальное Воскресенье я служил в Надорожной, Тарновице, Бортниках, в Понедельник — в Бучачском районе. В ночь на вторник служил в Барышах, где жили мои родственники.
После Службы Божьей захотелось мне переночевать в родительской хате. Нельзя было позволять себе такую роскошь...
На рассвете хату окружили, забрали меня, измученного и сонного. Повезли. Били по дороге, били в Бучаче.
— Вы здесь не прописаны, как вы смели так далеко ехать, насаждать униатство?
— Я проехал всего 70 километров, и то по родной земле, а что вы аж из Москвы приехали — так вам можно?
Ответили кулаками.
Проверили мои документы. У меня уже была тогда микитинецкая прописка. Повезли в Станислав. Там мне устроили театральную встречу.
Выглядело это так. Коридор областного КГБ. От входных дверей до вестибюля — широкая лестница. Иду я по ней, как король, по бокам «почёт» — бучачские кагэбэшники. Навстречу мне, в сопровождении своего почёта, сам начальник станиславского областного КГБ с театрально распростёртыми руками и ироничной улыбкой:
— Приветствуем у себя сегодня, в Пасхальные Праздники, выдающегося униатского проповедника. Странно вам здесь будет с нами «праздновать»?
— Ничего странного. Если Господь хочет, чтобы я сегодня и вам, в ваших кабинетах, проповедовал слово Божье — с радостью исполню Его волю. Бог знает, что делает.
Они не ожидали, что так отвечу. Шутки закончились.
Допрос: где родился, когда родился, где родители, кто родители, где деды похоронены, где и за что сидел, когда, где и кто рукоположил, почему подчиняюсь врагу советского народа Папе Римскому, почему вспоминаю в Службе Божьей фашистского при
служника Андрея Шептицкого и предателя Украины Иосифа Слипого...
Что-то я отвечал, что-то им разъяснял, от чего-то отказывался.
Выпытывали долго. Вопросы повторяли. Заставляли подписываться, что я больше никуда не поеду служить. Я говорил, что не подпишу, потому что поеду. Меня били. На глазах у начальника КГБ. Он их поощрял, но сам не бил.
Давно смерклось. Вечер. Ночь. Мне и дальше велят сидеть на твёрдом стуле. Следователи устают и на мягких, меняются. Засыпаю сидя. Меня трясут, заставляют отвечать. Правда, уже не били, хотя я и дальше с ними не церемонился, говорил резко. Их уже мало интересовали мои слова, им было главное меня измотать. Тактика их за десять лет не изменилась.
Где-то в четыре мне разрешили подняться. Я был настолько уставшим, что упал бы на пол и сразу заснул. А они мне говорили идти прочь! Отпускали меня!
Это было неожиданно. Я-то думал, что меня уже не выпустят. Уставший, полусознательный, я всё же понял, что теперь, в этих стенах, мне будет безопаснее. Поэтому я... отказался выходить. Сказал, что я очень устал и пережду у них до утра.
Моё поведение их и удивило, и разозлило. Меня подхватили под руки и с мерзкой бранью поволокли к выходу. Заперли за мной дверь.
Не знаю, сколько я простоял, прижавшись к ней снаружи. Свежий ночной воздух ещё больше клонил ко сну. Я чувствовал, что мне опасно здесь быть. С трудом оторвался от нагретых мною досок и поплёлся, держась то за деревья, то за заборчик. Тревожно озирался. Чуть дальше загрохотала машина. Ехала в мою сторону, светила фарами. Я смотрел, куда она светит, чтобы в свете её фар заметить своего палача. Я чувствовал, что посягают на мою жизнь.
Но тот палач сидел за рулём. Когда я вышел из-за деревьев на открытое пространство, тёмная громада, слепя фарами, понеслась на меня.
Я сразу понял, кого должен был остерегаться. Уже должен был мне быть конец. Но Спаситель ещё хотел, чтобы я ещё послужил Ему на этой грешной земле.
Не знаю до сих пор, сумел ли я в последнюю минуту отскочить, или машина врезалась в дерево. Я не разглядывал и не ждал, пока она развернётся. Я побежал. Побежал изо всех сил. Завернул в какой-то двор. Он, к счастью, оказался проходным. Забежал в другой. Даже на другой день не мог бы показать, какими улицами, улочками, тропинками спасался.
Опомнился я лишь в Микитинцах, под окном Степана.
В хате перепугались. Им уже передали, что меня забрали. Они думали, что это приехали за ними.
Потом Степан говорил мне, что знал, что говорят: белый, как стена. Поверил, что таким можно быть, лишь в ту ночь. Говорил, что я так выглядел.
По милости Господней я скоро пришёл в себя и снова пошёл туда, где меня с нетерпением ждали.
Охотились за мной и дальше. Всевышний оберегал меня, не давал в руки врагам. Случалось и обманывать врагов. Вспомню просто-таки курьёзный случай.
Случилось так потому, что я был очень измучен. Ночью служил в Курдыбановке, что в Бучачском районе на Тернопольщине. Шёл по дороге в другое село. Если бы я не был вконец измотан, то до такого бы не допустил. За мной загрохотала машина. Когда я услышал, она уже была так близко, что некуда было деваться. И они уже вышли из машины и ко мне шли. Но как-то неуверенно. Тогда я поворачиваюсь и иду к ним. —
— Вы кого-то догоняете?
— Да.
— Минут десять назад передо мной пробежал какой-то мужчина с портфелем и всё время оглядывался.
— И где он?
— Повернул туда! — показываю на Бабулинцы.
Они бегом к машине, развернулись, поехали.
Потом я узнал, что они приехали за мной в Курдыбановку, но не успели. Сексоты (СЕКретные СОТрудники) сказали им, в какую сторону я пошёл, и они бросились догонять. Догнав, сбились с толку моей одеждой. Я был в офицерской шинели, очень удобной вещи в моих странствиях. А ещё те кагэбэшники были новенькие, не знали меня в лицо.
Но больше всего я благодарен за своё спасение милости Господней. Я тогда переживал не за себя, а за свой чемодан. В нём были ризы, церковные вещи. Не хотел Господь допустить, чтобы над ними глумился враг.
11.
Ещё об одном чудесном спасении.
Где-то в декабре того же 1958 года шёл я лесом в Пшеничники к умирающему. Был со мной Василий Федорак, только что из армии.
Хотя листьев на деревьях не было и было видно далеко, мы заметили опричников, что нас подстерегают, лишь метрах в десяти от себя. Ни на что не надеясь, мы бросились в какие-то густые кусты.
Но нас не увидели.
Кусты были такие низкие, что мы могли спрятаться в них, лишь стоя на коленях.
Мы пошевелиться не смели, потому что они бы услышали. Так же, как мы слышали каждое их слово. Они говорили обо мне. Злились, что я не иду.
Мы стояли на коленях так час. И ещё с четверть, как они убрались.
Еле тогда мы с земли поднялись. Ещё снега не было (и это нам послужило, потому что по следам нас бы нашли), но земля была холодная, как лёд. Ноги не слушались, но надо было идти.
Я умирающего исповедал, причастил. Утром он умер. Мы же в селе не задерживались, ночью же вернулись, потому что утром я должен был в Надорожной служить Службу Божью.
Очень скоро Надорожная стала подпольным религиозным центром Галиции. Много людей приезжало сюда из других областей. Я служил по всей Галиции, по Закарпатью, но в Надорожной — чаще всего.
Раз после вечерни, а она закончилась в полночь, потому что к исповеди было много людей — своих и приезжих, сообщили мне, что в селе есть КГБ и милиция. В Надорожной, как и в каждом селе, были сексоты из коммунистов и государственных активистов. Поэтому я был вынужден соблюдать конспирацию: о месте, где я должен ночевать, знал только церковный сторож и хозяева, у которых я спал.
На этот раз, имея сообщение о ловцах, я не пошёл в тот дом, где было договорено, потому что туда нужно было идти через село, а попросил Василия Федорака, который меня вёл, дать знать Шлапакам. Их хата была недалеко от церкви, под лесом. Хозяйка выдала дочерей замуж и теперь жила одна. У них было спокойно.
У Шлапаков в тёмном углу сеней была маленькая дверца в кладовку. Мне в ней постелили. Я сразу заснул.
Думал, что мне снятся и грохот, и крики.
Но отозвалась хозяйка. Пошла открывать.
Слышал я, как рыщут по хате. Надеялся, что мою дверцу не заметят. Но нашли.
— Вставай! — закричали с порога.
— Прошу закрыть дверь, мне нужно одеться.
Послушали. Я вышел, поздоровался по-христиански. Попросил у хозяйки воды.
— Ладно, пошли!
— Я немытый не пойду!
Пустили ко мне хозяйку с водой.
— Теперь пошли!
— Нет, мне ещё надо помолиться! — не дожидаясь разрешения, я стал посреди хаты на колени.
Меня брали четверо. Один пошёл в сельсовет за «воронком», второй ждал во дворе, третий в сенях. Четвёртый стоял надо мной с пистолетом, пока я молился.
Я молился по чёткам. Несколько раз. Молился я больше, чем обычно. Трудно было в таком состоянии сосредоточиться на молитве.
В те времена во многих сельских хатах не было пола из досок, а был земляной пол. Такой пол был и у Шлапаков. От земли шёл холод, ноги затекли.
Я тяжело поднялся. Перекрестился. На улице уже хорошо серело.
— Я уже могу идти.
— Нет, теперь не пойдём, теперь поедем. Сейчас будет машина. Средь бела дня из этого хулиганского села мы вас не выведем. Зря вы хитрили. На этот раз вам от нас не вырваться. Я этой ночью проснулся оттого, что подо мной проломился этот, как там у вас... бамбетель. Это добрый знак!
— Это добрый знак для меня! Это знак, что вы проиграли!
— Как так?! Вы в наших руках.
— Я в руках Божьих!
— Так что, будет чудо?
— Да! Я, как и собирался, буду служить в этом селе утреню!
И тут ударил церковный колокол!
Это было неожиданно и для меня. Что уж говорить о моём «опекуне». Он внезапно побледнел, как стена.
— Что это?
— Это чудо Божье!
Колокол не умолкал. На улице, во дворе — крики. Слышу — рвутся в хату. Вдруг: бах! бах! бах! Три выстрела. Стихло. Дальше — шквал, буря! Ещё немного — развалили бы хату.
Меня должны были вывести на улицу.
Во дворе, на улице — почти всё село. Девушки рвут на себе одежду, подставляют под пули обнажённую грудь.
Это стрелял милиционер. В воздух. Хотел людей этим усмирить, а озлобил ещё больше. Они набросились на него, отобрали пистолет и швырнули в огород, а самого подняли и швырнули, как палку. Он остался лежать на земле. Видно, от страха.
В это время вывели меня. Со словами «предатель, палач», люди набросились на «моего» кагэбэшника. Я еле их унял.
Людей становилось всё больше. Им уже не хватало места во дворе, на улице. Стояли и на огородах.
Люди меня освободили, взяли на руки и понесли к церкви. В это время подъехали две машины с милицией. Опять стреляли вверх. Люди вытащили милицию из машин, столкнули и её, и машины в ров, забросали дубинками и камнями.
Ровно в десять я начал служить. Всё живое было в церкви и под церковью. Лишь сельский партийный актив помогал милиции выбираться из рва и вытаскивать машины.
Потом мне сказали, кто среди ночи ударил в набат.
Когда я уже был у Шлапаков, Василько Федорак шёл к ним — нёс мои вещи. Мы так поступали, когда была опасность.
Парень увидел во дворе милицию и побежал звонить в колокола.
Василько, к сожалению, уже не жив. Погиб в молодом возрасте. Звонит теперь в небесные колокола.
После этого события Надорожную стали очень пристально караулить. Особенно перед Рождеством. Как я мог обойти Надорожную в такой большой Праздник? Людям было бы очень горько.
Разведка донесла мне, что милицейские посты — на всех подходах к селу. Лишь нет никого у церкви со стороны леса, потому что в лесу — большие снега.
Лес подходит в Надорожной почти к самой церкви. Я тогда лесом и пришёл. Это со стороны Тисменицы.
Что мы пройдём с проводником по таким снегам, не ожидала не только милиция, но и люди.
Я пришёл в Надорожную и на Сочельник. Богослужение с освящением иорданской воды должно было начаться в полночь. Поужинав у старшей сестрицы Насти — а она жила на краю села — где-то в девять перешёл я ближе к церкви, на улицу Чернолесскую. Здесь жили Кавецкие, четверо: старшие хозяева и молодожёны. Я хотел у них несколько часов поспать.
Где-то через час я проснулся от криков, стука. Бушевали под хатой, светили в моё окно фонариком — оно было сверху не занавешено. Чтобы меня не увидели, я лёг на пол.
Мне позвали в комнату молодых. Они скинули со своей кровати постель, покрывало, разгребли солому до досок и сказали мне ложиться на них лицом вниз. Сверху снова набросали соломы, разровняли, как могли, постелили и легли сверху.
Только тогда хозяева пошли открывать дверь.
Пришлые рыскали по всей хате, заглядывали на чердак, даже в печь, под кровать. Стащить с кровати молодых не додумались.
Я же под молодыми еле дышал. Кто-то из них лежал на моей голове. Я почувствовал, что больше не выдержу, как... начали звонить!
Милицию из хаты — будто ветром сдуло!
По сельскому обычаю молодёжь в Надорожной плетёт в Сочельник венок. Им украшают крест над колодцем, в котором святят воду.
Когда парни и девушки несли к кресту готовый венок, увидели сани с милицией. Бросились перекрывать дорогу, звонить. Побежали за санями.
С саней начали стрелять. На этот раз — не вверх. Но ранили лишь... своего возницу. Гнали, как бешеные. Переехали девочку школьного возраста (люди её отвезли в больницу, но она, слава Богу, не очень пострадала).
Милиции удалось выехать из села. Люди подумали, что на тех санях повезли меня, и полсела бросилось в Тлумач (а он — в трёх километрах от Надорожной) меня освобождать.
Люди наделали в Тлумаче переполоху. Милиция была настолько перепугана, что водила людей по камерам, где держала арестованных — показывала, что меня там нет.
Те, что ходили в Тлумач, очень обрадовались, когда вернулись и застали меня в селе. Я, как и собирался, отслужил вечерню, Службу Божью, освятил воду, и, пока рассвело, пошёл в другие сёла.
Пересматриваю я эти записи, и очень они похожи на какой-то детектив. Я убегаю, прячусь, меня либо ловят, либо мне удаётся убежать или спрятаться.
Некоторым людям, которые ещё помнят страх, занесённый в их души сталинским режимом, и, несмотря на демократию для вида, поддерживаемый и режимом хрущёвским, может показаться надуманным моё поведение с врагами нашей Церкви. Отсылаю их к началу моих воспоминаний, где я писал об умерщвлении плоти, к которому прибегал чуть ли не с детства, к моему искреннему почитанию и желанию подражать Святому Мученику нашей многострадальной Церкви Преосвященному Иосафату Кунцевичу. Да и, по милости Божьей, укрепил я свой дух в сталинских концлагерях.
Враг мой, враг нашей Церкви не имел за душой ничего, кроме высосанного из пальца дьявольского «учения», в которое и сам не верил. Я же имел за собой крепкую, неприступную, величественную Скалу, на которой гордо стояла моя униженная, терзаемая красным дьяволом, но непокорённая, святая наша Украинская Греко-Католическая Церковь. Были моей опорой, кроме Святого Иосафата, Князь нашей Церкви, Князь Украины, Украинский Пророк Митрополит Андрей Шептицкий, его достойный Ученик, который долгие годы мучился в сатанинских лагерях и тюрьмах, но не сломался — Патриарх Иосиф Слипый и замученные большевистской ордой наши Владыки, и наш героический Народ.
Народ наш, что неопалимой купиной возрождался Божьей Силой после пожарищ и разрушений, Народ, который больше привык к бурям и невзгодам, чем к мирному небу, Народ, который жертвовал собой ради христианской и национальной Идеи.
Есть ли большее удовлетворение в этом мире, чем служить Божьим Идеалам и за них страдать, чем служить и мучиться за Господом избранный для терпения и страданий боголюбивый Народ наш? Ибо он, как Иисус, вытерпел муки свои за всё человечество.
Терпениями и страданиями своими Украина спасает мир!
Следовало бы мне, может, больше говорить о службах, о душепастырском труде. В них я придерживался наших христианских канонов, всё делал, как и каждый другой подпольный священник. Отличался я разве что своими проповедями и поучениями, которые были, пожалуй, более патриотичными, чем у других. Не вижу в этом зла и не каюсь, потому что наша Украина так же страдала от врагов, как и наша Церковь, и нельзя было заботиться о восстановлении прав нашей Церкви, не заботясь о воскресении Украины.
Наша Церковь стоит на твёрдом фундаменте — Христовом Учении. Но есть у неё и ещё одна несокрушимая опора — наш Украинский Народ. Свобода Украины — это и дар Всевышнего за служение нашего Народа своей родной Церкви.
Ещё не осознано, как послужила своими страданиями вся наша Украина Вселенской Церкви, всему мировому христианству.
12.
Того революционного выступления (так охарактеризовали бы марксисты случай в Тлумаче, когда Надорожная пришла меня освобождать и перед ней капитулировала даже милиция), уже кагэбэшникам было слишком. Они пришли к выводу, что моё дальнейшее пребывание на свободе уже стало опасным. О возможности повторного заключения напоминали мне при каждой встрече: «За табой параша плачет!»
Схватить меня в Надорожной или каком-то другом селе они не могли. Выбрали Станислав. Здесь я останавливался перед поездкой во Львов.
Я был в Станиславе 22 января 1959 года. Приехал вместе с Василием Федораком. Он пошёл покупать нам билеты на вечерний (где-то в 19 часов) поезд до Львова.
Меня же в 15:00 встретила в городе сестра Анна из конгрегации Сестёр-Мироносиц. Отвела отдохнуть в каменный дом, который был недалеко от рынка. Там меня ждала с. Татьяна из конгрегации Сестёр Девы Марии, дочь покойного отца Петра Голейко.
Мы должны были незадолго до отъезда встретиться с Васильком в условленном месте. Только вышли на улицу — я заметил, что нам навстречу идут в ряд четверо подозрительных. Оглядываюсь — сзади ещё четверо. Догоняют.
— Прошу от меня отойти. Мы окружены! — говорю тихо Тане.
Таня отступила. Те, задние, её не тронули. Всё внимание было на меня.
Я, хоть и медленнее, но шёл дальше.
У широких ворот кольцо замкнулось. Они набросились на меня. Чуть дальше ждал на всякий случай «воронок». Но меня ждали особые почести. Мимо нас за ворота заехала чёрная «Волга». Меня собирались в неё посадить. Туда меня волокли.
На улице были люди. Наблюдали за ловами. Могли думать, что это доблестные правоохранители совершают подвиг, забирая какого-то бандита.
Мог ли я допустить, чтобы они так подумали обо мне, греко-католическом священнике?!
Ловцы этого не ожидали. Бог удесятерил мои силы, и я вырвался. Но не убегал. Начал кричать во весь голос:
— Вы бандиты! Вы что, хотите меня тайком забрать? Не выйдет! Будут все люди знать, кто вы есть, и кого забираете! Я греко-католический священник Павел Василик! Вы замучили наших священников и епископов, замучили весь наш
Народ!
Я говорил и говорил. Людей собиралось всё больше.
Кагэбэшники будто окаменели: боялись меня тронуть!
Я говорил, что не подписал православие, служу в греко-католическом обряде и поэтому подвергаюсь преследованиям, что меня арестовывают не представители власти, а бандиты. Потому что иначе меня лишали бы свободы так, как в цивилизованных странах, а не устраивали бы среди города охоту, не прятались бы в гражданскую одежду, не закрывали лица шапками.
Я призывал людей держаться святой нашей Греко-Католической Церкви, веры отцов своих, чтобы не поддаваться на приманку московской церкви, которая позакрывала наши храмы.
Я проповедовал людям с полчаса. Когда закончил, люди расступились, чтобы я убегал. Я побежал, но мои сапожищи поскользнулись на скользком. Я упал.
Охотники набросились на меня. Боялись, что люди меня не дадут, но ещё больше боялись за свои погоны, которые бы им поотрывали, если бы меня упустили.
Сгребли меня, понесли к «Волге». Я у машины — ноги вверх! Вместо того чтобы в кабину, высадили меня на крышу. И смех, и грех! Но как-то втолкнули — и рванули с места. Хорошо, что подобрали мои очки...
В то время, когда поезд с вокзала отправлялся во Львов, я переступал порог областного КГБ.
Меня встретил дежурный. Где-то через минут десять начали сходиться те, что со звёздами побольше. Возмущались, что я посмел назвать их бандитами. Обещали за это отдельную статью.
Я выразил протест по поводу моего бандитского ареста.
Дальше — привычно заработал кагэбэшный конвейер. Одни сменяли других.
Некоторые просто отбывали очередь. Некоторые насмехались. Некоторые прислушивались к моим словам.
Я, как опытный арестант, чувствовал, что это ещё просто забава, а не какой-то основательный допрос. Снова хотели меня измучить. Я уже предчувствовал какую-то новую ловушку и заявил, что больше не скажу ни слова, потому что очень устал, и пусть дадут мне отдохнуть.
Но на этот раз отвели меня в камеру.
В 1947 году, когда я впервые переступал порог тюрьмы, я пел «Страдающая Мать». Тогда было самое время для этой божественной песни, потому что это было время Великого Поста, перед Христовым Воскресением. Теперь же было время Рождества, но я снова пел её. Это была моя молитва к Пречистой Деве Марии, к Пресвятой Богородице. Своей песней я просил у Неё силы, чтобы помогла мне и на этот раз перебыть неволю и счастливо вернуться к своей пастве.
Камера была одиночная. Она встретила меня знакомым запахом, который шёл от параши. Я взобрался на нары, грубые дощатые нары без какой-либо тряпки. Я взобрался на них и сразу забылся в крепком сне.
Допросов не пришлось долго ждать. Но они сразу были скучными, серенькими. Всё допытывались, почему я сказал, что они — бандиты. Я им объяснял.
Где-то через неделю меня завели не в кабинет следователя, а в роскошный зал. Мне сообщили, что на разговор со мной приехали из Киева.
Где-то через десять минут пришло четверо: Начальник КГБ; Бибик, уполномоченный по делам религий в Станиславской области; Вильховый, уполномоченный по делам религий при Совете Министров УССР. Кто был четвёртый — не знаю. Очевидно, какой-то кагэбэшный начальник из Киева.
Разговор начал Вильховый. Человек в летах, он вежливо поздоровался со мной. Заговорил по-дружески:
— Как это вы снова оказались в тюрьме? Уже второй раз... Я, как узнал, что вы в тюрьме, приехал лично, чтобы помочь вам выйти на свободу.
— Чем я должен заплатить за эту свободу?
— Вы должны понять сами: вам нужно раз и навсегда порвать связи с Римом, покинуть униатскую Церковь и перейти в православие. Тогда будете на свободе. Я постараюсь, чтобы вы служили в Станиславе, в кафедральном соборе.
— Спасибо за заботу, но это невозможно.
— Почему?
— Потому что я проповедую людям, что единственная Церковь Христова — это Вселенская, Католическая, к которой принадлежим мы, украинские греко-католики. Я не могу измениться. Это невозможно! Ни о каком переходе не может быть и речи! Я принадлежу к Церкви, которую основал сам Иисус Христос!
— Я не могу вас понять. Вы уже раз там были и знаете, чем это пахнет...
— Знаю.
— Вы себя не жалеете? Вы молодой, здоровый. Мы вам даём выбор...
— У меня к вам один вопрос, — хочу перевести разговор в другое русло.
— Прошу.
— Вы — верующий?
— Нет, я атеист.
— Меня это удивляет. Вы атеист, а выступаете миссионером православной церкви. Вы не предлагаете мне перейти в православие, вы меня обязываете! Угрожаете! Что это у вас за церковь такая? Кто ею руководит? Нет, против Правды Христовой, против Католической Церкви я не пойду!
— Вы себя не жалеете... — он всё своё.
— Нет, я себя жалею. И себя, и людей, среди которых работаю. Если бы я их не жалел, то покинул бы и Церковь, и Народ, не готовил бы его к вечности, потому что кроме жизни на земле есть ещё жизнь вечная.
— А я вас не считаю священником! Вас нет в моих книгах! — вмешался Бибик.
— Я записан в книгах Небесных.
Мой ответ разозлил Вильхового. Он потерял терпение:
— Либо переходите в православие, либо сгниёте в тюрьме!
— Мне говорили, что меня сгноят, в 47-м. Но я вернулся. Бог поможет — вернусь счастливо и на этот раз. А если нет... Поймёте ли вы когда-нибудь, как сладко страдать за Христову Церковь?! Ваше наказание — это честь для меня!
— Наша власть слишком гуманна, но если надо вас повесить, то повесим!
— С этого и надо было начинать!
Меня отправили в камеру.
Дальше уже было обычное следствие. С угрозами, с криками, с унижением. Постоянно повторяли одни и те же вопросы:
— Вы против СССР! Вы с его врагами! Вас рукополагали на Джезказганских камнях!
— В том моё счастье, что меня рукополагали на камне. Потому что на скале, на камне — Христова Церковь. Даже имя любимого Христова Апостола, самого первого Папы Римского — Пётр. От «петрос», что означает «камень». Церковь, которая на скале, неподвластна адским силам. Не одолеете её и вы!
— Кто вас рукополагал?
— Епископ.
— Имя!
— Я поклялся, что не скажу.
— Мы сами знаем.
— Это ваше дело.
— В каких сёлах вы служили? Какие люди вас принимали?
— Сёл не помню, фамилий не знаю. Дневника не веду, нигде ничего не записываю, названия сёл и людей не запоминаю специально.
Спрашивали меня и о Василии Федораке. Я тогда не знал, что его схватили. Но два билета до Львова, которые при нём нашли, не были достаточными вещественными доказательствами для ареста. Его продержали лишь два дня. Василько держался мужественно.
Как-то следователь Никитин спросил меня:
— Почему украинцы так не любят «русских»?
— Я удивлён вашим языком. Разве им кто-то делает у нас обиду? Украинцы ненавидят советскую власть, потому что не могут забыть ни голода 33-го, ни лживого «освобождения» 39-го, ни невинной крови 41-го. Украинский народ восставал не против
«русского» народа, а против безбожного государства.
Следователь очень обрадовался моим словам. Немедленно вызвал прокурора. Я ещё раз повторил. Прокурор записал, я подписал.
Делали мне очные ставки. Первый раз — со студентом подпольной львовской духовной семинарии Петром Пирижком, тоже переселенцем. Привели ко мне Петра:
— Вы его знаете?
— Мне этот вопрос не нужен. Спрашивайте того, кому нужно.
Спрашивают Петра. Говорит, что меня знает. Просится ко мне в камеру, чтобы, как и я, иметь от Всевышнего милость — страдать за Святую Церковь.
Следователь лютовал. Пётр, уходя, просил у меня при нём благословения! Оправдал он перед Господом имя своё!
Очная ставка с Федораком:
— Знаете этого парня?
— Я много парней знаю!
— Ты знаешь этого бродячего попа?
— Какого бродячего? — покраснел Василий от нанесённого мне оскорбления.
— Вот этого униата, что смущает людям головы!
— Не смейте так говорить! Он не смущает! Он учит нас Закону Божьему! Это наш священник!
— Ты в армии был?
— Нет.
— Так уже и не будешь. Мы тебя отсюда не выпустим.
— Прекрасно! Увеличите мои заслуги перед нашей Церковью!
Тут уж следователь не удержался. Начал материться.
Я возмутился. Спросил, есть ли у него стыд говорить так перед священником.
Беснуясь от ярости, следователь выгнал нас из кабинета. Больше мне свидетелей не приводили.
Перед самым судом приснился мне сон. Что я в церкви, в Надорожной. Надо служить, а я сижу на полу у проповедницы. В руках у меня — большой деревянный крест. Такой, как ставят на перекрёстках.
Ко мне подходят удивлённые люди:
— Почему не начинаете службу Божью?
— Так буду сидеть 5 лет и 5 лет держать крест.
Так я угадал свой приговор: 5 лет заключения и 5 лет — без права проживания в Галиции.
Каждый день приходили под тюрьму люди. Окно в камере было высоко, тяжело было до него дотянуться. Я часто взбирался и махал людям рукой. Они меня видели. Люди приносили мне передачи, но за время следствия не допустили ко мне ни одной.
13.
Как-то люди узнали, когда суд. Пришло их в тот день очень много. Окружили тюрьму со всех сторон, потому что не знали, откуда меня вывезут. Ждали меня и у станиславского областного суда. Но не дождались.
«Воронок» долго возил меня по городским улицам. Потом выехал на ровную дорогу. Через минут 15 быстрой езды остановился. Меня привезли в Лисец. Завели в клуб, где должен был быть суд. Я спросил:
— Почему не судите меня в Станиславе?
— Там нет свободных судебных залов.
Причина была в другом: боялись людей.
Меня по-воровски арестовали, по-воровски и судили.
Суд был «открытый». «Публика» в зале — кагэбэшники и корреспонденты.
Вошли судебные чиновники. Привычные формальности. Зачитывают обвинительное заключение. Такой-то и такой-то, так называемый униатский священник, рукоположен нелегально. Ездил по городам и сёлам в разных областях, в униатском обряде служил Службы Божьи, исповедовал, причащал, крестил, венчал, хоронил, освящал, не имея на это права и нарушая закон. Сеет вражду между православными и униатами. Доказывает его незаконную деятельность изъятое у его двоюродного брата Долика Степана, проживающего в Станиславе, на ул. Советской, 126, большое количество антисоветской литературы религиозного содержания.
У моего брата забрали мои Святое Евангелие, Часослов, Трёхтомный Катехизис, Акафистник, Требник, Служебник и книжку о. Пристая «Из Трускавца к небоскрёбам».
Я сразу запротестовал, что литература, которую у меня забрали, является духовной, а не антисоветской. Требовал принести её в зал, чтобы люди убедились.
Начали вызывать свидетелей. Как бы я ни был измучен допросами и тюрьмой, старался не подавать вида, не хотел выглядеть хмурым и подавленным. Я служил Всевышнему не только у церковного Престола, но и здесь, на скамье подсудимых. Защищал здесь не себя, а святую нашу Апостольскую Церковь. Я и здесь своим видом старался воодушевить наших людей на выдержку, поддерживал их духовно. А они, дорогие мои, поддерживали меня. Когда их впускали свидетельствовать, они прежде всего громко обращались ко мне:
— Слава Иисусу Христу!
Каждое их христианское приветствие силой наполняло мою душу, и на этом мерзком судилище я ощутил великую радость от служения Всевышнему, нашей многострадальной Церкви и нашим людям, которые не теряли лица и перед лютым врагом. Свидетельствует Пётр Пирижок:
— Я принадлежу к Украинской Греко-Католической Церкви. Отец никого из нас не заставлял ходить на его службы. Мы сами их просили. Вы нашу церковь закрыли, а в костёл и в московскую православную мы не ходим. Ещё раз говорю, что
отец наш ни в чём не виноват!
Допрашивают Василия Федорака из Надорожной:
— Ты в Бога веришь?
— Верю.
— Как? Такой молодой, в школе учился — и ты веришь в Бога? Ты комсомолец?
— Нет.
— Вот видите! Это вина этого униатского священника. Это он агитирует молодёжь против комсомола!
— Нет, это меня агитировали в комсомол. Заставляли силой! Мы от вашего комсомола в школе через окна убегали! Всем, кто не хотел быть комсомольцем, снизили оценки. Разве это справедливо?!
— Вы послушайте, как он говорит! Это — наука бродячего униата!
— Меня так научили папа и мама! Они старше нашего отца! Они греко-католики. И всё село наше греко-католическое. Не вините ни в чём нашего отца! Церковь начинается не со священника, а со Спасителя нашего Иисуса Христа! Священник лишь исполняет свой долг!
Не прочтёшь, Василько, этих строк, потому что забрал Тебя в молодом возрасте к Себе Всевышний. Молю за Тебя Спасителя и Пресвятую Заступницу нашу Богородицу Деву Марию. Не только на владыках наших и на священниках, но и на таких величественных, искренних, бесстрашных, как у Тебя, сердцах, держится наша Вера, наша Церковь.
Возьми его, Господи, в Царство Небесное!
Так свидетельствовали все. Молодые, старые, мужчины, женщины. Из Львовской, Дрогобычской, Станиславской, Тернопольской областей.
Последним вызвали свидетельствовать надорожнянского дьяка. Онуфрий Морикит — степенный, в летах. Пережил все кровавые войны века. Непоколебим в вере.
Стал твёрдо посреди зала, ещё и опёрся на длинную и толстую патерицу. Казалось, что пришёл он сюда не от плуга, а что сам Спаситель прислал ко мне своего Апостола.
Судья посмел спросить его, как и каждого:
— Вы верите в Бога?
Дьяк расправил грудь. Сделал шаг к судьям. Грохнул палкой об пол. Произнёс медленно, внятно и громко:
— Да, господа судьи! Я вам говорю: человек, который не верит в Бога — он как тот скот!
Его немедленно вывели из зала. Объявили перерыв. Я себе на суде адвоката не искал, они сами назначили мне защитника. Такой «защиты» мир не знал. Он лишь всё время ко мне:
— Как вы посмели, как вы посмели...
— Вы пришли меня защищать или помогать прокурору меня обвинять? — спрашивал я его на «процессе».
Я отказывался от его услуг, но на это не обратили внимания. Потом взыскали с меня 70 рублей за адвоката.
Приговор был такой, как мне приснилось.
В мае повезли меня в Мордовию, в Явас, на 2-й лагпункт. Дали мне работать на мебельную фабрику. Я стал станочником широкого профиля. Освоил строгальные, шлифовальные, фрезерные станки.
Потом меня перевели на 1-й лагпункт, сделали металлистом.
1-й лагпункт был особый, специальный лагерь, куда свозили христиан всех конфессий: католиков, православных, протестантов. Были в лагере и наши греко-католические священники.
Здесь, в этом лагере, ждала меня великая радость. Сюда перевели в 1960 году великого нашего Мученика за Христову веру Патриарха Иосифа Слипого.
За два года свободы я не успел отвыкнуть от лагерной жизни. Еле дождался конца смены — и к Блаженнейшему.
В этом лагере духовной жизнью руководили Владыка. Они проводили с нами диспуты, научные конференции, теологические собрания. Всё это, разумеется, не происходило открыто. Мы соблюдали строгую конспирацию. И Владыка, и я уже были хорошо научены.
Так нам прошёл год. Потом начальство вспомнило, что я рецидивист, да ещё и опасный. Запрятали меня в Потьма-Явасскую тюрьму.
Тюрьма та была, правда, барачного типа.
Мне выдали, как преступнику, полосатую одежду. Загнали в тесную камеру. От стены до стены теснилось нас 15 арестантов. И здесь были собраны все конфессии. Был между нами римо-католик о. Альфонс из Литвы. Из греко-католиков я был один.
Предприятий здесь не было, а чтобы иметь с нас какую-то пользу, водили работать на огород. Там я насобирал трав, насушил и сделал себе пахучий матрас.
Где-то через полгода Всевышний одарил меня такой великой милостью, какой я и не смел ожидать: в мою камеру ввели Блаженнейшего!
Наш Патриарх тоже обрадовался, когда меня увидел. Моё место на нарах было удобное: у стены. Я предложил его Блаженнейшему, отдал ему свой сенник.
Из-за преклонного возраста и плохого здоровья его на работу не пускали. Когда пошли овощи, не раз удавалось припрятать для Блаженнейшего то зелёный лучок, то морковку.
Зимой нас заставляли отбрасывать снег, выполнять другие хозяйственные работы.
Как я спешил в камеру, где меня ждал Блаженнейший!
Долгие годы скитаний по лагерям и тюрьмам не сломили его, не затмили его светлый ум, и я мог как можно больше извлекать пользы из общения с такой величественной фигурой в нашей Истории.
Я получил от Всевышнего такие привилегии, о которых не мог и мечтать ни один студент, ни один аспирант на воле. И
во сто крат вознаградил Господь мои страдания! Знал бы я на воле, что меня ждёт за колючей проволокой такая встреча — не мешкая, пешком пошёл бы в эти лагеря!
Мои интенсивные занятия продолжались, к сожалению, недолго. В феврале или марте 1963 года Блаженнейший, благословив меня в последний раз, переступил порог нашей тюрьмы. Его ждала свобода. Мы расстались надолго. Лишь через 29 лет я ещё раз увидел Блаженнейшего, когда приехал в Рим, чтобы, исполняя его завет, перевезти его страждущее тело на нашу родную, уже свободную, Украину.
В конце 1963-го с меня сняли строгий режим и снова перевели на 1-й лагпункт. Снова работал на машиностроительном заводе. В основном — подручным.
Я носил металл, подносил к станкам тяжёлые заготовки, относил готовую продукцию.
Это была тяжёлая, изнурительная работа. Всё время на ногах. Непосильная нагрузка на мои больные ступни. Не делали мне никакого послабления до последнего дня моего заключения.
Мой срок закончился, и 22 января 1964 года я был уже за тюремным забором.
Теперь начались мои мытарства с пропиской. Проживать в Галиции мне было категорически запрещено.
Я ездил прописываться в Крымскую, Днепропетровскую, Харьковскую, Киевскую области, в Молдавию. Везде отказывали.
Как-то удалось прописаться на Хмельнитчине. Но через год узнали, что я — греко-католический священник. Предложили православный приход. Я сказал, что соглашусь, если мне разрешат на Службе Божьей поминать Папу Римского. Меня выписали.
Я во все те области ездил лишь прописываться, там постоянно не жил. Сразу после лагерей вернулся я к своей многолюдной пастве. Имел в своей духовной опеке те же, что до ареста, города и сёла. Ещё и добавились новые.
У меня не было ни прописки, ни государственной работы. Меня могли снова запереть не только за нарушение паспортного режима, но и за бродяжничество.
Помогли мне добрые люди.
За время моего заключения студент подпольной духовной семинарии, мой искренний и бесстрашный защитник на судебном процессе Пётр Пирижок закончил учёбу и рукоположился. О. Пётр встретил меня после моего возвращения из лагеря со слезами радости. Он повёл меня во Львове к Ивану Щавелю.
Иван Щавель — бывший наш партизан, политзаключённый. Работал фармацевтом. Как раз тогда организовывал сбор лекарственных растений. Взял меня на работу сборщиком.
Это уже была государственная работа. Она была приятная, полезная для людей и очень удобная для меня, потому что оправдывала перед властями мои странствия.
Так лет десять текла моя жизнь. Днём собирал травы, лазил по липам за цветом, сушил собранное на чердаках у людей (заодно делал людям порядки, потому что перед сушкой надо было эти чердаки часто вымести), а вечером и ночью нёс свою христианскую службу.
Никто не контролировал, сколько часов в день или в неделю я был занят, я отчитывался только собранным сырьём. Когда нужно было больше времени уделить душепастырской работе, я пользовался помощью добровольных сборщиков из крестьян. Это были в основном молодые парни, которых я таким образом сплачивал вокруг себя, учил их Священному Писанию и присматривался, кто из них готов идти по такой же, как я, тернистой дороге.
Наконец КГБ принюхалось к нашей «фирме». Кроме меня, ею прикрывались о. Пирижок, о. Чолий, василиане братья оо. Янтухи.
Нас разогнали.
Тогда я прописался к родителям в Барыше, поехал в Тернополь и там подписал договор с 95-й аптекой на сбор трав. Здесь продержался несколько лет. Потом устроился на такую же работу в Бучаче. Я собирал травы 23 года.
Лагеря оставили след на моём здоровье. Я легко простужался. Тяжелее всего мне было в эпидемии гриппа. Я обслуживал и больных. Часто заражался.
Я очень заболел гриппом 5 сентября 1970 года.
Слабость почувствовал внезапно. Еле добрался до хаты, в которой уже никто не жил. У меня были ключи от семьи умершей, и я, когда приходил в село поздно, чтобы не беспокоить людей, шёл сюда ночевать.
Целый день пролежал я один в высокой горячке.
На Сочельник ко мне пришли — прислала сестра-монахиня.
До Барыша было 15 километров, но домой ехать мне было опасно.
Дали знать в Подпечары, что под Ивано-Франковском. Оттуда приехал за мной Григорий Симкайло, ученик подпольной духовной семинарии. Ухаживал, пока я был в горячке. Она доходила до 40 градусов. Состояние моё было тяжёлое.
Позвали священника, чтобы меня исповедал.
Он пришёл, перепуганный. Без Святых Даров, без елея для помазания...
В Господних планах не было ещё забирать меня с этого света. Горячка начала отступать, и ещё на Рождество меня тайком перевезли в Барыш. Здесь ко мне пришёл врач, назначил уколы. Их делала медсестра.
Болезнь меня очень ослабила. У меня шла носом кровь, я не мог есть.
На Крещение меня ждало новое испытание.
Прибежали сказать, что идут к нам «гости».
Были тогда у нас парни из Надорожной, приехали меня навестить. Одели меня в тулуп — и на улицу. Я не мог идти. Меня километров 5 волокли по снегам. Завели наконец к моей сестре, которая жила на краю Барыша.
Такое «путешествие» пошло мне на пользу: ко мне вернулся аппетит. Я со вкусом съел целую тарелку голубцов из тёртой картошки.
Ночью за мной приехала машина из Подпечар. По дороге нас задержали, но с автоинспектором дежурили парни из Надорожной. Попросили милиционера, и он нас отпустил.
В Подпечарах у Симкайло я пробыл недолго. Брат забрал меня во Львов. Там у сестры я долечился. Лишь начался Великий Пост — я вернулся к душепастырской работе. Но ослаблен был очень. Ещё долго ходил с палочкой.
1 мая 1974 года в моей жизни произошло знаменательное событие: меня рукоположили в епископы. Рукополагал меня львовский епископ Кир Иосафат Федорик.
К моей душепастырской работе добавилось. Надо было готовить для нашей Церкви новых душепастырей. Я учил нашу молодёжь. Рукополагал их в священники.
Вся моя работа и дальше была под неусыпным оком КГБ. Они не замедлили поздравить меня с высоким епископским саном. Это поздравление, разумеется, было насмешливым, но я не возражал. Вежливо их поблагодарил. Дальше при этой «встрече» — привычная беседа:
— Перестаньте служить в незаконном униатском обряде Церкви, которой не существует!
— Буду и дальше служить и я, и всё наше духовенство. Наши службы — свидетельство того, что наша Церковь всё-таки существует!
— Вы были за решёткой диаконом и священником. Ещё пойдёте в тюрьму и как епископ.
— Вашу кару приму как награду от Бога за мой душепастырский труд!
Такие наши «беседы» были не раз. Меня ругали, обзывали последними словами, штрафовали. Но отпускали.
Мой высокий духовный сан не добавил мне привилегий. Я и дальше мёрз, недосыпал, ходил звериными тропами, убегал от преследователей. Чаще всего я добирался от села до села пешком. При случае использовал транспорт. Не только поезда и автобусы, но и сани, телеги, грузовые автомашины и даже тракторы. С удовольствием садился я на велосипед или мопед. Я был и на государственной работе. Уже не имели причины остановить меня на дороге.
14.
Моя душепастырская работа была почти официальной. КГБ даром деньги не брало, и редко какие службы удавалось скрыть. А такие многолюдные, как в Зарванице или Надорожной, утаить было невозможно.
К таким большим службам наши враги готовились особенно. Каждый раз придумывали что-то новое, чтобы навредить. То зацементируют в Зарванице святой источник, то побьют в лесу паломников, которые идут на Службу Божью, то напустят на них милицейских псов.
Их бесчинства лишь добавляли людям твёрдости в вере. Побитые, покусанные, униженные, но непокорённые, приходили они в наши церкви под открытым небом.
Больше всего мы переживали осенью, в сухую погоду. Мы не боялись, что по мириадам свечей в лесу, когда уже опали листья, легко будет обнаружить многотысячное молитвенное собрание с самолёта или с вертолёта. Страшно было, что от неосторожного обращения со свечами могли загореться листья. Мы очень людей предупреждали, чтобы были внимательны.
Могло быть и иначе: кагэбэшники могли специально поджечь лес, а потом свалить вину на людей. Но такого, к счастью, не случилось. Всевышний нас оберегал.
До сих пор в моих глазах прекрасная картина наших лесных служб. А ещё когда по-летнему тёплая ночь, как тихо шумит в ночной дрёме зарваницкий или надорожнянский лес, а над головой звёзды — не рисованные, как в церкви, а настоящие, и звёздочками сияют свечи в человеческих дрожащих от радости нашего духовного общения руках. Освещают золотистые язычки одухотворённые человеческие лица и сооружённый на сложенных дровах Божий Престол.
Бывало и иначе. Не раз посреди Службы Божьей начинал моросить, или и литься ливнем дождь. Люди не прятались, не убегали. А когда священники раздавали Святейшие Дары, падали на колени в мокрое, в холодное и стояли на коленях до тех пор, пока было Причастие...
На службы пробирались и наши репортёры. Их фотографии публиковали за рубежом. Они свидетельствовали, что наша Церковь жива, и что в этих нечеловеческих условиях ревностно служит Богу и Украине.
КГБ слушало о нас зарубежные радиопередачи, доставало газеты и журналы со статьями о наших службах и с их фотографиями, лютовало. Трусливые брежневские опричники выдавали себя перед миром за защитников прав человека, боялись огласки, поэтому арестовывать нас не решались.
Мне силы придавало и то, что Кардиналом у Вселенского Престола был мой дорогой Учитель из мордовских лагерей Блаженнейший Патриарх Кир Иосиф Слипый.
Милиция и КГБ всё время доказывали, что даром хлеб не едят. Имели, очевидно, план «воспитательной» с нами работы.
Как-то раз начальник райотдела милиции так «планово» задержал меня с молодыми отцами Николаем Симкайло и Владимиром Вийтышиным. Повёз нас не в милицию, а в райком КПСС. Говорил с нами сам первый секретарь.
— Как вы смеете разъезжать на машине!?
— Ездим на машине, потому что ещё не имеем вертолёта.
– Вы в прошлое воскресенье служили в лесу!
– Да, прошу вас, потише, о таких вещах нельзя говорить громко!
– Почему?
– Мы живём в демократическом государстве!
– Ну и что?
– А вдруг где-то тут у вас – подслушивающие устройства. Разнесётся по свету, что в XX веке в цивилизованном государстве позакрывали церкви и люди вынуждены молиться по лесам!
Не знаю, чего хотел добиться тогда первый секретарь в той беседе, но разговор пошёл не в том русле, в каком он хотел. Отпустил нас. Разумеется, с угрозами.
Начальник милиции тогда самим фактом нашего задержания доказал секретарю, что он не дремлет. Позже он рассказал мне, что не раз, получив донос, где и когда я должен был служить, высылал за мной ловцов с таким расчётом, чтобы они прибыли лишь тогда, когда служба закончится и я уже смогу перейти в другое место.
Подтверждаю, что такие случаи действительно были. Мы тогда посмеивались над нераспорядительностью «нашей» милиции и не подозревали, что обязаны этим доброй воле высокого чиновника.
Не в каждом районе начальник милиции был настолько порядочен. Очень часто они прибывали вовремя. Бывало, что стояли с наганом у моей головы, что стреляли вслед, когда я уже был епископом.
В 1984 году я подхватил вирусное воспаление лёгких. Хуже всего – что я при этом почти полностью потерял слух. Начал лечиться в Ивано-Франковске. Тайно, потому что не был прописан. Мой брат получил письмо, в котором писали, чтобы я в больницу не ложился, потому что меня убьют.
Я поехал в Вильнюс к своему лагерному товарищу о. Пранасу Рачюнасу. В Вильнюсе меня положили в больницу всесоюзного значения. Там мне за несколько месяцев вернули слух.
После болезни я вернулся в Галичину навёрстывать упущенное. Навёрстывало и КГБ, которое по мне соскучилось. Продолжало следить за каждым моим шагом.
Пришёл 1985 год. Началась горбачёвская «перестройка». Хотя обещанные свободы были лишь на бумаге, мы начали действовать. А ещё вышел из заключения Иосиф Тереля – председатель Комитета защиты верующих Греко-католической церкви в СССР.
4 августа собрались мы у моей сестры во Львове: господин Тереля, отцы Николай и Григорий Симкайло, тогдашний студент Ленинградской духовной академии Михаил Гаврилов и я – как епископ.
Мы написали заявление о выходе из подполья нашей многострадальной Украинской Греко-католической церкви.
Мы адресовали заявление Горбачёву, но апеллировали через Святейшего Отца.
Заявление потом подписали ещё отцы Владимир Вийтышин, Иван и Тарас Семкив и другие. Подписали заявление 23 священника.
Одного епископа господин Тереля вписал самовольно. Был в нём уверен. Но когда вокруг заявления подняли шум, то тот епископ сам пошёл в КГБ и заявил, что он ничего не подписывал. А ведь до этого и по заграничному радио говорили, что он подписал...
Так вышло, что я единственный из наших епископов был под тем заявлением подписан. Я поступил самовольно, потому что ещё до того отказался подписать заявление наш старейший подпольный епископ. Мотивировал свой отказ тем, что не хочет ставить под удар нашу Церковь.
Я думал иначе.
Мы дали нашему заявлению ход и с теми подписями, что насобирали. О нём узнал мир.
В Киеве и Москве чиновники и КГБ забили тревогу. Они прекрасно понимали, что может быть дальше. Срочно принимали меры.
Под угрозами и запугиваниями три священника официально отказались от своих подписей под заявлением.
Под давлением КГБ в одном городе епископ и 10 священников подписали «антизаявление», в котором обозвали нас «экстремистами» – модным тогда словом...
Взялись, разумеется, и за меня.
Из Бучача, где я был прописан, меня вызвали в Тернопольское КГБ:
– Как вы посмели, что вы наделали, да мы вас... Пишите заявление, что отказываетесь от заявления о выходе из подполья, что это заявление вас заставили написать... бандеровцы!
– Это ложь! Я вам ничего писать не буду!
– Везём вас в Киев!
– Меня ждут люди. Если я сейчас не вернусь – у вас будут неприятности. В Киев я поеду сам!
Меня отпустили.
Сразу из Тернополя я поехал в Ивано-Франковск. У меня были визитные карточки иностранных посольств. Послал с ними в Москву о. Николая Симкайло – сообщить о моей поездке в Киев.
«Друзья» встретили меня на киевском вокзале. Завезли в гостиницу «Украина». Дали 6 часов отдохнуть. Потом пришли на допрос.
– Нет никакой Греко-католической церкви! Она не существует!
– Так кого вы 40 лет гноите по лагерям и тюрьмам? Церковь наша жива! Вы позакрывали, разорили наши церковные здания, но вы не отняли у нашего Народа нашей Церкви, не отлучили её от Апостольского престола, от стоп Всевышнего!
– Вам никто не давал права писать какие-то заявления!
– Право защищать родную Церковь дал мне Господь Бог!
– Но ведь вы... Правду говорил ваш епископ, что вы – самозванец. Он вас мудрее, он против государства не идёт... Вы что, уверены, что сможете уничтожить такое гигантское государство?
– Мне не нужно его уничтожать! Вы его уничтожаете сами, потому что живёте без Бога!
Дальше – грязная брань. Я лишь грустно улыбался.
– Чего улыбаешься, как майская роза?
– Ваши грязные слова свидетельствуют лишь об одном: вы, генерал, и вы, полковники, передо мной капитулировали!
Они опомнились. Стали упрашивать, обещали золотые горы, лишь бы я отказался от этого заявления. Я не сдавался. Тогда снова угрозы:
– Вы уже отсюда не уйдёте!
– О моём пребывании здесь знают многие посольства в Москве. Задержите меня – заговорят «Голос Америки» и «Свободная Европа». В Киеве меня ждёт отряд единомышленников (на самом деле я приехал один).
– Вы нас не послушаете?
– Нет!
– Тогда мы вас уничтожим! Мы вас оплюём, опорочим перед народом!
– Я знаю: вы мастера своего дела. Но ничего мне не сделаете!
– Даже если будет ваша Церковь, то вы епископом не будете. У нас в Ватикане свои люди, и они всё сделают, чтобы вам навредить.
– Я согласен быть даже пономарём, лишь бы наша Церковь стала свободной!
– Просим в последний раз: опротестуйте своё заявление!
– Я епископ, и слова своего нарушать не буду!
На том меня выпустили.
Где-то через две недели появляются анонимные письма. Они обвиняли меня... в распутстве!
Писалось в письмах, что я, будучи в Караганде в ссылке, вёл себя распущенно, не так, как священник. Что я разбил семью Симкайло, жил в «комбинате» (что за слово придумали?) с мамой своих учеников Николая и Григория, что они – мои дети! Что муж её, не выдержав стыда, из-за меня повесился!
Эта фальшивка была состряпана очень грубо.
Я в Караганде никогда не был. Я был в Джезказгане, и то не в ссылке, а в лагере.
Николай родился в 1952-м, а Григорий – в 1955 году. Я же знаю семью Симкайло с 1969 года. С тех пор, как меня пригласили в Подпечары освятить их дом, который они построили по возвращении на Украину.
Фальшивка была разослана по всей Галичине, по всей Украине. Её отправили даже в Рим. Но меня это не тревожило, потому что было хорошо видно, что это подлая ложь.
Но встревожило меня письмо от Блаженнейшего Кардинала Кир Мирослава Ивана Любачивского. Он переслал мне адресованное ему письмо, которое подтверждало кагэбэшную фальшивку! Письмо было подписано нашим священником и высшим духовным сановником!
Священник, который подписывал это лживое письмо, в 1992 году приходил ко мне с покаянием. Говорил, что подписал под давлением КГБ.
Я его простил. Он написал Блаженнейшему, как всё было на самом деле.
Борьба за легализацию нашей Церкви продолжалась. Многие наши верующие принимали в ней более активное участие, чем некоторые из наших подпольных священников. Не было у нас, к сожалению, поддержки ни от некоторых наших епископов, ни от монахов-василиан. Говорили они, что напрасен наш труд, что москаль нам никогда нашей Церкви не давал и не даст. Заявлялось, что я действую без благословения, что от меня отмежёвываются, потому что я самозванец и экстремист.
Мы же видели перед собой ясную цель. Уже не могли нас остановить ни угрозы чужих, ни укоры своих.
КГБ донимало нас постоянно. Вызывали и меня, и моих духовных наставников. Говорили им меня «приструнить».
Меня постоянно ругали и ругали. Мне запрещали собирать подписи за легализацию Церкви, говорили людям и священникам нашу группу обходить стороной, что ещё не известно, что с нами случится, что могут нас пострелять, позакрывать, что мы навлекаем на нашу Церковь новые гонения и преследования...
Уже наши распространяли слухи, что я не епископ, а самозванец.
Поддержки у меня не было никакой. В лагерях мне было легче, чем на той «свободе»...
Случалось, что я не выдерживал и где-то в уголке пускал слезу. Тогда становилось легче. Силы и воодушевление давала искренняя молитва Всевышнему.
Святая идея возрождения нашей Церкви была неотделима от идеи возрождения Украины. Она настолько овладела душами галичан, такой могучей волной поднялась на нашей многострадальной земле, что стало очевидным: враги наши бессильны нам возражать.
Тогда и наши епископы изменили своё мнение о легализации Церкви и всё смелее заявляли об этом словами и поступками.
В сентябре 1988 года произошло чрезвычайное событие: американские конгрессмены, приехавшие в Москву, пригласили меня на разговор.
Я рассказал американцам о преследованиях и нынешнем состоянии нашей Церкви.
На разговоре присутствовали 5 советских депутатов. Они поносили нашу Страдалицу. Говорили, что она была прислужницей фашистов, что Митрополит Андрей Шептицкий и Патриарх Иосиф Слипый – враги Народа.
Я не дал очернить ни нашу Церковь, ни её верных Слуг.
Американцы были возмущены не только отношением советской власти к нашей УГКЦ, но и ложью тех депутатов.
После разговора с конгрессменами кагэбэшники сделали меня международным преступником. Меня немедленно вызвало Тернопольское КГБ. Там уже было их начальство из Киева. После грубой брани:
– Вы вмешиваетесь во внешние дела государства, портите нашу международную политику!
– Я не порчу, а исправляю то, что вы портили 70 лет!..
Добиться признания только в Галичине мы не могли. Нужно было ехать туда, где разрабатывались планы и откуда руководилась работа того пресловутого львовского «собора». Мы решили добиваться прав для родной Церкви в высших инстанциях, в Москве.
Тогда, в 1989-м, в Москву поехали епископ-ординарий Ивано-Франковской епархии УГКЦ Кир Софрон Дмитерко, я и священники о. Григорий Симкайло, о. Тарас Семкив и редемпторист о. Игорь Возняк, и ещё один священник из Львова.
Мы добивались приёма в Верховный Совет в Москве. Нас не пустили. Мы объявили голодовку на Арбате – в старинном и многолюдном районе Москвы. Нас заметили не только москвичи, но и иностранцы. Пригласили нас шестерых на международный симпозиум журналистов. Мы использовали «гласность» и «перестройку» не так, как хотел Горбачёв.
Голодовка помогла. К нам прислали от Верховного Совета депутата Юрия Христорадного. Наверное, хотели одурачить нас его божественной фамилией.
Но за этой фамилией ничего не стояло. Депутат хитрил, пытался отослать нас к иерархии РПЦ, мол, мы приехали по духовному делу.
Я решительно запротестовал, потому что нашу Церковь уничтожала не РПЦ, а советская власть. Только с ней мы и собираемся говорить.
Решение нашего вопроса всячески затягивалось. Нам в поддержку съезжались в Москву люди со всей Галичины.
Голодовка продолжалась полгода.
За это время я много раз приезжал на Арбат с архиерейской опекой.
Возглавлял голодовку Степан Хмара.
В ноябре 1989 года, накануне визита М. С. Горбачёва в Ватикан, было объявлено официальное разрешение на регистрацию общин Украинской Греко-католической церкви.
Записал Ю.М.
1991 – 1999 гг.