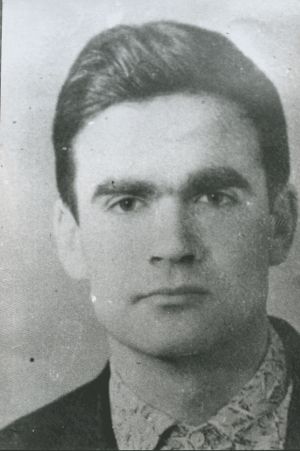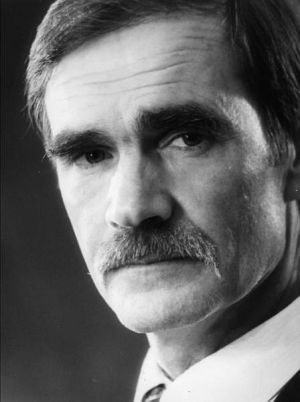Василий ЛЕСОВОЙ
ВОСПОМИНАНИЯ
Примечание. Уважаемые читатели, представляю исправленный и дополненный текст своих Воспоминаний. Особенно значительными были исправления и дополнения в связи с рассекречиванием Службой безопасности Украины документов, касающихся дела «Блок». Выражаю благодарность Василию Овсиенко за внимательную вычитку текста. Что касается его содержания, то полная ответственность лежит на мне. 8 августа 2010 года. – В. Лесовой.
Содержание
Глава І. Начало пути.
1. Земля.
2. История.
Глава ІІ. Руина быта. Обрывки традиции.
1. Руина. Судьба братьев и сестёр.
2. Рассказы, мифы, обычаи, религиозность.
Глава ІІІ. Школа.
1. Безрадичская школа.
2. Великодмитровская школа.
Глава IV. Университет.
1. Начало учёбы. Быт. «Буза».
2. Преподавание. Самоопределение.
Глава V. Тернопольский мединститут.
Глава VI. Аспирантура. Институт философии.
1. Аспирантура.
2. Преподавание в КГУ. Институт философии.
Глава VII. Распространение самиздата. Выход из «подполья».
1. Размножение и распространение самиздата.
2. Аресты 72-го. Выход из «подполья».
Глава VIII. Следствие.
1. Следствие.
2. Идеология и этика. Репрессивные технологии КГБ.
Глава IX. Лагеря и ссылка.
1. Мордовские лагеря.
2. Пермские лагеря.
3. Ссылка.
Глава Х. Обессиливание Левиафана.
1. Музей истории Киева.
2. Учительство.
3. Идеология «перестройки». Хельсинки-90.
Памяти моей матери посвящаю
Психоанализ предложил нам регрессивное движение к архаике, феноменология духа предлагает нам движение, в соответствии с которым каждая фигура обретает свой смысл не в том, что ей предшествует, а в том, что следует за ней: таким образом сознание вырывается из самого себя и устремляется вперёд, к будущему смыслу...
Поль Рикёр. Конфликт интерпретаций.
Глава І. Начало пути
1. Земля
Место. К югу от Киева Днепр сразу же отступает от высоких крутых склонов, образуя широкую низину. В ней разбросаны сёла, словно выпали из мешка странствующего дьяка, добиравшегося до Киева: Мрыги, Конча-Заспа, Козин, Пятихатки, Таценки, Украинка. Когда вы движетесь на юг по «новой» из двух асфальтовых дорог в направлении Обухова, то возле Новых Безрадичей крутые склоны правого берега Днепра исчезают с горизонта: здесь низовье образует рукав — широкое ложе теперь совсем узенькой речки Стугны. Высокие крутые склоны Днепра резко поворачивают на запад в селе Новые Безрадичи: этот поворот, высокий и крутой, — место, с которого открывается простор днепровской низины. Этим простором я любовался в свои юношеские годы, а после возвращения из ссылки мы (я с женой) поднялись на эту вершину — в небе на этот раз маревом плыли высоковольтные мачты Трипольской ГЭС. Когда мне впервые сказали, что в этом месте Ющенко построил себе дачу, то сначала я подумал, что он умудрился примостить её на склоне, чтобы открывался простор. Увидев её внизу, под склоном, был разочарован. Хотя как её прилепишь на крутом склоне?
Под этим высоким поворотом, со стороны Ново-Безрадичской дороги, была усадьба родителей моей матери — моего деда Мирона Ткаченко и бабы Параски (в селе её называли «баба Пелехачка»). Имела ткацкий станок, довольно много, как на то время, земли, не только поле, но и луг недалеко от усадьбы, под болотом. Усадьбы Ткаченко (братьев моего деда Мирона) были расположены рядом, тут же на углу под горой.
Знаю, что баба Параска родом из села Подгорцы: когда в 1987 г. я устроился работать учителем в Великодмитровскую среднюю школу, которую в своё время и окончил, то оказалось, что хата, которую мы с женой купили в Подгорцах, расположена вплотную ко двору, где когда-то прошла юность моей бабушки.
У Параски и Мирона была большая семья: четыре дочери (Федора, Василина, Приська и Елена) и два сына — Тимофей и Пётр. Сыновья были призваны в армию на Первую мировую войну, оба вернулись ранеными. Жену Тимофея Марусю преследовало несчастье (память об этом сохранялась в нашей семье). Как только семья укладывалась спать, в хате начинали раздаваться посвисты и щелчки кнута: что-то выгоняло Марусю из хаты. Они поменяли хату, но свист кнута перешёл вместе с Марусей в новый дом. Такие истории о действии таинственных сил, в частности, домовых, оставались ещё живой составляющей сельской этнокультуры в послевоенные годы. Издавна они давали толчок воображению и мысли, что за видимой, внешней реальностью скрывается иная, невидимая.
Семье бабы Параски не везло. Рано умер дед Мирон и оба его сына, и всё хозяйство держалось только на трудолюбии и энергии бабы Пелехачки. После смерти мужа она сумела его не только удержать, но и улучшить. Моя мать, по метрике Евфросиния (а звали её Приськой), наверное, от своей матери унаследовала ту энергию и настойчивость, которую проявила в борьбе за выживание своих детей.
Моё детство и юность прошли в Тарасовке — хуторе села Старые Безрадичи. Недалеко от Тарасовки, в сторону соседнего села Нещеров, небольшое поле полого поднимается к вершине, которую называли Белыми холмами. Теперь и поле, и холмы покрыты сосновым лесом, который мы, школьники послевоенных лет, только сажали. Во времена моего детства на Белых холмах не было деревьев: на них мы брали белый песок, чтобы украшать им могилы. С этих холмов в ясную погоду вдали над днепровской низиной проступал силуэт Лаврской колокольни. Белые холмы в моей жизни значат важный момент самоопределения. Будучи на последнем курсе университета, на этих холмах я принял решение, которое завершало колебания: тем я «утвердил» свой выбор между добром и злом. Конкретно это означало для меня защиту украинской культурной самобытности против её уничтожения. Этот ритуал «утверждения» нужен был как знак определённости, как обретение важного ориентира для мысли и действия. Думаю, этим романтическим жестом я пытался уверить самого себя, что мой выбор окончателен. Позже я это выразил так:
Змиритися з приниженням народу,
забути всі духовні заповіти,
це означає також дати згоду
на смерть твою, Вкраїно-дивоквіте.
Не знехтуй покликом сумління: як зумієш
втішатися і сонцем і землею,
коли байдужістю своєю дати смієш
із того квіту вирвати лілею.
Не могу с уверенностью сказать, насколько я тогда понимал простоту обычного противопоставления добра и зла и трудности, связанные с разгадыванием масок зла. По крайней мере, понимал сложность, связанную с выбором средств в борьбе со злом. И то, что среди этих средств большим искушением является оправдание «дружбы» со злом ради его преодоления. Замысел «перехитрить» зло нередко делает человека частью зла. Возможен и более широкий взгляд: сколько добрых начинаний, добрых идей и лозунгов было обесценено или обращено во зло теми, кто вливался в движение и толковал идеи и лозунги. Пролито немало крови также во имя Бога, в том числе христианского, с его заповедью «не убий». Размышления в этом направлении склонили меня к выводу, что особое внимание нужно обращать на то, как личности и коллективы людей в конкретной ситуации истолковывают и используют изобретения, идеи, лозунги, теории. Такой подход я позже назвал термином «контекстуализм».
* * *
Начало пути. Стугна — река моего детства: весной и иногда даже поздней осенью она выходила из берегов и широко разливалась; слово «половодье» и сегодня отзывается в моей памяти шумом её весенних вод. Возле этой узенькой летописной реки и приютилась Тарасовка. В ней было только две улицы. Они бежали в узком пространстве между Стугной, с её низким болотистым берегом, и дубравой, расположенной на ступенчатых террасах, которые поднимались на юг, в сторону Обухова. А село Старые Безрадичи (как и Новые) ютилось у крутых склонов, которые, повернув от Днепра на запад, тянулись над бассейном Стугны. Часть хат разбросана внизу на берегах, другие — на склонах и пологих холмах. Эти глинистые склоны и холмы, поросшие дерезой, с их пропастями, привлекали нас, школьников: мы представляли, что они скрывают какие-то тайны. Этот уголок земли на правом берегу Днепра возле Киева и вправду имеет долгую память: Триполье, Подгорцы, Стугна и даже Старые Безрадичи (со своим городищем) известны каждому историку Украины. Это, конечно, не единственное место в Украине, которое имеет долгую память. В мире же многие земли имеют значительно более долгую. Но эта земля между Стугной и Днепром говорила со мной с детства: её слово было первым.
Это и есть место, которое означает начало Пути. Пути, в который сельские девушки и юноши отправлялись с «рушником». Рушник, воспетый моим земляком-поэтом, не только символизирует дорогу, а прежде всего причастность к культурной традиции — тому самому ценному дару, который мы можем принять от предыдущих поколений. Впечатления детства — это для нас «перстень юности», «свеча белая», что будет гореть «на дне ночей». Их нельзя воссоздать в их первоначальном смысле: они манят нас своей игрой, призывая разгадывать их скрытые смыслы. Они брошены нам в душу как тема для импровизаций.
Ти мій забутий сон, моє видіння,
відкритим світом перше милування,
забутих мрій чарівне колисання,
пречистих луків золоте світіння.
Жизнь человека напоминает поток, оставляющий следы-впечатления: они меняют угол зрения и цвет того луча, в свете которого мы видим свои прежние переживания. И это означает непрерывное переосмысление в потоке нашего опыта. И всё же игра смыслов в ранее пережитом сохраняет для нас свою прелесть. К тому же их призыв склоняет к выбору и делает жизнь динамичной. Это даёт ключ для понимания этих воспоминаний: они не исповедальные, «регрессивные» (если воспользоваться термином Поля Рикёра). Они не нацелены на то, чтобы за вспышками прозрений, озарений или идеализаций открыть скрытые желания. Как «настоящую» реальность. Скорее наоборот, в наших прошлых впечатлениях и переживаниях для нас дороги намёки на смысл, которые мы можем подхватить и артикулировать в некоторой смысловой перспективе.
Следует также сказать об отношении к прошлому под углом зрения его неоднородности. Поскольку в этих воспоминаниях имперская и коммунистическая идеология и соответствующая политическая система преимущественно являются объектом негативной оценки и осуждения, то не хотел бы, чтобы это склоняло к недооценке тех элементов или практик, которые и в нашем современном осмыслении заслуживают положительной оценки. Ведь эта часть опыта может быть использована в современном культурном и государственном строительстве. При наличии соответствующей воли. Как эти элементы сосуществовали или были связаны с тогдашней идеологией и политической практикой — другой вопрос.
* * *
Земли лесостепи далеко не так плодородны, как чернозёмные степи, всё шире раскинувшиеся к югу от Обухова. Почвы лесостепи разнообразны — местами песчаные и, следовательно, бедные. В обширном бассейне Днепра это преимущественно песчаные наносы, часто по соседству с болотистыми низинами, покрытыми кое-где слоем торфа. Тарасовка как раз и расположена на таком песчаном склоне, который от берегов над Стугной постепенно поднимается на юг, переходя около Обухова в песчаное поле. Поэтому огороды на Верхней улице преимущественно песчаные, бедные. Они требуют удобрения и полива. На нижней улице Тарасовки низинная часть огородов, которая постепенно переходила в болото над Стугной, называлась «берегами». Почвы в конце огородов, в берегах, были плодороднее. Берега — для меня не только низинная земля, а утренние туманы и искрящиеся росы на лугах, вечерние хоры лягушек, дуновение влажного ветра, насыщенного запахом трав, огурцов и свекольной ботвы.
Весной из Тарасовки в семилетнюю школу в Старых Безрадичах нельзя было добраться напрямик, через кладку: нужно было идти через мост — той старой, «верхней» киевской дорогой, заасфальтированной только в середине 90-х годов. В годы моего детства эта дорога лишь на небольших расстояниях была вымощена серым камнем. Образ «битого» шляха, ведущего в большой мир, в моей памяти соединён с этим серым камнем. Битый шлях в моём воображении (да и в украинском фольклоре тоже) — путь в мир, полный опасностей.
На холмах и крутых склонах, к которым лепились Новые и Старые Безрадичи, издавна были расположены кладбища. На своём пути в школу мы проходили мимо холма, на котором было бывшее кладбище в Старых Безрадичах: часть его обвалилась; на скале, зависшей над дорогой, белел череп на жёлтом фоне глины. Как знак, напоминавший о поколениях, ходивших этими путями. Мне казалось, что я слышал их шаги и гомон: «припади ухом к земле — идут». Дальше на запад над ложем Стугны в этой гряде холмов выделялся один, отделённый от других, с почти отвесными склонами — Безрадичское городище. Городище — знак сопротивления: встав на его «валах», мы «видели», как оттуда, с юга, мчатся татарские кони, «слышали» их ржание и возгласы защитников городища.
* * *
Глина. Глинистые холмы и склоны манили нас, школьников, и некоторые из нас, среди которых был и автор этих воспоминаний, вместо того, чтобы в конце весны в тёплые дни сидеть в школе, обследовали жёлтые глинистые провалы и пещеры. Метафора глины, символ глины и вся изменчивость смыслов этого символа накладывалась потом на эти мои первые впечатления. Символ глины в самых разнообразных смысловых оттенках — в том числе и в понимании Св. Августина, который в «Исповеди» говорит о «глине моего существа» — является одним из важных в европейской культурной традиции. Он нашёл своё художественное осмысление также в украинской поэзии (Тычина, Драч). Ощущение сырости, аморфности глины в самом себе и в своём окружении стало источником моей высокой оценки формы: высказывание Бердяева об оформленности западного человека и аморфности русской души (как следствие «необъятных просторов») напомнило мне об источниках моего раннего, ещё только подсознательного, противостояния этой неопределённости и аморфности. Сломленность людей, их искалеченность (физическая, а особенно духовная), безволие — я стал мыслить сквозь метафору глины.
Это разветвлённая тема средиземноморско-европейской философской традиции, которую обозначают парами противопоставлений: материя-форма, возможность-действие. С одной стороны, бесформенная пассивная материя как ничто, как только возможность бытия, с другой — активная форма. Бог как источник всех смыслов-форм и человеческое действие как источник смысла. В теологической версии бесконечная и неопределённая духовная субстанция, частицу которой мы несём в себе как дар нашего Творца, — это ещё только способность «услышать» слово Божье как источник смысла. Дар Божий или благодать Божья двойственны — как наша способность к осмысленной жизни и как Слово — путь к смыслу. Это Слово называют Законом Божьим, как прообраз любого закона, созданного людьми. Оба компонента — дар как способность (как возможность духовной жизни) и дар как Слово или Закон (без которого способность остаётся чем-то неопределённым) — равно важны. Это указывает на то, что в известном различении благодати и закона, заложенном в украинской интеллектуальной традиции Иларионом (несмотря на возможные разночтения этого различения), основное направление моего философского «стиля» заключается в смещении акцента на оформление личной и общественной жизни, на институты, в том числе на Закон. Хотя дух (или софийность) должен питать закон, но без закона, без воплощения в земных формах жизни дух бездеятелен.
Культура как совокупность институтов, формирующих человека, и смыслотворческое действие и воля как источник всех форм и переоформлений — это акцент скорее на действии и на творчестве в противовес только возможности. Ибо благодать часто понимают как только неопределённую в своих бесконечных атрибутах духовную субстанцию. По крайней мере, это смещение акцента на действие безопасно, пока не появляется угроза в виде бездумного активизма. Или же другая угроза: когда материал, который «оформляют», мыслят как безмолвный, а разум — как формотворческий фактор, как источник всех смыслов.
Только что очерченной теологической версии соответствует светская. Человек обладает природным «даром», способностью усваивать язык (и, следовательно, смысл), а шире — культуру. С другой же стороны, человек, в соответствии со своей природой (как неполноценное «животное»), нуждается в ценности — то есть в правиле, законе. «Дар» природы в этой светской версии остаётся только способностью, возможностью стать человеком. Эта возможность осуществляется путём усвоения другого дара — культурной традиции как чего-то переданного нам. Однако любая «материя» не является полностью пассивной: она имеет свои источники активности и свою «память». Поэтому любое «оформление» является лишь «переоформлением». Если вместо слова «оформление» (как слишком механического) говорить об осмыслении и переосмыслении, то намёк на память указывает на внимание к тому смыслу, который содержит в себе традиция. Не «услышав», что она говорит, мы обедняем ресурсы нашего творчества — в том числе в появлении новых смыслов и ценностей. Одним словом, «глина», как символ материи, не является абсолютно безмолвной.
Наверное, моё юношеское впечатление от неопределённости, аморфности можно понять, только принимая во внимание тогдашнюю духовную ситуацию украинской жизни. Имею в виду тот факт, что фрагменты традиции, которые содержала общественная среда, не были включены в новое смыслотворческое действие, чтобы стать основой тех общественных ценностей, которые были бы способны противостоять наступлению абсурда и хаоса. Потом у Б.-И. Антонича я нашёл созвучие с этим впечатлением: «Задума — не задума, смуток і не смуток. Це на країні цій трагічна папілома». Антонич здесь лишь подхватил начатую Шевченко тему сна и будущего пробуждения ограбленных. Ограбленных прежде всего культурно и духовно: позволив себя обокрасть в своей покорности, в своей неспособности защитить себя действием, пробудившиеся проявляют своё пробуждение в гневе и бунте.
* * *
Дубрава. В Тарасовке в годы моего детства (как и теперь) было две улицы: одну звали «Верхней», другую «Нижней». Уже во время моего пребывания в лагерях одну из них назвали «имени Тараса Шевченко», другую — «имени Александра Пушкина», для укрепления дружбы народов. Улицы с двумя рядами хат по обе стороны, крытых в послевоенные годы преимущественно соломой, в основном сделанных «в закидку» (разве что сени кое-где были сделаны «в сруб»). Дворы возле хат поросшие спорышом, подорожником и травой, огороженные плетнём, жердями, изредка дощатым забором. Перед домом цветы — «виргинии» (георгины), космеи, пионы, любисток. Вокруг хат сады — вишни, сливы, груши, яблони. За дворами и садами — огороды (после войны каждому хозяину, работавшему в колхозе, полагалось иметь 60 соток).
Огороды Верхней улицы заканчивались почти у рва, отделявшего дубраву от огородов. Тропинка от нашей хаты, бежавшая посреди огорода, вела через ров в дубраву. Дубрава — содружество дубов, сосен, груш, берёз, орешника, боярышника, «байбориса» — во времена моей юности была частью моего мироощущения. Ранней весной наступал день, когда доносился еле слышный ветерок оживших ветвей, и душа в ответ отзывалась пробуждением надежд:
Дібровонько, знов чується твій поклик,
передвесняні шепоти-зітхання,
гілок до гілок перший дружній доторк,
забутих мрій таємне оживання.
Между тем осенний суровый, даже угрюмый шум деревьев приземлял мысли и мечты: как всему живому, хотелось и себе найти уют и тепло в каком-то укрытии. Другие настроения навевал бор: бором называли сосновый лес между Новыми Безрадичами (хутором Пески) и Козином — он и сегодня широкой полосой тянется в сторону Подгорцев. Меня восхищал образ сломанных сосен в известной поэзии Яна Райниса (перевод Дмытра Павлычко), но тот мотив, который мне навевал бор, — не гордое противостояние, а дыхание вечности:
Твій шум, твій сум, стоїчний, споконвічний,
гук пралісу, віків незмірна велич,
в них приспіву звучить мотив трагічний
над гамором щоденним міст і селищ.
От дома через огород я выходил на лесные тропы, по которым в свои студенческие годы отправлялся в свои одинокие путешествия-раздумья (зимой — на лыжах). Эти путешествия стали одним из источников мотива одиночества. Одиночество — это спасение от усталости, источником которой является человеческий мир. До сих пор каждый украинский интеллигент, осознававший зависимость бытия народа от своего собственного выбора, сопротивлялся и сопротивляется тому нависшему «не быть». От этого никуда не деться: ибо «горстка нас. Малюсенькая щепотка». Теперь, правда, уже и не горстка, но меньшинство среди всей массы интеллигенции (которая всё ещё «не определилась»). Которой не хватает позиции и воли. Часто душа ищет спасения в том, чтобы отвернуться от этого непрекращающегося сопротивления, от этого противостояния. Отвернуться хоть на какое-то время, чтобы слышать только шум деревьев и дыхание вечности. Одиночество — хорошее лекарство, но временное.
* * *
Лес для меня, сельского парня, был также местом труда. В течение некоторого времени здесь разрешали пасти коров. Было нелегко стеречь их между деревьями, чтобы какая-нибудь не отбилась от стада и не забралась в чей-то огород. Стадо, по принятому обычаю, пасли по очереди двое пастухов. После войны в Тарасовке было два таких стада. В Тарасовке, как и в других сёлах в послевоенные годы, ещё в течение некоторого времени традиционно сохранялись общественные угодья (берега над Стугной, выгоны), где можно было пасти стадо. Потом (в 60-е годы) политика заключалась в том, чтобы отобрать у людей эти куски земли. Этот абсурд довели до того, что люди брали корову на привязь и крутились с ней по межам.
Лес был местом добычи дров. Жители Тарасовки, чаще всего женщины, прихватив грабли и рядна, шли в лес, чтобы сгребать сосновые «шпильки». Или же шли с корзинами и мешками собирать сосновые шишки. Другой способ: брали длинные жерди с прикреплёнными металлическими крючками на верхушке (эти жерди называли «ключками»), ломали сухие ветки и, связав их верёвкой, несли домой. С самых ранних моих детских лет и до окончания средней школы я был свидетелем затаённой войны между лесником, который почему-то запрещал ломать ветки, а то и сгребать хвою, и женщинами, которые упорно не соглашались сидеть зимой в холодной хате. Но самым тяжким преступлением, за которое полагалось платить большой штраф, была срезка деревьев — хотя бы даже сухих. Делали это мужчины: срезали иногда и засветло, переносили же в вечерние или утренние сумерки, а то и ночью. Лесник мог производить обыски и, если обнаруживал кражу, мог налагать штрафы.
Ещё до войны в Тарасовке произошла трагическая история во время одного из таких обысков у моего дяди Антона. Деталей её я не знаю, поскольку потом об этом никто не говорил. В нашей семье говорили об этом неохотно: мол, дядя в каком-то разговоре с лесником, видимо, в ответ на какие-то его угрозы, сказал, что если тот осмелится к нему прийти с обыском, то не выйдет из его двора. Но тот пренебрёг этим предостережением, и действительно не вышел — был вынесен мёртвым. Дядя Антон после этого где-то скрывался, позже явился «с повинной», был осуждён на много лет заключения. Никто в селе и нашей семье не оправдывал этот поступок дяди Антона. Но очень вероятно, что дядя, которому было присуще выраженное чувство собственного достоинства, хотел чувствовать себя хозяином в своём доме. Поскольку, как мне передали, он предупредил лесника, то это событие в моём воображении имеет признаки трагедии: в моём современном осмыслении оно приобрело символическое значение. Оно — последняя и отчаянная попытка Хозяина защитить последний остров своей независимости — свой дом. Это потом склонило меня подписать своё «Письмо к депутатам» псевдонимом «Антон Коваль». Но от внука дяди Антона я, уже после публикации этой главы, услышал уточнение моего рассказа. Из него следует, что лесник, которого дядя не допускал проводить обыск, ударил его в грудь, и тот упал. В ответ и в гневе от своего унижения дядя схватил топор и ударил его. В таком случае имеем то, что на юридическом языке означает превышение мер защиты себя и своего жилища от незаконного проникновения в него. И это действительно так: тогда никаких законных оснований для проведения обыска в сельской хате и дворе не предъявлялось.
Как и другие дети, я носил из леса шишки и хвою. Последний раз наносил этой хвои на всю зиму для матери, которая осталась одна. Это уже после окончания университета, когда был преподавателем философии в Тернопольском медицинском институте. Но где-то лет с двенадцати-тринадцати вынужден был добывать дрова тем, что залезал высоко на деревья с «ножовкой» (небольшой пилой) за поясом и срезал сухие ветки. Женщины и дети напрочь выскребали сухие ветки, опадавшие на землю, обламывали также длинными «ключками» и те, которые можно было достать на деревьях. Лезть нужно было высоко. Это было рискованно: коварными были сухие сучья, подгнившие внутри, а также сосны с их скользкой, слюдоподобной корой.
Потом, имея дело с распространением самиздата и рискуя потерять возможность заниматься интеллектуальным и преподавательским трудом (и подвергнуть свою больную мать непосильным тревогам), я в воображении возвращался к этим своим упражнениям на высоте. Этой готовности к риску части моего поколения («шестидесятников») был созвучен образ альпиниста в известной песне Владимира Высоцкого. Высота, на которой я держусь каким-то чудом, ценой сверхусилия, стала для меня повторяющимся сновидением в мои аспирантские годы (до времени заключения). В этом сне я держался руками за карниз высотного дома на Майдане Незалежности (расположенного почему-то напротив ступеней, ведущих к Октябрьскому дворцу): мои ноги вверху, голова между руками, которыми я держусь за карниз, с высоты 10–15-этажного дома я вижу внизу серую брусчатку.
* * *
К востоку от Тарасовки, немного ниже по течению Стугны, было расположено болото, которое называли «Гощев». Оно осталось во мне картинкой животворного брожения соков земли и трав — брожения, которое «життя праформи творить». В основном дети накануне Троицы вырывали в Гощеве, по колено в воде, из илистого дна, стебли «татарского зелья» (так в сёлах под Киевом называли аир — иначе, «царь-зелье», как его называют в некоторых степных сёлах).
Во дворе возле нашей хаты росли две большие раскидистые груши-дички. Деревья, кусты и цветы качали нашу хату в своих зелёных ладонях, как птичье гнездо. В этой зелёной роскоши прошли мои годы до окончания средней школы.
Моя «малая родина», если говорить о природе, — это не столько Киевщина (потому что её границы скорее формальны), сколько лесостепь: её разнообразие — холмы, овраги, провалы, берега, луга, болота, наносы песка, поля, дубравы, боры. Мне кажется (точнее, хотелось бы, чтобы так было), природа как-то причастна к моему образу мышления, которому я, на последних курсах университета, начал отдавать предпочтение. Имею в виду свою симпатию к аналитической философии: ценность различений, уточнений, смысловых нюансов, контекстов — в противовес общему, общей идее или метафоре.
Основная часть моих попыток (скорее попыток, чем достижений), была нацелена на возведение строения, хорошо привязанного к земле. Чтобы двигаться вверх, строя ступеньку за ступенькой, а не мгновенным вознесением на вершину. На самом же деле метафорический и аналитический стиль в философии скорее дополняют друг друга. Пусть иногда путём конкуренции и взаимной критики. Речь идёт о соотношении между истинами, которые способен открывать только разум, и теми, что доступны лишь чувству, «сердцу» (Блез Паскаль). Первые античные философы писали свои трактаты в поэтическом стиле. Это правда, что эти стили нелегко совместить в одном тексте, потому что тогда происходит «смешение стилей», по выражению Евгения Сверстюка. В степях, куда так влечёт мою жену Веру (она родом из Кагарлыка — тоже Киевщина), должны рождаться поэты, последователи платоновского идеализма или теологи. Там небо слишком близко, оно забирает: ещё мгновение — и ты летишь.
Годы моего детства — детства того поколения, которое ушло в «широкий мир» из села, — имели свои счастливые преимущества: природа, воля, шумные детские игры на выгоне, купание в Стугне (в ней однажды чуть не утонул, спас один из сельских мальчишек), ещё живые обычаи народа с очарованием мифов и легенд. Но сквозь это буйство зелени, сквозь разнообразие лесостепи и поэзию обычаев прокладывало себе дорогу время — история украинского народа.
2. История
Когда от описания природы переходишь к намерению отдёрнуть занавес перед картинами истории, рука не решается. Слишком резкий контраст, известный не только из стихов Шевченко. Он стал будто проклятием — вековые страдания народа среди роскоши природы, на этой плодородной земле. Каждому, кто пытался или пытается осмыслить украинскую историю, это — наболевшая тема. Горько осознавать, что народ на протяжении столетий так и не смог воспользоваться своим преимуществом — преимуществом, которое требует, казалось бы, совсем немного: стать хозяином в собственном доме. Но для этого народ должен усвоить понимание себя как субъекта истории, выработать (через свою культурную элиту) основу для своего единства, понять, что его жизненный мир (культурная самобытность) это не просто прихоть поэтов, а основа его способности быть самим собой. И сегодня он в подавляющем своём большинстве ещё не понял этих простых истин — истин, которые другие европейские народы усвоили в XVIII–XIX вв.
История для украинского народа — нечто, что врывалось в жизнь людей как стихия, как посторонняя и чужая сила. Можно, конечно, указывать на периоды созидания истории, возведения здания, которое обозначало культурное пространство: когда люди способны были и строить, и защищать свой «дом бытия». Достаточно хотя бы вспомнить Петра Могилу и его академию или культурный ренессанс первой четверти XX в. Но преимущественно, и в течение нескольких последних столетий, украинская история — это натиск чужих событий и сил, которые рассекали любую преемственность, любое строительство. Никак не могло появиться пространство, обозначенное ценностями, когда слово «ценность» (укр. "вартість"), вопреки его ближайшей этимологии, следовало бы понимать как родственное слову «стража» (укр. "варта") — с теми символами, что означают культурную идентичность, с оберегами, что защищают народ от размывания, от исчезновения. Без таких оберегов народ становится глиной, которую месит история, вылепливая чудовищ и призраков. На ветрах, которые гонят людей в безвестность, одурманенных, бездомных и безликих. И слышны лишь насилие и проклятия.
Всё же в этом отношении история украинского народа не является исключением. Список трагедий других этносов был бы слишком длинным. Но жалобы на историю и обвинения посторонней силы не означают новой перспективы — выхода из заколдованного круга. Здесь бессильно и отсечение истории, которую «нельзя читать без брома» (ибо забвение не лекарство), и постоянное возвращение к боли как конечной остановке. Только обретение новой жизненной перспективы в принятии и почитании духовных ценностей, которые стали бы составляющей национального самосознания, делает прошлое источником современного смысла. Хотя никак не оправдывает ужасов прошлого.
Пока народ не чувствует силы осуществлять исторические выборы, зависящие от него самого, пока он не наполнил смыслом своё современное существование, он будет возвращаться в прошлое как в нечто самодостаточное в его безысходности. Потому что это прошлое живёт в настоящем. И сегодня бытию некоторых малых этносов, даже хорошо сплочённых на основе общей культуры, может угрожать смертельная опасность от более сильных чужаков (чеченцы только первый, но не единственный пример). Но украинцы не являются малым народом, который не мог бы себя защитить. Более того, они, как и другие народы, подвергшиеся в прошлом физическому геноциду и культурной ассимиляции, могли бы стать влиятельной силой в международных отношениях в защите этносов, находящихся под угрозой. И эта этическая перспектива придала бы определённый смысл пережитым в прошлом трагедиям. Могла бы, если бы вопрос сохранения культурной идентичности (а в определённой мере, даже физического выживания) не стоял и сегодня перед украинцами. Они и сегодня всё ещё на распутье: возрождать и сохранять им культурную идентичность, или, может, лучше исчезнуть, раз уж так распорядилась история.
* * *
Коллективизация. «Коллективизация» (отъём земли у крестьян государством) привела к тому, что лучшие полевые земли у людей забрали. По рассказам, в 1924-м году семья Лесовых — мой дед Пётр и четыре его сына (младший из них — мой отец Семён и его братья Мусий, Савва и Антон) поселились на хуторе Тарасовка. Следовательно, Лесовые до того не жили под лесом (может, когда-то жили в лесу или вблизи леса, но воспоминание об этом не сохранилось). Они переселились в Тарасовку из Старых Безрадичей. Мой отец и три его брата, мои дяди, перед коллективизацией имели какое-то количество гектаров полевых земель. Лесостепь, как свидетельствует само её название, кроме болот, лесов, возвышенностей и оврагов (с обрывами или провалами) состоит также из полей, которые большими или меньшими лоскутами вкраплены в её разнообразный рельеф. Братья, видимо, рассчитывали, что и впредь будут владеть этими полевыми землями — в дополнение к бедным, песчаным землям в Тарасовке, куда переселились. Ведь хорошее для жизни место: сухое, открытое, виден восток и запад солнца, возле леса... Мне, как и многим другим людям, нравится ощущать этот торжественный миг — встречать восход солнца и прощаться с ним. Во многих из нас живёт солнцепоклонник.
После переселения в Тарасовку мой отец со своими братьями построили свои хаты в ряд на нижней улице, но перед войной (в 1932 г.) наша хата сгорела. Пожар случился, когда мой дед Пётр остался с детьми дома, а отец и мать были на работе. Мать работала на «посадках» (полола «в лесничестве» молодые деревца), оттуда увидела пожар. Мать — испуганная тем, что в хате остались дети (дед Пётр должен был гнать коров на пастбище) — со всех ног бежала, наверное, километра два; не добежав до горящей хаты метров двести, упала без сознания.
Хату, в которой я родился, родители купили у тёти Василины (сестры матери), муж которой, дядя Григорий, работал в Киеве, когда они эту хату строили. В Киеве дядя доставал строительные материалы. И поэтому наша хата, как на то время, имела несколько лучший вид по сравнению с другими: была крыта жестью, имела фигурные наличники на окнах и дверях, окна были двустворчатые, их можно было открывать, двери между комнатами были также двустворчатые, фигурные. Пол же в хате был глиняный. Но мать была недовольна нашей новой хатой: она была сделана не так фундаментально, значительно холоднее, — в частности, и потому, что была крыта не соломой, а металлом. Потом нам, детям, с больной матерью пришлось натерпеться в этой хате от холода и от протекающей крыши. Было уже и так, что негде было спрятаться от капающей с потолка воды. Но это было уже тогда, когда отца не стало.
* * *
Мои родные. В самом полном своём составе (со всеми живыми на конец 1942 г.) наша семья насчитывала восьмерых: мать, записанная в свидетельстве Евфросинией (род. 1904 г.), отец, Лесовой Семён Петрович (1904 г. рожд.), четыре сына и две дочери. Братья: Пётр (1923 г. рожд.), Павел (1926 г. рожд.), Фёдор (1933 г. рожд.); сёстры: Галя (вероятно, 1939 г. рожд., умерла в 1944 г.), Люба (1942 г. рожд.). У матери было две сестры — старшая Федора и младшая Василина. Василина — с моим дядей Григорием и детьми (сыном Иваном и дочерью Олей) — переселилась в 1932 г. в Киев. Жила тётя Василина с детьми (дядя Григорий умер в 1936 г.) в мои студенческие и аспирантские времена на Печерске, на ул. Немировича-Данченко (бывшая Малошияновская). Сегодня на этом месте Киевский университет технологии и дизайна (бывший Институт лёгкой промышленности). Я ещё упомяну эту квартиру потом в связи с распространением самиздата. Не помню я своей бабушки по отцовской линии — жены деда Петра. Я перечислил здесь всё наше семейство, потому что дальше в тех или иных эпизодах буду вспоминать своих родных.
Жизненные судьбы моих родственников, собранные в пучок, в значительной мере освещают драматическую историю украинского крестьянства в XX в. Они дали мне реальные типы, которые облегчили возможность увидеть культурное строение сельского, а вместе с тем и украинского бытия. Моя мать, тётя Федора и моя двоюродная тётя Марина значат для меня Украину, недосягаемую ни для бывшей российской, ни для новой власти, — Украину самодостаточную в своей духовности, ладе и обычаях. Эта самодостаточность была аполитичной, а потому ограниченной. Но потенциально она содержала в себе силу, способную, при благоприятных обстоятельствах, стать основой политического движения — как это проявилось в 17–20-х годах. Погружённость в этнокультуру и в народное христианство — и отсюда этическая независимость и неуступчивость, опора на себя в борьбе за выживание — важнейшие признаки этого мира. Действительно, этот мир исчезал, уходили люди, которые несли его в себе. В брежневские времена в обществе стал преобладать новый тип человека. Человека, который ради материальных благ согласен был отказаться от любых этических установок — лишь бы пропихнуться как можно ближе к начальству, к «лакомству несчастному». Это несмотря на то, что уровень жизни стал выше. Мы свидетели, что этот процесс не только получил своё продолжение уже в независимой Украине, но и в какой-то мере даже углубился. Популярным стало слово «коррупция».
* * *
Как и другие крестьяне — после раздела помещичьих земель и узаконивания этого земельного передела, — мои дяди бросились хозяйствовать. Имея к тому же способности, они приобрели технику: ещё после войны я находил её остатки возле дома. Но моя память сохранила также поразительное зрелище этой техники, свезённой на колхозный двор в Тарасовке (в долине за Тарасовским кладбищем). На холме над этой долиной стояла ветряная мельница, мы иногда играли возле неё. Внизу же нашему взору открывалось зрелище этой техники, так и оставленной ржаветь под дождём: кладбище человеческих надежд.
Перечитывая и редактируя этот свой текст, задним числом замечу, что песчаный холм, на котором стояла мельница, сегодня полностью исчез. Его разобрали новые застройщики, преимущественно «дачники», для своих «коттеджей». Известно, что они в основном огораживаются высокими бетонными стенами и не склонны к общению с местными крестьянами. Это особенно бросается в глаза в сёлах вблизи Киева. Да и дети старожилов после войны в основном старались переселиться в Киев или другие города. Интенсивность этих переселений нарастала: опустение сёл в Украине — зримое явление. Политическая система не дала возможности крестьянам стать зажиточными фермерами на своих землях.
И всё же, наверное, вплоть до конца 40-х в частном пользовании дяди Саввы оставался «привод» — механизм, который позволял впрягать лошадей, чтобы вращать ось веялки или какого-то другого устройства. Я наблюдал, как лошади ходят по кругу перед сараем, а люди в сарае засыпают и отбирают провеянное зерно. Не припоминаю, чтобы кто-то объяснял, почему этот привод не был отобран. У дяди же Антона была маслобойня: огромное бревно с прессом для отжима зерна. Она находилась прямо в хате — в горнице, а на кухне стояла плита для прожаривания семян. Для детей выбивание масла было интересным событием: если семенами были семечки подсолнечника (а не рыжик или рапс), то обычай позволял детям, незаметно от взрослых, выхватывать с плиты прожаренные семена.
У дяди Антона сохранилась также кузница. Она так и оставалась у него до конца его трудовой жизни. Иногда мне удавалось видеть его за работой — как он вручную с помощью мехов раздувал горн. В младшие школьные годы я также занимался кузнечным ремеслом: в своём дворе под грушей клепал для девочек (моей сестрички и соседской девочки) игрушечные ножи, ухваты, серпы и кочерги... Война оставила после себя металл. Тело войны представало в моём воображении образом гигантского зелёного чудовища, похожего на ящерицу: оно разрушало всё на своём пути, оставляя металл, свой помёт.
Один из механизмов, которым владел дядя Антон, — ручная мельница. Не знаю, каковы были конструкции других ручных мельниц (думаю, что примерно такие же), но очень нелегко было крутить рукоятку, чтобы смолоть пусть даже два ковша зерна. На ней мне, ещё подростку, со своей больной матерью пришлось познать цену куска хлеба. Ещё в начале 50-х ветряные мельницы всё ещё стояли на холмах: одна в Тарасовке и, наверное, штуки три виднелись на севере, на горизонтах, если смотреть на них из низинного ложа Стугны. Взмахи их крыльев призывали к полёту за горизонты. Как некоторые духовно близкие мне люди-односельчане, я с грустью воспринял исчезновение ветряных мельниц на горизонтах: их разобрали на дрова. С такой же грустью люди воспринимали горизонты, с которых внезапно исчезли (в 30-е годы) купола Ново-Безрадичской церкви (её взорвали).
К ветряным мельницам люди шли, когда нужно было смолоть мешок или хотя бы полмешка; за это мельнику нужно было заплатить «мерку» (ковш или два муки). Чтобы смолоть небольшое количество зерна (а чаще зерна было немного), выручала ручная мельница. Ручная мельница относится к общим впечатлениям моего поколения. Лучше всего это выразил Симоненко (как и некоторые другие общие впечатления и переживания сельской молодёжи послевоенного поколения).
Как я запомнил из рассказов, существовала угроза «раскулачивания» для моего отца и его братьев. Выручил какой-то человек, который подбросил мысль, что эти четыре брата Лесовых, хозяйствуя вместе, тем самым положили начало первому сельскому кооперативу. Вполне вероятно, что эту полуправду мог и вправду кто-то использовать как пример тяготения трудового крестьянства к социалистическим способам хозяйствования. Всё же, как могу судить по рассказам моей матери, мой отец (в отличие от матери) сначала благосклонно отнёсся к идее колхозов. И когда был объявлен временный «отбой» в насильственной коллективизации (с этим связана публикация в «Правде» статьи Сталина «Головокружение от успехов»), именно мать притащила из колхоза телегу, а потом привела коня.
Только потом я узнал (из литературы) о кооперативном движении — том, что напугало большевиков. Такой социализм был реальной альтернативой большевистскому. Ленин почувствовал угрозу со стороны кооперативного движения, большевики бросились уничтожать кооперативы, которые начали печатать украинские книги, основывать кассы взаимопомощи и т. п. Но обман народа социалистической фразой стал основным идеологическим оружием. Всё же сначала эта демагогия не достигала желаемого: сопротивление коллективизации — подтверждение тому.
Может, мой отец и вправду испытал влияние того послереволюционного громадского социализма? Может, и так, но от притязаний и борьбы наших отцов, до нас, молодёжи послевоенного поколения, дошли только отголоски. Рассказывать о борьбе за независимую Украину, борьбе против военного коммунизма и сопротивлении коллективизации и раскулачиванию стало опасно. Настали не те времена. Ближайшую историю отсекли, она стала нереальной.
* * *
Мне не довелось выяснить, сколько человек подверглось «раскулачиванию» в селе Старые Безрадичи. Интереснее для меня были отзывы крестьян на это событие. Большинство жалели «раскулаченных» за их трудолюбие и хорошее отношение к людям. К таким, которые в литературе «социалистического реализма» олицетворяли тип «кулака», относились исключения. Имею в виду жадных, стремившихся безоглядно эксплуатировать других («батраков»). Но образ раскулаченных — этих продуктов «исторической необходимости», которые должны были понести кару за ход истории, — всё время возникал в моём воображении:
Корчуваті дуби, згорблені понад шляхом.
Земляки – ви куди? Етап за етапом.
Хіба не було чути свободи дзвону,
Щоб знову від Славути аж до Сибіру гноєм?
С «раскулачиванием» связано много трагических историй. Одну из них пересказала мне моя племянница Галя Лесовая, дочь брата Петра. Галя всю жизнь проработала медсестрой в Октябрьской больнице: с ней у меня много общего в способе мироощущения и миропонимания. Она теперь часто и подолгу живёт в Безрадичах, в своём родительском доме. Она мне помогла кое-что уточнить или добавить отдельные детали в этих воспоминаниях.
Вот эта история. Жуку Иоакиму, дедушке Галинки со стороны матери, принадлежала ветряная мельница и поле на Горе, местности в Старых Безрадичах. Когда же Иоакиму сказали, что его «раскулачили», он встал ночью и поджёг мельницу. Утром его жена Химка вышла на улицу и увидела, что горит их мельница:
— Иоаким, наша мельница горит.
— Пусть, Химка, горит, — услышала в ответ.
Возможно, в тот же день, а возможно, несколько дней спустя, Иоаким, пребывавший всё в том же состоянии отчаяния, пошёл поить коня и заодно принести воды в хату (колодец был в Четырках — название местности). Конь вернулся, ржёт, а Иоакима нет. Пришли к колодцу и увидели его утонувшим. Только прошлое знает истину — было это самоубийство или несчастный случай.
* * *
Война. Чтобы внести какой-то порядок в это повествование, обращусь к картинкам, за пределы которых моя память не досягает. Как я ни пытался извлечь из глубин памяти какие-либо впечатления до начала войны, от того остались разве что какие-то тени, неясные, похожие на сновидения. Не раз я пробовал для себя выяснить, является ли картина, в которой я (якобы маленьким мальчиком) иду в темноте и вижу на горизонте зарево пожара, воспоминанием или только сновидением. И почему это зрелище всплывало из глубин моей памяти (или снилось мне) снова и снова? А между тем картины войны, начиная со вступления немецких войск в село, предстают в памяти чётко и ясно.
Вижу себя в небольшой шеренге мальчишек на обочине улицы, по которой движется колонна немецкого войска. Помню — произнёс слово «фрицы» и тут же услышал предостережение одного из более мудрых среди нас. Со вступления немецких войск в село (а они, по известным причинам, вступали без боя) в памяти сохранилась картинка торжественного въезда мотоциклистов. Как раз эти передовые части немецких войск продемонстрировали наибольшее презрение к «туземцам». Это впечатление потом контрастировало с моим знакомством с немецкой культурой — немецкой философией, поэзией и языком (который и сегодня привлекает меня своей богатой корневой основой, и в этом похож на украинский). На самом же деле этот контраст только свидетельствует о том, что способна сделать с людьми злокачественная идеология.
Отношение моих родителей, как и большинства крестьян, к «оккупантам» было отчуждённо-холодным. Только некоторые из крестьян вступали с ними в какие-то отношения, чтобы, скажем, получить от них какую-нибудь «консерву» или сахар. Иначе и быть не могло: их воспринимали как чужих, а их высокомерие только увеличивало отчуждение. В противоположность этому солдат «советской» армии воспринимали как «своих»: да и они относились к крестьянам на освобождённых территориях как к своим. Это контрастирует с тем отношением к «освободителям», которое, уже в свете опыта 1939-го года, проявляло население Западной Украины. Конечно, отношение властной верхушки (в том числе какой-то части командования советской армии) к тем, кто находился на оккупированной территории, было иным. С другой стороны, отношение крестьян к «нашим» отнюдь нельзя отождествлять с отношением к «советской» власти. Ибо эта власть с самого начала вела непрерывную войну с той Украиной, которую, за неимением лучшего слова, называю «подпольной».
Подпольной называю Украину, которая, вопреки атеистической пропаганде, хранила иконы в домах, вышиванки в своих сундуках и портреты Шевченко на стенах своих хат. Это она была основой национального движения в 1917–1920 годах, она оказала сопротивление коллективизации, она была объектом мести — за то, что упорно существует. За то, что не принимает предложенного заменителя, официальной Украины, одно из назначений которой, чтобы украинская Украина исчезла. Потом я стал свидетелем того, как этой Украины становилось всё меньше, как сельские дети, соблазнённые более лёгкой городской жизнью, забывали её историю, её легенды, мифы, обычаи и язык. Конечно, им помогали забывать. Очень влиятельные силы помогают это делать и сегодня, обновляя технологии и идеологии. И сегодня каждый думающий украинец стоит перед выбором: быть Украине или нет. Я позже вспомню, как мне самому давался этот выбор.
Отношения подпольной Украины с властью были внешними и отчуждёнными. Думаю, иначе быть не могло: хотя бы только ввиду насильственной коллективизации и голода 33-го. Такую власть крестьяне не могли считать своей. Конечно, немецкую оккупационную власть воспринимали также как чужую. Презрение и грубость немцев были важной причиной, подталкивавшей людей к участию в партизанском движении. Один насильственный режим фашисты заменили другим. Сказанное объясняет отношение к немцам со стороны крестьян в более широком контексте — в контексте отношения к любой не своей власти. Снимали ли это отчуждение между народом и властью такие институты, как школа, система образования и пропаганды, скажу дальше.
И всё-таки мы, дети, несмотря на всяческие ужасы, находили в войне что-то новое, а следовательно, интересное. У нас появились игрушки — гильзы от патронов, фольга, красиво оформленные коробки, жестянки из-под консервов. Некоторые из этих игрушек обернулись для детей увечьем и смертью. Однажды я тоже принялся раскручивать голубенькую «лимонку». Брат Фёдор был неподалёку и со всех ног побежал ко мне и успел отобрать мою «игрушку». Эти «игрушки» в течение многих лет после войны убивали и калечили детей. Группа подростков (среди которых был и мой двоюродный брат Николай, сын тёти Федоры), пася коров в бору, принялись что-то делать, видимо, с авиационной бомбой: взрыв её услышали в селе, дети погибли.
В 1942 году наша семья увеличилась — родилась девочка. Назвали её Любой. Когда Любе было всего несколько месяцев, немцы решили разместить в нашей хате какой-то штаб. Они заняли две комнаты — горницу и спальню, а нам всем пришлось жить на кухне. Соседство штаба обернулось для нас неожиданной бедой. Один из немецких офицеров, как только маленькая Люба начинала плакать, хватал младенца, выбегал с ним из хаты и бросал его на землю. Мать, с криком отчаяния, выбегала во двор и подбирала сестру с земли. Повторение этого заставило мать искать какого-то спасения. Ей подсказали, что у наших соседей живёт какое-то высшее немецкое начальство; она отважилась обратиться с жалобой на офицера. Неожиданной была реакция — публичное наказание этого офицера, которое могли видеть соседи. Наказание странное: офицер должен был несколько раз проползти на четвереньках туда-сюда на какое-то расстояние по дороге. Но ещё более странным было то, что он не стал мстить нам за это своё унижение. Наоборот, время от времени он дарил девочке какие-нибудь сладости. Наверное, какие-то слова высшего офицера пробудили что-то человеческое в душе, озверевшей от фашистской идеологии.
Некоторые юноши и девушки, которым грозил вывоз в Германию, пытались прятаться. Мои братья Пётр и Павел тоже прятались, насколько помню, в пещерах где-то вблизи хутора Берёзовое (хутор села Старые Безрадичи). Память чётко сохранила картину прихода в нашу хату полицая. Он хлопал нагайкой по дверям и грубо, с руганью, потребовал от родителей выдать кого-то из двух братьев в Германию. Оккупационная власть заставляла семьи, в которых были юноши и девушки соответствующего возраста, выбирать одного, а то и двух, для вывоза в Германию. Укрывательство не помогало — полицаи знали состав каждой семьи. Моему старшему брату Петру выпала эта доля. Кроме того, две мои двоюродные сестры — Наталка (дочь дяди Антона) и Мария (дочь моей тёти Федоры) — также были вывезены в Германию. Известно, что тем, кто попадал к немецким фермерам, было легче. Значительно хуже было тем, кто работал на фабриках, а затем на строительстве оборонительных сооружений, рытье окопов и т.п. Петру и Наталке не суждено было попасть к фермерам.
Мне, уже после возвращения Петра домой, представился случай познакомиться с открытками, которые присылала Наталка Петру в Германию. Прикосновение к этим открыткам и их чтение — одно из особых впечатлений моей юности, впечатлений болезненных и невыразимых. Стихотворные послания этой Маруси Чурай — с их ностальгической лирикой, подсвеченной трагизмом — это образ или тень, которая до конца моих дней будет со мной. Наталка умерла в Германии, и предчувствие этого присутствовало в её открытках. Одна строфа из её стихов-песен всю жизнь звучала в моей памяти:
Прощай, любов, прощай, розлука,
прощайте, очі голубі,
прощай, те все, що вже минуло,
щоб не боліло на душі.
Теперь уже не соберёшь писем тех юношей и девушек, чтобы обнародовать эту трагическую страницу из жизни молодёжи, оторванной от Украины. Интересный факт, возможно, неизвестный нашим историкам, я узнал от своей двоюродной сестры Марии, дочери тёти Федоры. Некоторых юношей и девушек, вывезенных в Германию, после оккупации Восточной Германии, советский режим долго не отпускал домой, заставляя их обслуживать оккупационную власть (и строго запретив рассказывать об этом факте кому-либо). Марию с её мужем не отпускали домой в течение семи лет. Только в 90-е годы она отважилась рассказать об этом факте.
Во время отступления немецких войск в 1943 году я стал свидетелем последствий наших детских безрассудных действий — моих и соседской девочки Оли (дочери тёти Евги, хата которой была рядом с нашей). Оля крала у немцев какие-нибудь мелочи, куски мыла, например. Она отдавала эти мелкие вещи мне, а я прятал их. Моя память хранит картинку немца с автоматом, наставленным на девушку, и тётю Евгу на коленях с рыданиями и мольбами. Запомнил я также другое событие. Когда штаб из нашей хаты уже выбрался и из хаты были убраны все вещи, забежал какой-то немец, сорвал со стены портрет Гитлера, и сказал примерно так: «Сталин-Гитлер — дуц-дуц», тыкая себя пальцем в лоб. Остался ли потом жив этот человек, принуждённый стать винтиком в бессмысленной машинерии войны?
* * *
Довольно хорошо помню вступление в село советских войск. Они вступали с боем. Мы (мать с нами, детьми) во время боя прятались в погребе дяди Мусия. С нами не было только деда Петра. Наверное, он пас корову в лесу, чтобы её не забрали немцы при отступлении. Дед Пётр — высокий, коренастый, сильный мужчина — имел странную особенность пренебрегать предосторожностями. Во время каких-то обстрелов или бомбардировок, когда мы прятались хотя бы в подпечье, он мог спокойненько лежать на печи. Складывалось впечатление, что жужжание пуль для него значило не больше, чем жужжание мух. Не припоминаю, чтобы в погребе был с нами отец — думаю, он мог быть на своей водяной мельнице, которую он, вместе с несколькими другими крестьянами, построил на Стугне ещё до войны. Для этого они прокопали от Стугны в сторону Тарасовки канал: таким образом образовался небольшой рукав, на котором и стояла водяная мельница. Потом, во второй половине 40-х мы, дети, лазили в осмоленных отсеках этой на то время уже заброшенной и пришедшей в упадок мельницы.
Погреб дяди Мусия был относительно большим и сухим, и в нём собралось много людей — наших соседей с Верхней и Нижней улиц. Дядя Мусий, подвижный и непоседливый мужчина, среднего роста (только дядя Антон пошёл в деда Петра — высокий и статный), время от времени выбегал из погреба посмотреть «как там что». Я оказался самым беспокойным из всех в погребе. Свист снаряда вызывал у меня мучительное ожидание взрыва; нарастание этого свиста сливалось с моим криком. Так повторялось каждый раз. Как меня ни успокаивали, я не мог не кричать.
В погреб в течение боя заскакивали немцы и осматривали нас. Мы просидели в погребе, наверное, около суток. Бой шёл ночью. Ещё затемно, перед рассветом, немцы были выбиты из села. Кто-то объявил: «наши». Мы вышли из погреба и вошли в хату дяди Мусия. Солдаты забежали в хату и попросили что-нибудь поесть. Для них что-то нашлось, но потом снова несколько солдат, кажется, трое, обратились с тем же. Им нечего было дать. Моя мать предложила им пойти в нашу хату, где что-то осталось из еды. Так мы отправились в нашу хату. Но тут с запада через небо над нами полетели какие-то большие горящие шары. Солдаты крикнули нам, чтобы мы бежали за ними, мы же побежали в другую сторону, к хате дяди Антона. Так мы разбежались с солдатами в разные стороны. А на западе, на Нижней улице, всего через несколько домов от нас, пылала хата.
Отныне наша хата стала перенаселена солдатами. Ночью они лежали впритык и на полатях, и на полу. Когда мне нужно было выйти, я едва просовывал ноги между телами. Солдаты, которые лежали на полатях, качали зыбку с Любой, висевшую над ними. Шутили. Помню, какой-то офицер прикрепил к моей рубашке ромбовидный значок, сказав: «истребитель», и добавил: «молока».
Потом волна советских войск покатилась дальше. Но при отходе последних частей произошёл случай с моим братом Фёдором (которому на то время было 10 лет). В хвосте «наших» войск тянулась группа «тыловиков». Они обнаружили пропажу многоцветного фонарика и заподозрили, что его взял мой брат. Начались какие-то угрозы, смысла которых не помню. Зрительная память сохранила только такую же картину, какую уже видел в хате нашей соседки Евги. На этот раз на коленях с мольбами стояла моя мать. Насколько припоминаю, длились те мольбы долго. По крайней мере, в моей памяти они остались долгими и мучительными. Мольбы не подействовали: тыловики решили забрать подростка с собой. Затащили его на грузовик, но матери разрешили всё-таки поехать с ним. Только где-то вблизи Кагарлыка их отпустили.
Из села начали забирать в армию людей старшего и младшего возраста. Возрастные рамки были раздвинуты. Забрали отца и брата Павла. Нам посчастливилось ещё встретиться с Павлом. Он был возле зениток, расположенных в Киеве или на окраинах Киева. Ему пришлось стоять в холодной воде, он простудил ноги. Вследствие этого ему разрешили побыть несколько дней дома: отогревал ноги на печи; это была наша последняя встреча с ним вплоть до его возвращения из армии.
* * *
К тем, кого брали из сёл во время наступления, было особое отношение — находились ведь на оккупированной территории (не эвакуировались или не ушли в партизаны). Я убеждён, что если бы советские войска и не попали в окружение под Киевом, и если бы даже людям помогали эвакуироваться, большинство крестьян не согласилось бы оставить дома. Этим воспользовалось бы мизерное меньшинство, тесно связанное с властью. Среди них только немногие сделали бы это по убеждению, другие — из страха за свою жизнь. Я не думаю, что причину этого следует видеть в привязанности крестьянина к своему «хутору». Основная причина – свежие следы пережитых насилий, особенно недавно пережитого голодомора. После организованного голодомора только циник мог призывать крестьян быть патриотами. Даже насильник не поверил бы искренности того, кто сказал бы, что он этого не помнит или простил это.
Во всяком случае, набранных в только что «освобождённых» сёлах ждала очередная месть. Их, необученных, часто не переодетых в военную форму, бросали под пулемёты. Сегодня это известный факт. Говорили, что перед этим им давали выпить «для смелости». Теперь, конечно, трудно подсчитать число сознательно подставленных под пули в тех длинных списках «погибших смертью храбрых», имена которых мы читаем на стелах над братскими могилами в «освобождённых» сёлах. Впрочем, стоит ли и подсчитывать, если принять во внимание, как мало ценили «наши» «наши» жизни в этой войне.
Впрочем, это российская государственная традиция: обычные люди — это только материал. Если возникает необходимость жертвовать ими ради «высших целей», то такая жертва оправдана. Думать, насколько жертва необходима, или прилагать усилия, чтобы уменьшить число жертв, означает проявлять недопустимый для политика сентиментализм, недостаток твёрдости. Не Ленин первым ввёл эту политическую «этику»: она формировалась вместе с формированием российского государства. Легко можно проследить преемственность такой «политической культуры» через все периоды российской империи. Продолжением этой традиции, в обновлённом виде, является причастность значительной части современной украинской политической элиты к ограблению собственного народа. Без осознания этой традиции и отказа от её криминальной составляющей (а такой отказ предполагает формирование политической элиты с принципиально иной политической культурой) все сегодняшние разговоры о преодолении коррупции останутся только разговорами. Так же, как и разговоры о «борьбе» с бедностью.
Так что мой отец погиб «смертью храбрых», недалеко отойдя по степям Киевщины от родного дома — в селе Крутые Горбы на Киевщине. Хотя отец, как можно судить по рассказу мужчины из соседнего села (Слободы), действительно проявил храбрость. Когда этот мужчина был ранен, он забрал его от пулемёта (тем самым спас его) и заменил его за пулемётом. Помню, я сидел на печи, когда открылись двери, и мы, дети, услышали не рыдание, а крик смертельно раненого человека — нашей матери. Я начал также громко плакать, наверное, ещё и не поняв, что случилось. Слова матери «на кого он вас покинул» — стали сопровождением нашей жизни. Как и жизни многих других женщин или детей, независимо от того — нацисты или большевики обрекли матерей в одиночку бороться за выживание своих детей.
К осмыслению войны я возвращался снова и снова. Какие-то новые факты или оценки накладывались на мои детские впечатления. Важно было осмыслить эту войну не только в контексте мировой, а прежде всего в контексте украинской истории. Морально неоправданно смотреть на исторические события как на нечто от народа совершенно независимое — особенно от численно большого народа. Если бы украинцы, как поляки, в 17–20-х годах защитили свою независимость, появление в Восточной Европе ещё одного сильного демократического независимого государства могло бы изменить ход истории. Возможно, также и судьбу России. Существует доля истины в утверждении «без независимой демократической Украины не может быть демократической России» (если перефразировать известное высказывание Ленина). Во всяком случае, попытка силой удержать нерусские народы в одном государстве всегда будет источником антидемократических тенденций в России. Но в ходе Первой Мировой войны Запад не понял важности утверждения независимой демократической Украины: он был тогда далёк от продуманной на перспективу геополитической стратегии.
Психологически гибель моего отца, которого две тоталитарные системы убили совместными усилиями, придала моему отвращению к тоталитаризму личный мотив. Отсюда и острое неприятие риторики славословия, которая стала традиционным ритуалом, связанным с «освобождением» и победой (традиция, которую поддерживают и в независимой Украине). Не осмысление войны и природы тоталитаризма, а звучание победных фанфар. Конечно же, заслуживают уважения люди, прошедшие через горнило войны, глядя смерти в глаза. Но моё уважение и сочувствие к этим людям сочетались с горьким признанием, что, пройдя войну, они так и не смогли осмыслить пережитое (за редкими исключениями — Григоренко, Руденко, например!).
Мой ныне уже покойный двоюродный брат, сын дяди Мусия (тоже Василий), пролетавший на «кукурузнике» войну, мои переживания за судьбу Украины и её самобытной культуры охарактеризовал как «национализм», — разумеется, в негативном значении этого слова. И сегодня, к сожалению, большая часть бывших участников войны остаётся идеологическими сторонниками того «интернационализма», который является лишь личиной, скрывающей стереотипы русского шовинизма. Трудно сочетается в воображении и мышлении их опыт пережитого с этим бессилием в осмыслении пережитого. И меня, как и других шестидесятников, не покидало чувство долга осмыслить за них этот опыт стояния со смертью лицом к лицу в этой войне. Припоминаю, когда в лагере меня в очередной раз бросили в ШИЗО (штрафной изолятор), ко мне на «беседу» «пожаловал» майор Фёдоров. Учитывая его офицерское звание, я обратился примерно с такой тирадой: «Как Вы, офицер, можете участвовать в этих пытках политзаключённых, послушно выполняя распоряжения начальства? Неужели в Вашей памяти совершенно стёрлось, сколько солдат и офицеров ещё недавно в Отечественной войне стояло лицом к лицу со смертью и сколько из них погибло? Где Ваша офицерская честь и мужество? Я сын одного из погибших в этой войне. Неужели Вы думаете, что ради спасения своей жизни, или из страха перед могущественным тоталитарным государством, я должен забыть смерть своего отца и убежать с поля боя?» Так я попытался разбудить в нём чувство, которое называют словом «честь». Потом что-то мне не нравилось в этой моей риторике: во-первых, демагогическое использование своего статуса «сына погибшего смертью храбрых» (а что говорить сыновьям и дочерям погибших в рядах УПА?), во-вторых, кому адресовалась эта моя тирада (майора в лагере считали «конченым»).
И сегодня официальное празднование «побед» ничуть не поумнело. Официальная риторика упорно держится дешёвого популизма, подслащенного сентиментальностью и пафосом бездумной романтической героики. И стремлением подпитать стереотипы русского шовинизма тем упором на единение «советских» народов как залога победы. Чтобы и дальше уничтожать эти народы, их национальную идентичность, во имя единства. Вместо того, чтобы стать поводом для размышлений над природой тоталитаризма и русского шовинизма. И предотвратить их возвращение в новых модификациях — пусть в смягчённых и скрытых формах. Конечно, тут возникает вопрос, а кто заинтересован в том, чтобы люди были способны думать? Очевидно, не тот, кто хотел бы иметь народ, который легче обманывать и обкрадывать. И не русский шовинист и империалист, который исчезновение культурных различий между «братскими народами», так называемое «единообразие», считает важнейшим залогом единства. Тут вспоминается фраза Ивана Светличного, которую почти дословно можно передать так: вы думаете, что они там, наверху, «думают», но они не думают. Чтобы выразить своё отношение к бездумной патетике, я прибегал к публицистическому стилю речи:
Так легко напрошується зваба самовтіхи:
ми довели правоту і силу.
Стій! — відкинемо знову завісу,
щоб залишити правду сину.
Правду, омиту слізьми і кров’ю,
не ховаймось від її сяйва в гроти:
фашизм – це віра в свою ідею
і нищення всіх, хто проти.
…………………………………..
Чом би вам у світлі аналогій
на Отечество не глянуть свіжим зором.
Тож воно крізь галас демагогів
вам кричить насильством і терором.
Нехай істина і совість живить слово,
не патетика бездумна й тупіт ніг,
бо ж тоді той диктатури голос
перемогу вашу переміг.
Когда сегодня говорят о романтике (или пусть даже героике) диссидентского движения, то не всегда учитывают скрытые источники, из которых она произрастала. Ведь, кроме чисто культурных и интеллектуальных источников, каждый юноша и девушка, обладавшие моральным воображением, неминуемо должны были осмыслить это стояние лицом к лицу со смертью наших дедов и отцов. Неважно — были ли это мученики в застенках ЧК-ГПУ-НКВД-МГБ, или бойцы УПА, или солдаты «отечественной» войны, или всё это вместе взятое. В частности, движение сопротивления и связанная с ним философия экзистенциализма — это один из источников экзистенциальных мотивов в творчестве шестидесятников. Поколение духовно близких мне людей 60-х годов считало своим долгом осмыслить кровавый опыт и быть честным в своих выводах. Честность в выводах означала строгую зависимость собственного поведения от того смысла, который нам открывался. Это называют экзистенциальным пониманием истины и ценности.
Глава ІІ. Руина быта, обрывки традиции
1. Руина быта. Судьба братьев и сестёр
Мать. Итак, в 1944 году нас, трое детей, осталось с матерью: Люба, я и старший из нас, Фёдор, которому было 11. Началась борьба нашей матери за наше выживание. Несколько штрихов к портрету моей матери. Первое — это энергия, непреклонность в любой, даже безвыходной ситуации, нежелание отступать, впадать в отчаяние. Она упорно боролась за нашу жизнь. Но не любыми средствами. Ей было свойственно природное отвращение к тому, чтобы сделать хотя бы малейший жест заигрывания с сельским начальством (например, бригадиром), чтобы таким образом что-то для нас добыть. Это ещё было свойственно многим крестьянам того поколения, к которому она принадлежала. Вызывает удивление, как могла выжить эта порода людей, пережив все унижения, нацеленные на искоренение «характера» — чувства независимости и достоинства хлебороба. Я тут сказал о такой стороне материнской души, которая для меня осталась недостижимым идеалом. И всё же мне, склонному учитывать «диалектику жизни» (а это выражение содержит не только положительные коннотации), был важен этот образец её гордой самостоятельности.
Второй её профиль контрастирует с этим первым. Она имела тонкие, интеллигентные черты лица, обладала поэтической душой, выраженным эстетическим началом в отношении к миру. Но особенно очаровывала меня в ней, сохранённая вопреки всему, вера в добрую основу мира. Даже её надрывные усилия, чтобы обеспечить наше выживание, и двадцатилетние тяжкие физические страдания (которые она называла ласково «моя мученька») не убили этой веры. Ни обстоятельства жизни, ни физические страдания не смогли сломить эту важнейшую ось её духовности. Была ей свойственна, как и многим сельским людям её поколения, вера в доброту первых встречных. Это хорошо известная (а может, теперь уже забытая) черта сельского человека, самым ярким проявлением которой была попытка в городском транспорте заговорить с пассажирами. Доверчиво рассказывать о себе как хорошему знакомому. Странный контраст разных миров. В устройстве традиционной сельской культуры человек в каждом встречном видел собеседника, советчика и помощника. Такого, кому можно пожаловаться, получить понимание и поддержку. Эта открытость иногда подвергала мою мать горьким разочарованиям. Я объяснял матери, что ей попался недобрый человек. Конечно, можно понять городского жителя, у которого есть основания остерегаться в городской толпе очень нежелательных знакомств. Но это моё предложение объясняет далеко не всё. За ним остаётся нечто иное, более важное.
Мать, как могу судить по рассказам, была физически сильной, но в 1932 или 1933 перенесла тиф, которым заразилась, ухаживая за своей племянницей Александрой (Сашей). Хочу попутно заметить, что от тифа в 1933 году умер муж младшей сестры моей матери (Елены) Рожовец Илларион. Он работал на заводе «Арсенал» (Киев), а осенью 1933 года их послали в одно из сёл Киевской области на уборку урожая, он заразился тифом и умер. Голод, тиф, война, гибель мужа, усилия после войны уберечь нас — подорвали здоровье матери. И вот в моём воображении её сухонькая, просветлённая солнцем фигура, подвижная, привыкшая полагаться на себя, со старанием, до последнего дня жизни, самой заботиться о себе, быть аккуратной, чтобы не беспокоить других. И взгляд, в котором, освобождённый из плена страданий и теней пережитого, лучится свет добра и доверия к миру и людям.
* * *
После войны. И всё же не всех матери удалось спасти. Зимой 1944-го заболела наша Галя — видимо, гриппом, который дал осложнение: с тех пор я запомнил слово «менингит». Но очень вероятно, что смерть Гали стала следствием моего поступка. Случилось это так. Мать поместила детей — меня и моих сестричек — в спальне. Между спальней и горницей была груба, которая обогревала спальню. Дверь же на кухню, где стояла печь, закрыли: для обогрева всей хаты не хватало дров. Одним утром, когда лихорадка у Гали прошла и она пришла в сознание, я на радостях схватил её, открыл дверь кухни, чтобы показать матери. Только на какое-то мгновение я простоял с ней в открытых дверях: мать, с криком отчаяния, выхватила из моих рук ребёнка и закрыла дверь. Могло быть, что ухудшение состояния сестры и её смерть наступили вследствие моего безрассудного поступка.
1943–1947 годы были особенно тяжёлыми для матери, оставшейся с тремя малыми детьми. 1945 год не принёс изменений в её положение. К сожалению, старшие наши братья, которые могли бы помочь, в течение ещё нескольких лет не возвращались домой. Брата Петра освободили американцы, одели, накормили, предложили выбор: хочешь — возвращайся домой, хочешь — оставайся на Западе. Большинство молодёжи выбирало возвращение домой. Пётр тоже. Но он, как и многие другие, был наказан за своё пребывание в Германии. Отправлен на полиметаллические шахты Караганды, где вынужден был работать в течение двух лет. Павел, несмотря на свои два года, проведённые на фронте, должен был отслужить, кажется, два года в армии.
Основным средством спасения был огород (60 соток песчаной почвы) и корова. Мать прилагала чрезвычайные усилия, чтобы доставать сено. Это было нелегко. Его нужно было покупать. Она собирала молоко и делала ряженку. Раз в неделю выходила на Киевскую дорогу, где так называемые «калымщики» (шофёры грузовиков — преимущественно «полуторок» и «зисов») подрабатывали перевозкой людей в Киев. Они рассаживали их на деревянные скамейки в кузовах, а часто на дно кузова. Дороги тогда не были мощёными, не говоря уже об асфальте, никто не ровнял выбоины. Когда Фёдор поступил в ФЗУ (фабрично-заводское училище), я должен был ещё затемно перед рассветом (в 3–4 часа) подносить корзины на коромысле к дороге.
Нужно было платить налог — не только денежный, но и натурой (мясо, яйца, молоко). Эти натуральные налоги были отменены, если не ошибаюсь, в 1952 г. (за что крестьяне с благодарностью вспоминали Маленкова). Мне приходилось носить молоко с хутора Тарасовка в центр Старых Безрадичей — в «молочарню». Кроме того, крестьян (да и рабочих тоже) в то время донимали «займами», формально добровольными, а фактически обязательными. Но где было тогда крестьянину взять деньги на уплату этих займов? От безысходности в течение некоторого времени мать гнала самогон (несмотря на свою крайнюю ненависть к пьянству). Относила его перекупщику, какому-то дальнему родственнику в селе Подгорцы. Тогда большинство крестьян гнали самогон ночью: обнаружение самогоноварения грозило штрафом, а то и заключением (хотя не припомню случаев заключения и не знаю, насколько такая практика была распространена). Мне тоже приходилось ночью сидеть у парящего котла, чтобы подбрасывать под него сухие, преимущественно ольховые, коротко нарезанные и мелко наколотые дрова.
* * *
Фёдор. В 1945-м Фёдор оставил свою работу в колхозе и поступил в одно из киевских ФЗУ, чтобы стать токарем. Обучение в ФЗУ длилось шесть месяцев. Иногда для меня он привозил цветные металлические стружки. Но вдруг, в конце своего обучения, вернулся в село и, ничего не объясняя, оставался дома в течение, может, месяца, если не дольше. Мать очень переживала и упрекала его. Однажды он поехал в Киев (наверное, сказав, что идёт в ФЗУ) и неожиданно исчез. Мать была в отчаянии, начала искать парня в Киеве без всякого представления о том, где его искать. Но, в конце концов, всё-таки нашла сына в Лукьяновской тюрьме. Оказалось, что, в соответствии с каким-то распоряжением, их ФЗУ, в полном составе, должно было переехать в Кёнигсберг (потом Калининград). Фёдор отказался ехать, а отказ от работы карался (кажется, в пределах шести месяцев заключения). Его оставили отбывать наказание в Лукьяновской тюрьме. Мать начала носить передачи. После отбытия наказания он вернулся домой.
В течение нескольких месяцев Фёдор работал (разумеется, бесплатно) в колхозе. Иногда находил мину, вынимал из неё детонатор, вставлял его в толовую шашку и глушил рыбу. Однажды он нашёл какой-то согнутый детонатор и решил его выровнять. Делал это во дворе перед хатой. Меня и мою ровесницу Олю (соседскую девочку) отогнал как можно дальше для предосторожности. Только Люба упрямо отказывалась отходить. Вдруг раздался взрыв. Я увидел окровавленные руки и лицо Фёдора и окровавленную одежду сестры. К счастью, очень быстро подоспела мать и с причитаниями бросилась мыть и перевязывать. У Фёдора оторвало кончики пальцев на руках и посекло лицо. У Любы посекло бок. С тех пор я стал кормить Фёдора, пока его пальцы не зажили. Позже ему пришла повестка из военкомата, и думали, что его всё-таки заберут в армию: наши родственники даже пришли его проводить. Но его всё-таки забраковали, и он вернулся.
Фёдор был добросердечным и несчастным человеком. От безысходности, не желая работать в колхозе за «палочки»-трудодни (в книге отработанный день отмечали единичкой), решил завербоваться. Мать это восприняла как горе и не ошиблась. «Вербовка» (в послевоенные годы очень популярное слово) «выручала» ту молодёжь, которая хотела вырваться из крепких объятий крепостничества. Государство оставляло только одну дверь открытой — вербовка, преимущественно на два года, на условиях, которые предлагает вербовщик. Больше всего вербовали в Донбасс. Мой двоюродный брат Фёдор (сын тёти Федоры) отправился именно туда. Фёдор же, вместе с другим юношей (сыном наших соседей), завербовался на северный Урал (работать на лесоповале). Туда, куда потом, через много лет, меня, вместе с другими, переправили в лагеря (из Мордовии). Через два года Фёдор вернулся, но недолго пожил с нами, потом снова завербовался — на этот раз на Кавказ, работать на полиметаллических шахтах. Там, однако, узнал, что каждый, кто работает на этих шахтах, обречён (не знаю, почему — возможно, это были урановые шахты). Существовал единственный способ уволиться (ведь контракт!) — быть комиссованным. Фёдор, как он нам рассказывал, выпил очень крепкую заварку чая, вызвав у себя сердцебиение. Ему удалось уволиться и перейти на другую работу. Женился, а через некоторое время (уже когда я был учеником средней школы) вместе с женой приехал к нам. На вербовках он пристрастился к водке, что приносило большое горе его жене и матери. Они недолго пожили с нами и поселились наконец в Железноводске. Когда я вернулся из ссылки, он меня навестил и даже дал мне немного денег. Это не было наше последнее свидание с ним. Через несколько лет жена сообщила, что Фёдор в тяжёлом состоянии. Я с Любой успели застать его живым, умер при мне (женщины как раз вышли из квартиры). Его биография типична для судеб тех сельских юношей, которые пошли путём вербовок. Они обрекали себя на скитания вдали от родных краёв, чтобы не терпеть пренебрежения и бесправия в своём селе.
* * *
Пётр. Вероятно, осенью 1947-го вернулся Пётр. Мы очень ждали его возвращения из Караганды. На Петра мать возлагала особые надежды. Он был способным: отлично учился в школе, играл на гармошке, имел талант к рисованию (рисовал масляными красками). В нашей хате висела нарисованная им картина: внизу зелёные луга, с косарём на них, вверху хата с тропинкой, бежавшей вниз. Думаю, до отправки в Германию он был романтичным юношей. После возвращения из Караганды я не видел, чтобы он рисовал. Зато любил фотографировать. Я храню сделанные им фотографии и негативы — стёкла (преимущественно 9x12), переданные мне Галинкой (его дочерью). Это сотни стёкол (около сотни, к сожалению, склеились, я не смог их разделить и вынужден был выбросить). Среди них много групповых (свадьбы, похороны, окончание класса или школы и т.д.). Это фотолетопись села Безрадичи — Старых и Новых. Только часть из них мне отсканировали, и у меня есть позитивы в электронном виде. Стал в селе на все руки мастером: чинил серёжки, часы. Из часовых пружин изготавливал голосовые планки для гармошек. Шлифуя пластинку, доводил её толщину, чтобы достичь нужной высоты звучания: можно было удивляться его терпению. Впрочем, нервы его всё-таки подводили, может, не без влияния пережитого на заводах в Германии и в шахтах Караганды. Припоминаю, как он со всего маху бросил головку гармошки с рядами её голосовых планок на пол, а через несколько минут покорно подбирал рассыпанные детали. Я верил, что он, как рассказывал нам, доведённый придирчивым надзирателем на заводе в Германии до предела терпения, ударил его молотком и сумел как-то выбраться с завода. Но поскольку таких беглецов вылавливали и возвращали на прежнее место работы, то, по совету других, он придумал историю о том, что поезд, который их перевозил, попал под бомбёжку. Так он оказался на каком-то другом заводе.
Пётр обладал острым умом и вернулся из Германии с выработанной оценкой советской политической системы. Во время моего пребывания в заключении, как мне рассказывали, слушал зарубежные «голоса», благодаря этому знал также о моём положении. Но из-за нехватки мужчин, в частности грамотных, Петру в конце концов предложили работать «финагентом», он согласился и в течение нескольких лет работал на этой должности. Я стыдился этого его решения. И неудивительно, учитывая тогдашнее налоговое вымогательство с крестьян. Но может всё-таки лучше, чтобы на этой должности был человек сочувствующий, а не бездушный. Это касается и председателей колхозов: если, пусть даже рискуя, председатель колхоза не стремился выслуживаться, а, с помощью разных хитростей, старался давать колхозникам хоть что-то на трудодень, таких «председателей» уважали. Всё же снискать славу «доброго» было для них опасно. Когда сверху поступала директива о недостаточной хлебосдаче, председателей колхоза вызывали в райком партии, где разговаривали с ними языком угроз и мата. Система выталкивала из себя сочувствующих, привлекая способных не только выполнять, но и перевыполнять спущенные сверху распоряжения. Пётр в конце концов тоже не «вписался» в сельскую бюрократию, работал потом токарем и на других простых работах. В целом же он не смог реализовать свои способности, это стало источником его морального недовольства и раздражения. После возвращения из заключения я его живым не застал: умер от болезни лёгких. Семеро юношей только из Старых Безрадичей, работавшие в карагандинских полиметаллических шахтах (в качестве наказания за то, что были вывезены в Германию), болели лёгкими, и, следовательно, можно предполагать, что это не случайное совпадение.
Поездка Петра в Западную Украину в 47-м году (вместе с Галей, дочкой дяди Антона) очень нас спасла. К концу зимы у большинства крестьян закончилось всё — прежде всего картошка (основная пища), какое-никакое зерно. В это время Восточную Украину в большой мере выручила Западная Украина — факт, который замалчивается в современной Украине. Благодарен каналу «1+1», который упомянул об этом в связи с 70-летием голодовки 32–33 годов. То, что Западная Украина, с её значительно более бедными землями (но частным хозяйствованием), смогла обменять на кое-какие вещи тысячи тонн хлеба, — красноречивый факт. Поэтому Пётр среди тысяч других (статистика вряд ли существует) отправился в путешествие и вернулся с двумя мешками крупы. В одном из них, как сегодня могу судить, была овсяная крупа, потому что разваривалась в кисель.
И всё же где-то в мае-июне запас этой крупы закончился, как и запас картошки. У нас, правда, было спасение — корова, молоко. Каждому из нас — Любе, мне, Петру — мать выделяла порцию молока на день. Остальное шло на продажу. И всё же припоминаю, что нехватка хлеба склонила мать попробовать печь блины из молотых желудей. Но этот «хлеб» желудок отказывался переваривать.
* * *
Люба. Только Любе, которой в 1947-м было пять лет, удалось не почувствовать голодовки: её забрала в Киев тётка Василина. Любе даже открылась интересная жизненная перспектива: благодаря случайному знакомству тётке предложили, чтобы она отдала Любу в балетную школу. Она действительно в то время была очаровательной куколкой. Да и потом, во времена её юности, я считал свою сестру красивой. Как потом тётка рассказывала, когда Люба ела булку с маслом, то с грустью говорила, что у нас в деревне нет даже хлеба. Тётка Василина и её дочь Оля хотели оставить Любу в Киеве (Оля хотела её удочерить). Но мать на это не согласилась. Да и Люба переживала за нас и хотела вернуться домой. Она вернулась, когда появилась молодая картошка. Одетая в городскую одежду, она показалась мне очаровательной барышней из другого мира. Я воспринял её как экзотический цветок среди этих обездоленных людей, одетых в перелицованную или сшитую из обносков одежду.
Наверное, где-то через год после возвращения Петра, вернулся наконец из армии Павел. Пожил, однако, с нами недолго, устроился шофёром грузовика в Киеве. Это была одна из возможностей — сразу после армии податься в Киев, потому что в таких случаях не требовалось согласие председателя колхоза и председателя сельсовета. Крепостничество же. Паспортов крестьянам не давали. Правда, люди умудрялись перебираться в Киев разными способами. Городская власть нуждалась в рабочей силе, особенно на строительстве. Между председателем колхоза и колхозниками шла скрытая война. Городские строительные организации направляли в сёла грузовики с деревянными скамьями в кузове, крытые брезентом (а то и без всякого покрытия), чтобы забирать утром тех, кто вызвался работать на стройках. Вечером, после рабочего дня, машина привозила их в село. Председатели колхозов стали устанавливать «квоты» (один может работать на стройке, остальные — в колхозе). Семьи, которые нарушали разнарядку, подвергались угрозе «отрезания» огородов — иногда у самой завалинки. Люди не признавали, что потеряли право на отрезанный огород, и засаживали его. Тогда председатели колхозов посылали кого-то, чтобы перепахал засаженный огород. Рядовые колхозники не соглашались это делать, тогда посылали бригадиров, если те отказывались, за это приходилось браться самому (председателю колхоза).
* * *
Мы узнали, что имеем право на снижение налогов как семья «павшего смертью храбрых», в которой отсутствуют трудоспособные члены семьи. «Слуги народа» считали, что осуществление прав — дело только самих граждан: их мало беспокоило, сколько усилий и времени вынуждены тратить на это сами граждане. Да и в состоянии ли граждане осуществлять свои права. Но, уже будучи учеником неполно-средней (семилетней) Старо-Безрадичской школы (в первый класс я пошёл в 45-м), я, по чьему-то совету, стал ходить в районный центр (Обухов), чтобы с нас сняли часть налога. Надо отметить, что моё впечатление от встречи с председателем Обуховского райисполкома было положительным: он явно с сочувствием отнёсся к ребёнку в его взрослых хлопотах. Это свидетельствует, что даже в той политической системе, которая плодила людей бездушных, озверевших, способных в отношении своих ближних идти на крайние жестокости, каким-то чудом всё-таки выживали люди сочувствующие. Нашей семье уменьшили налог, кажется, на 50%.
Нетрудоспособным членам семьи платили также пенсию, размер которой зависел от количества нетрудоспособных членов семьи. Насколько помню, на нас двоих (на меня и мою сестру Любу) платили, кажется, 56 (именно эта цифра засела в памяти). Но хорошо помню, что на троих (после установления инвалидности матери) эта сумма составляла 72. Хочу отметить, что разница между пенсией семьи погибшего офицера и семьи погибшего солдата была очень значительной. Мать иногда жаловалась на это: мой дядя Мусий с тётей за своего погибшего сына офицера (Петра) получали неизмеримо более высокую пенсию.
Всё же пенсия мало улучшала материальное положение семей, в которых остались матери с маленькими детьми. Как раз положение матерей-вдов, особенно с маленькими детьми, было крайне тяжёлым. Когда я пошёл в школу, проблемой стало купить мне какую-то одежду и обувь. Мать в основном покупала чёрный «рубчик» (хлопчатобумажную ткань) или чёрный или синий ситец и шила вручную штаны или пиджак. Украина моего детства — это Украина в трауре: в чёрных рубчиках и ситцах, в резиновых галошах. И только в религиозные праздники и на свадьбы люди доставали спрятанные вышитые сорочки из сундуков: Украина ещё возвращалась к своим духовным истокам — тем, что каким-то чудом пробивались сквозь насилие и проклятия XX века. Купить себе спасительную тогда телогрейку у матери не было денег. Обувь (валенки) она шила из каких-то старых ватных вещей и покупала галоши. Галоши выручали: отсюда поговорка «Спасибо Сталину-грузину, что обул нас в резину».
Запомнилось событие, связанное с галошами: ранней весной по дороге из школы я переходил грязь, её действительно было трудно обойти (замечаю, потому что не принадлежал к мальчишкам, которые не могли удержаться, чтобы куда-то не забрести или не вскарабкаться). Вышел из жижи без одной галоши. Пытался её найти в своих уже затянувшихся следах, но безуспешно. Всю дорогу я просил Бога, думаю, не столько ради предотвращения гнева матери, сколько ради того, чтобы Он облегчил её горе. Очень трудно ей давалось нас одеть и прокормить. С благодарностью хочу вспомнить мою двоюродную сестру Александру (о которой упоминал в связи с заболеванием тифом) и её мужа, офицера, который, вернувшись из Германии, привёз оттуда разную, преимущественно поношенную одежду для своих детей. Какие-то пиджачки («френчи») и рубашки они отдали нам. Люба, помню, носила один из таких френчей зелёного цвета.
* * *
Колоски. Дети помогали тогда родителям сбором колосков на поле. Им запрещали, вытряхивали колоски на землю. Поскольку коммунистическое государство с самого начала инкорпорировало в свои структуры людей с криминальными наклонностями, то фактически оно стало своеобразным культиватором людей с такой психикой. Сёстры моей жены Веры Гриценко (тогда несовершеннолетние Наталья и Анюта — Кагарлык), чтобы как-то выжить в 1947 году, пошли ночью с другими девушками, всего пятеро, к скирде и взяли по снопу. Каждую из них осудили на пять лет заключения, несмотря на страшные причитания и мольбы их матерей. Что они пережили за годы заключения, достойно отдельного рассказа (они теперь живут в Кагарлыке, и Вера всё собирается записать их воспоминания). Описать все случаи такой крайней жестокости, даже только за послевоенные годы, означало бы собрать не десятки, а сотни томов свидетельств. Поскольку такая политика в отношении украинского крестьянства направлялась из центра, а технология отбора людей без жалости и совести была хорошо отлажена, то речь идёт о системе. Тип такого человека крестьянам был хорошо известен: разве не такой человек действовал в организованных государством бандитских группировках, самыми известными среди которых были отряды «Красной метлы».
Стоїть дід,
біля нього внучок:
сльози кап-кап.
Хліб –
де сховав, так-перетак?
Чуєш по селах: дзень-дзень, дзень-дзень...
Ну що, наспівалися вкраїнських пісень?
На народ –
армади чорних пацюків:
потрусіть землячків –
в припічку, печі,
небі, землі, воді.
Гордість, сміх, спів –
хліб,
для нас,
для хортів.
Ментальность «нового класса» (класса бюрократов-диктаторов) сводилась к простой формуле: пусть лучше сгинет то, чем могут воспользоваться крестьяне для своего выживания. Ментальность эта живуча: её проявления — ещё и какие! — наблюдаем сегодня. Речь идёт о жестокости как элементе государственной политики. И это касается не только крестьян. Что же до крестьян, то существует одно возможное объяснение: украинское крестьянство нужно было сломить морально, оно хранило в себе энергию национального возрождения. Роберт Конквест, говоря о голодоморе 1933-го, отмечает, что эта акция сопровождалась «массовыми погромами украинской культуры, интеллигенции и церкви» и что «мнимое упрямство украинских крестьян, которые не сдавали зерна (которого у них не было), недвусмысленно расценивали как „национализм“».
В действительности крестьяне были «националистами», потому что «национализмом» (в негативном значении этого слова) считали само существование независимого крестьянина, которому было бы присуще чувство собственного достоинства. Ведь он был носителем украинской культурной самобытности. Крестьянство, вследствие продуманной политики, должно было прийти в города полностью деморализованным, радуясь тёплой квартире и еде, оставив за чертой городов своё достоинство, язык и украинскую самобытность в целом. Расчёт Липинского на класс хлеборобов как основу современной украинской нации был учтён. Но это не только прошлое: под обновлёнными идеологиями (как, например, под вывеской «двуязычия») силы, которые ментально унаследовали нетерпимость к украинской культуре, стремятся сегодня юридически закрепить достигнутое насилием. Чтобы с помощью других, хорошо продуманных хитрых технологий, завершить наконец «героический» труд своих предшественников.
В марте 47-го, когда ещё лежал снег, группка тарасовских детей пошла на поле выгребать из-под снега остатки сахарной свёклы (всё-таки какая-то еда). Был ещё небольшой мороз. Один из мальчишек отстал, его потом нашли уже взрослые, он обмёрз (особенно ноги), остался на всю жизнь калекой. Иван «шляховой» (потому что их хата была у дороги) запомнился мне тем, что уже в мои студенческие годы сказал мне, что я должен искать выход из той несправедливости, в которой люди живут. Он единственный из односельчан высказал это открыто и решительно: преобладали жалобы на жизнь без всякой мысли и веры, что положение можно изменить. Покорность и уныние. Эта «порабощённость» (слово Оксаны Забужко) — и сегодня живая традиция. Живая ещё и потому, что подпитывается. Желающих культивировать верноподданность, покорность и страх хватает. Имею в виду тех, кто видит в этом важнейший залог своего пребывания у власти. И продолжается подбор людей во властные структуры, которые превыше всего ценят не принцип, а круговую поруку, чтобы иметь и свою долю в «лакомстве несчастном».
* * *
2. Рассказы, мифы, обычаи, религиозность
Этнокультура. Послевоенное сельское поколение ещё вырастало в среде, которая сохраняла фрагменты традиционной культуры — обрывки мифов, обычаи, элементы народного христианства. Этими фрагментами и питались консерватизм и этическая неподатливость части крестьян по отношению к влиянию новой идеологии. Наверное, это касается не в равной мере всех сёл подроссийской Украины, но центральная и степная Украина цепко хранила эти фрагменты. Какие-то из них были подхвачены и переосмыслены в кратковременных литературных и художественных «ренессансах» 20-х и 60-х годов.
Потребность модернизировать украинскую культуру — в частности художественную и интеллектуальную — была настолько грандиозной задачей (она и сегодня остаётся актуальной), а общественно-политические условия были настолько неблагоприятны, что нечего было и думать, что проблему «наследования-обновления» могли решить шестидесятники. Учитывая, в частности, довольно узкое пространство свободы и сжатое время «оттепели». Говорю «решить», вполне осознавая, что она имеет «вечный» аспект: каждое поколение должно её заново решать. Конечно, в поэзии Лины Костенко, Ивана Драча, Василя Симоненко, Мыколы Винграновского, Василя Голобородько, Василя Стуса, Игоря Калинца, в живописи Панаса Заливахи, Марии Примаченко, Лизы Мироновой, Галины Севрук, в хоровой деятельности Леопольда Ященко, в «поэтическом» кино и т.д. каждый находит попытки сделать жизнеспособными элементы традиционной культуры в новом индустриальном мире. Как сделать живыми элементы традиционной культуры, чтобы её слово было услышано, — интересная тема для дискуссий. Но решается она прежде всего творчеством.
Во всяком случае, если городскому юноше или девушке, по счастливому стечению обстоятельств, удаётся прорваться сквозь кажущуюся самодостаточность городского быта к «снам искристым», они находят для себя один из важных духовных источников. Убеждён, что эти переклички живы в душах многих русифицированных украинцев. Современные технологии денационализации заключаются в том, чтобы умертвить эти затаённые источники, которые в любое время способны пробиться из-под наносов. Но в послевоенные годы сельские девушки и юноши, которым была свойственна чувствительность к духовным подтекстам жизни, ещё были способны ощущать эстетику традиции: в окно им заглядывали «седыми глазами» не только сказка, но и миф.
* * *
Рассказы. Сначала, однако, упомяну о «рассказах». В зимние вечера последних лет войны и первых послевоенных лет ближние соседи собирались в одной из хат. И, вступая один за другим, ткали полотно повествования, в котором ещё сохранялось внимание к родословным — к тому особому виду сохранения информации о жизненных судьбах, который ранее играл важную роль в сельском бытии. После появления фотографии на стенах хат появились фотородословные. Бурные события 17–20-х годов, раздел земли, самосуды, коллективизации, раскулачивание, голодовка 1933-го — всё это картинами и гомоном влилось в моё воображение и память. Моя мать в революционные годы ещё молодой девушкой отправилась пешком, вместе с односельчанами, в Крым за солью. Степь их встретила энергией движения: её рассказ о восставшей степи, о «степи на конях» настолько подействовал на моё детское воображение, что я потом ещё долго слышал топот тех коней. Суммировала же она опыт революционных лет примерно так: «Вот ходили с портретом Шевченко и пели украинские песни, за то нас и наказали». Говорилось это так, будто имелась в виду кара какого-то рока, какой-то незримой космической силы. И каждый раз потом грусть покорности беззащитных людей перед этой незримой силой вызывала во мне мучительное сочувствие. Так эти люди (преимущественно женщины) в моём воображении и сегодня сидят в ряд на скамье — со сложенными на коленях руками, в углу иконы, за спиной фотографии разбросанных по миру и погибших отцов и сыновей.
Розповіді,
переказані рядком сусідів,
що всілися на довгій лаві
в зимові вечори
поговорити про се, про те.
Вступають по черзі промовці,
в’яжуть у нескінчену повість –
колективізації, голодівки і знову
розмови про яви страшні —
домовиків, мерців тощо.
Замовклі ж сидять самітні
у цій всесвітній пороші.
Наверное, и в современной психической инерции продолжает действовать эта смиренная покорность — неверие в возможность влиять на обстоятельства своей жизни, на ход истории. Приобретя скрытую, порой неузнаваемую форму, она передалась городскому населению, большинство которого отделяет от села одно-два поколения.
В свои рассказы мои рассказчики часто включали истории о странных явлениях: явления Христа или Божьей матери, знаки-предупреждения, души умерших, ночные приключения на кладбищах, действия домовых. Вера в существование потусторонних сил, обрывки языческих верований выдерживали натиск новой идеологии и новых реалий жизни. Потом, когда я проникся научным миропониманием, то объяснял стойкость веры в домового тем, что самовнушение имеет большую силу. Когда мне приходилось ночевать одному в хате и мне казалось, что я слышу вздохи под кроватью, или мне чудятся стоны или шёпот, то я пытался практиковать самонаблюдение: в каком состоянии было моё сознание, что могло вызвать такие ощущения?
Но большую важность в мировоззрении, или, лучше сказать, в мироощущении моего поколения имели впечатления, за которыми стояли архетипы этнокультуры и народное христианство. Моё осмысление таких впечатлений является следствием того, что они всплывали в памяти снова и снова, призывая постичь их скрытый смысл. Действительно, основная ошибка реализма (в том числе в искусстве) заключалась в том, что он сосредоточил своё внимание на внешней (видимой) реальности. Между тем явления культурной жизни подсвечены из глубины благодаря тому, что в них воплощён духовный опыт.
* * *
Религиозность. В послевоенные годы на Киевщине — да, думаю, и на большей части Приднепровья — люди в селе ещё упрямо придерживались религиозных обрядов. Больше всего чтили Рождество, Пасху, Крещение («Иордань»), Троицу и Спаса. Почти все дети в послевоенные годы в сёлах проходили обряд крещения (я, как и все мои братья и сёстры, знал своего крёстного отца и крёстную мать). В первые послевоенные годы в Старых Безрадичах ещё была церковь: продолговатое деревянное одноэтажное помещение с куполом посредине. В военные годы, как известно, режим решил использовать религиозные и отчасти даже национальные чувства в мобилизационных целях. Поэтому после войны в течение некоторого времени церкви действовали, потом была возобновлена старая политика: церкви начали закрывать и разрушать. Наверное, в конце 40-х купол Безрадовской церкви был снят и церковь переделана в клуб. И сегодня примерно на том же месте стоит уже позже построенный клуб. Недавно уже в другом месте построена и открыта новая церковь (Московского патриархата). Построена и открыта также церковь в Новых Безрадичах (также Московского патриархата). При её открытии обращались к «моим» крестьянам на русском языке. Русская православная церковь продолжает быть орудием русификации. Бердяев видел в национализации русской церкви один из важных источников русского мессианизма и империализма. Безусловно, в прошлом какая-то часть священников Московской церкви сопротивлялась превращению церкви в орудие государственной политики. Большинство из них подверглись репрессиям. Не знаю, к какой церкви принадлежал замученный священник Новобезрадовской церкви, о котором мать упоминала с большим уважением.
Тебе проковтнула далека дорога,
ніхто повороту твого не чекав.
В яких же Сибірах, в останній знемозі,
ти, брате сердешний, на землю упав?
Які ти пройшов мученицькі дороги,
не знаю, та пам’ять про тебе жива,
й душа твоя нині під захистом Бога,
що чесне і вічне в собі обійма.
* * *
Всё же хотел бы попутно отметить одну особенность религиозной веры крестьян, которую я замечал у своих односельчан, в частности у своей матери. Думаю, она была свойственна для всей центральной Украины. Имею в виду сугубо обрядовое, эстетическое отношение к церкви, и в то же время отчуждённое отношение к священникам. Это отчуждение хорошо известно из фольклора и поверий, связанных с «попами». Думаю, что основная причина этого отчуждения, что бы там кто ни говорил, связана не только с традиционным консерватизмом православной церкви (которая так и не смогла хотя бы в проповедях пользоваться понятным для крестьян языком), но и с более глубокой церковной историей. С теми якобы совсем забытыми её страницами. Имею в виду уничтожение Киевского патриархата и превращение русской церкви в орудие российского государства.
В целом же, основой этого отчуждения было расхождение между тем народным христианством, в русле которого были созданы хотя бы какие-то народные религиозные песни, и официальной церковной иерархией, которая так и не стала пастырем народа и не могла вызывать уважения. Как можно было уважать церковь, превращённую в послушное средство российской государственной политики, коей она в значительной мере остаётся и по сей день? Обновление православия, а следовательно, и церкви, о котором стали говорить русские интеллектуалы с начала XX в., осталось только проектом. Большинство из них, в конце концов, оказались за границей (недавно усилиями Аржаковского в Киеве опубликован сборник статей «Журнал „Путь“»). Этот упадок авторитета церкви является важным обстоятельством, без осознания которого, думаю, мы не можем понять духовную историю Великой Украины.
Из религиозных праздников больше всего мне нравились Троица и Пасха. Троица потому, что мы, дети, принимали участие в украшении нашей хаты зеленью. В болоте возле Стугны для этого рвали аир, которым устилали пол в хате, тропинку к хате и ставили зелень на окнах. Это было интересное зрелище: дети и взрослые из Новых и Старых Безрадич накануне Троицы в одиночку и группами отправлялись к Стугне, чтобы вернуться с вязанками аира. Его запах наполнял хату. Из леса мы приносили кленовые ветки, которые втыкали в ворота. Пасха была интересна своей особой торжественностью — свечением крашеных яиц на столе в отблесках утреннего солнца. Всё пространство было пронизано этим нежно-торжественным розовым свечением: казалось, что этих забытых миром людей вспомнила какая-то высшая сила и послала им знаки своего сочувствия и милосердия.
Крещение проходило на Стугне, рядом с тем местом, где сегодня мост через Стугну. Когда-то этот мост стоял немного восточнее: даже сегодня сохранились остатки старой плотины, которая вела к тому мосту. Плотина эта доходила до Стугны и образовывала над ней высокий обрыв: во времена моего детства внизу из воды торчали деревянные опоры старого моста. Метрах в 30 на восток от тех свай вырубали прорубь, возле неё ставили вырубленный из льда крест, выше человеческого роста. Люди стояли на правом берегу реки (кто на самой реке, а кто на обрыве) и наблюдали за освящением воды. Ясным утром солнце освещало замёрзшую реку и крест на ней. Рассеянное в воздухе розовое свечение и розовый крест — это была иная розовость, нежели свечение, которое пронизывало нашу вселенную на Пасху. Моё детское воспоминание можно передать в образе очистительной и вдохновляющей силы: не своевольной, а способной быть источником лада и гармонии. Все мы словно обретали способность достичь примирения и единения в радостном ощущении своего обновлённого достоинства.
На Крещение в Тарасовке был храмовый праздник; в какие-то годы родственники собирались также у нас. Позже нужды сделали это невозможным. Но ничего эстетического или религиозного в храмовых праздниках я не почувствовал. Скорее наоборот, в моей памяти остались только неприятные картины пьянства. После войны начали много пить — стаканами, женщины говорили, что раньше такого не было. Помню, в центре Старых Безрадич на первую Пречистую собиралось много людей, среди них некоторые совсем пьяные, устраивали драки. Думаю, что разрушение культурной традиции и моральной основы общественной жизни — важнейший общественный фактор, который усиливает пьянство, наркоманию. То, что способно заглушить воспоминание о пережитых ужасах, чувство униженного достоинства и безысходности. И это в большой степени (в какой — отдельный вопрос) касается современного состояния общественной морали. Только когда в 90-е годы Галя Лисовая возобновила традицию храмового праздника в Старых Безрадичах, я почувствовал совсем другую атмосферу: хорошо хоть раз в год собраться родственникам, увидеться, вспомнить, поговорить.
Вокруг церкви в Старых Безрадичах на Пасху и на Спаса люди становились в ряд, чтобы освятить свои дары. Впечатление от внутреннего убранства церкви осталось в моей памяти тусклым свечением икон, первым прикосновением к загадочному бытию святынь. Такие впечатления становились опорой в моих размышлениях над важностью для бытия ценностей, их укоренённости в трансцендентном, в религиозной и культурной традиции. Это не означает обесценивания разума в обосновании моральных и духовных ценностей, а свидетельствует о взаимной дополняемости разума и веры. Бездумная вера не является настоящей верой, такая вера — источник фанатизма. Но разум, которому не хватает уважения к духовным ценностям, с их укоренённостью в трансцендентном, становится если не фанатичным, то фарисейским. Это очень опасный разум.
Наша мать, укладывая нас спать, повторяла: «Матерь Божья в головах, ангелы по бокам, ангелы-хранители...». Она пела народные религиозные песни. Особенно меня поразила песня об Ироде и новорождённом Христе. В моей памяти осталась только одна фраза из этой песни («Долго, долго по всему свету будут ангелы трубить...»). Но осталась общая картина и настроение. Это настроение только усиливало наше чувство беззащитности: подсознательно мы чувствовали себя детьми, которых всё ещё ищут гонцы Ирода.
Коли новий світ лебедів
по жертві дітей невинних,
на землю квіт білий летів,
хилились і в’яли лелії.
Тебе не торкнула рука,
твоя не зів’яла лелія,
і нам у передніч Різдва
невинністю світ лебедіє.
Ми ж маримо: Ірод живе,
гінців по землі розсилає,
надворі сніг білий паде,
їх чорні сліди замітає.
Я далее ещё буду говорить о том, что в конце 60-х — начале 70-х годов прежде всего образованные люди стали инициаторами возрождения элементов народного христианства. Было, конечно, неожиданностью для нас, что в этом русле было создано и много профессиональных религиозных произведений. Хор «Гомин» под руководством Леопольда Ященко, человека-подвижника, пожалуй, первым из хоровых коллективов стал включать в свой репертуар религиозные песни. Думаю, для каждого, кто ценит духовную составляющую культуры (а, следовательно, и духовные подтексты своей собственной жизни), открытие украинского литургического творчества (Бортнянский, Березовский, Леонтович и др.) стало одним из самых глубоких духовных переживаний. Но в более полном своём объёме это относится к концу 70-х — 80-м годам (прежде всего здесь следует упомянуть хор под руководством Виктора Иконника, сегодня же хор «Киев» под руководством Мыколы Говдича).
Пожалуй, бесспорно то, что религиозность может быть укоренённой в душе народа только путём переклички или синтеза с культурной традицией. Ведь христианские символы и ритуалы только тогда способны находить отклик в душе, если затрагивают самые глубокие пласты народной этнопсихики. Несмотря на сложность этой проблемы во всей её полноте. Для обозначения этой переклички я использую выражение «народное христианство».
* * *
Обычаи. Второй круг впечатлений — народные обычаи. После войны в нашем селе — и, думаю, во всей центральной Украине — они, хотя бы во фрагментах, всё ещё были живы. Позже они подвергались вытеснению и модификациям, теряли свои эстетические составляющие, их насыщали чужеродными элементами, преимущественно с ориентацией на материальное: как можно более богатый стол — со сравнением и пересудами, у кого и чего больше на столе. Свадьба сегодня — это застолье с непрерывными криками «горько». Конечно, хорошо, что возобновлено венчание в церкви, но многие эстетические элементы выброшены и заменены едой, питьём и танцами под магнитофон. Общеизвестно, что индустриальная цивилизация, облегчая жизнь, в то же время очень обедняет эстетику жизненной среды. Профессиональное искусство — искусство концертных и выставочных залов — не может компенсировать эту потерю. Вообще эстетика жизненной среды, в которой живёт человек городской и сельский — от организации быта (имею в виду как эстетику жилья, так и эстетику образа жизни) до архитектуры городов — это тема, требующая большего внимания и более широкого обсуждения.
На меня произвела особое впечатление ладо-тональная, образная структура и символика свадебного обряда. Это был призыв к интересным прозрениям в эстетическую силу архетипов, образующих основу народных обрядов. Когда потом (в студенческие годы) во время посещений села мне случалось встретиться с «молодой», которая чествовала меня своим поклоном, то этот поклон я подсознательно воспринимал как знак ритуального, сдержанного прощания. Это был знак прощания с миром, к эстетическим и моральным постижениям которого современные люди в подавляющем своём большинстве утратили чувствительность.
Из своих общений с этим исчезающим миром считаю особенно уникальным своё впечатление от пения дружек во время их шествия к «молодому». Иконописные лица девушек, нанизанных в ряд — и, как повторение этого ряда, вязание ими бесконечной ленты свадебных песен. Детвора могла бежать по обеим сторонам этого строя или лада: и лента, и дорога, и вереница девушек, и тот ковёр, который они ткали своими голосами, которыми прокладывали — или устилали? — свой путь — всё это образовывало какую-то одну метафору, смысл которой я потом тщетно пытался ухватить и выразить.
Когда река народной жизни бушует или даже выходит из берегов, то — если в этом бушевании был более глубокий смысл, а не только клокот эмоций — этот смысл становится источником поэтизаций. Когда течение народной жизни становится спокойным и даже замершим, элементы смысла, выделенные из хаоса пережитого, порождают идеализации. Эти идеализации способны питать народную душу во времена, далёкие от всякой героики, во времена унижений или отчаяния.
Когда потом, в конце 60-х — начале 70-х, я заинтересовался этнологией, то мне показалось малопривлекательным построение структурных моделей сугубо рациональным способом. Конечно, они имеют свою собственную ценность (которую преимущественно видели в научности, пытаясь следовать за успехами структурной лингвистики). Мне же показался более привлекательным, с одной стороны, подход Бахтина (с его идеей «многоголосия»), с другой — Юнга. Юнга я пытался депсихологизировать, приспосабливая его понятие архетипа к сугубо культурным и этнологическим потребностям. Потом, уже после возвращения из ссылки, в этом ряду появился Мирча Элиаде. Во всяком случае архетип я стал понимать как канву, которая живёт только своими наполнениями — живёт до тех пор, пока мы способны чувствовать или выявлять его действие в тех наполнениях. Этот мой подход не претендует на оригинальность, не думаю, что он принципиально отличается от этносимволических подходов некоторых философов на Западе, а также некоторых философов в Украине (Игорь Моисеев, Сергей Крымский и др.).
В тех намёках на структуры — в «знаках», несущих в себе скрытую весть из прошлого — сохраняется та полезная многозначность, которая делает возможными разные толкования. Структура скорее вброшена в поток изменений, который всегда грозит её размыть: она означает только связанность потока, но не определяет направление движения. Культурная идентичность, с этой точки зрения, предстаёт как задача, как проект, который мы всегда призваны осуществлять. Это мне кажется верным и в отношении идентичности личности, которую каждый из нас должен заново находить или воспроизводить в непрерывном потоке всё новых впечатлений и переживаний.
И всё же духовный подтекст коллективной жизни — обычаи, мораль, религия — не разрушается легко. После всех ужасов гражданской войны, коллективизации, раскулачиваний, особенно после голодовки 1933-го и репрессий 30-х годов и, в завершение, Второй мировой войны — всё-таки в течение некоторого времени в послевоенные годы этот духовный подтекст коллективной жизни проявлял свою живучесть и способность поддерживать людей. Из рассказов о голодовке 1933-го я не слышал о кражах, к которым людей могло бы подтолкнуть стремление выжить. Отдельные случаи людоедства не аргумент, потому что такие действия должны быть предметом психиатрического, а не этического исследования. Возможно, что всё пережитое могло сработать как мина замедленного действия, как подрывная сила, которая должна была действовать с опозданием. Но, наверное, большую роль в том упадке морали сыграли не ужасы пережитого, а идеология, нацеленная на её разрушение: она разъедала духовный подтекст жизни изнутри скрыто, но последовательно.
Несмотря на то, что в послевоенные годы большинство женщин стали вдовами и что именно они (да ещё подростки) стали производительной силой в колхозе — хоровое народное пение ещё было живой традицией. Женщины, возвращаясь с сенокоса в кузове грузовика, пели. Отголоски песни утихали, истончались, исчезая в безвестности. Летом ещё было слышно вечернее пение девушек:
Вечір із перегуками-співами,
хвилями, що плинуть крізь душу,
граються у своєму плині,
повнячи передчуттями
неземного блаженства і смутку.
Східці у давно забуте,
пригадане, тільки що знайдене,
схоплене у своєму леті.
Солодкий щем од повір’я,
радість життєвих наповнень,
зухвальство ігор кохання.
* * *
XX век, особенно 30-е годы и война, в большой степени подкосили строение сельской культуры как источника духовного начала в душе. Даже относительно постепенная модернизация, если она категорически отвергала традицию (французский вариант XVIII в.), дала очень нежелательные последствия — по сравнению с умеренным вариантом североевропейских стран. Коммунистический вариант «модернизации» (если вообще правомерно здесь употреблять это слово) подрывал не только традиционные ценности, а духовные ценности как таковые. В том числе и разум — величайшую ценность модерна. Это было разрушение самой культуры, духовной основы жизни. Впрочем, нетерпимость к культурной самобытности народов, входивших в состав Российской империи, — это значительно более глубокая традиция русской ментальности и русской политики. Она была чётко и ясно зафиксирована Костомаровым в «Двух русских народностях». Думаю, что среди всех осуждений этой традиции самым сокрушительным является осуждение Стуса:
Державо тьми і тьми, і тьми, і тьми!
Ти крутишся у гадину, відколи
тобою неспокутний трусить гріх
і докори сумління дух потворять.
Конечно, культура не может существовать без передачи (традиции) созданного поколениями людей. Как высказался Бёрк, мы являемся карликами, стоящими на плечах множества поколений, живших до нас, и только благодаря этому мы способны видеть дальше. Поколения передали нам свои культурные достижения, благодаря которым мы и можем создавать то, что создаём. Заносчивое высокомерие современного человека в отношении к традиции, этой «обезьяне цивилизации» (по выражению Хайдеггера), мешает думать над тем, как подхватить и сохранить достойное сохранения. А потому люди становятся жертвами худшего в традиции, а не того, что достойно поддержки. Я, конечно, не имею здесь в виду сохранение антиквариата в музеях. С другой же стороны, можно только удивляться, как вообще смогла выжить душа человека, прошедшего сквозь ужасы первой половины XX в.
* * *
К сожалению, сегодня разрушение духовных ценностей как важнейшей составляющей массовой культуры — это не только история. Возрождение духовного подтекста коллективной жизни, очевидно, возможно только путём мудрого сочетания традиции и обновления. Только таким образом может быть утверждена также украинская культурная идентичность, чтобы украинский народ стал современной нацией. Другая альтернатива — потеря культурной самобытности, а следовательно, исчезновение украинской нации. Вопрос — быть или не быть украинской нации — сохраняет свою остроту. Изменились лишь средства в осуществлении древней стратегии, призванной обеспечить её небытие. Обновляются идеологии и технологии, цель же осталась неизменной. Силы, заинтересованные в осуществлении этой стратегии, мощны. Сегодня, пользуясь ситуацией, характеризующейся высоким уровнем социальной несправедливости и коррупции, которую они сами и создали, эти силы начали процесс реабилитации (или реставрации?) элементов бывшей коммунистической империи.
Осознание современной ситуации достаточно широко в среде украинской интеллигенции, и многие известные, а ещё больше неизвестных энтузиастов, прилагают усилия, чтобы противодействовать этим силам. Однако без коренного изменения современной олигархической, коррумпированной политической системы культурное возрождение, как и утверждение настоящей демократии, не имеет хороших предпосылок. Авторитет государства и авторитет важных общественных ценностей — взаимосвязанные вещи. И, как всегда, в условиях духовного и общественного кризиса, решающая ответственность лежит на украинской интеллигенции. Ведь прежде всего она является защитником духовных ценностей и просветителем народа. Это несколько старомодный взгляд; здесь не место рассматривать различные теории о роли интеллектуалов в новейшем обществе, особенно если его характеризуют как «информационное», не говоря уже о «постмодерном». Но какие бы усложнённые теории относительно места интеллектуалов в современном обществе (пусть даже «постмодерном») мы ни обсуждали, за культурной элитой всегда останется обязанность быть защитником основополагающих ценностей. Это не означает пренебрежения сложностью бытия ценностей в историко-культурном контексте. Это бы означало распространение поверхностной риторики, которая не может успешно противостоять современным формам нигилизма. С его сопровождением — разрушением того логоса, причастность к которому должна обеспечить равновесие обновления (спонтанности) и сохранения необходимых элементов структуры. Идеалы недостижимы, но они означают важные ориентиры.
Мы живём в переходный исторический период, когда должны быть созданы минимально необходимые предпосылки такой структуры. Но при этом, конечно, следует иметь в виду, что учреждения должны быть не только разумно спроектированы, но и наполнены соответствующими людьми (произвольный пересказ тезиса Карла Поппера). Структурные перестройки (наподобие современной очередной политической реформы) ничего не дадут, если властные структуры будут заполнены теми же людьми. Структурные предпосылки необходимы, но возможности структуры противостоять такому её использованию, которое деформирует сам замысел конституционной реформы, ограничены, если пренебрегают человеческим наполнением. Это вещи элементарные. Чтобы выполнить свою задачу в этой ситуации, большой части современной украинской интеллигенции не хватает позиции и воли. Послушание и верноподданность мы унаследовали. К сожалению, наше общество всё ещё нуждается в жертвенности и героизме. До какой степени — отдельный вопрос. При таком количестве интеллигенции, которое у нас есть (в частности, образовательной интеллигенции), вопрос выбора будущего в большой мере зависит от нас. Если каждый из нас не позволит современной олигархической системе превратить нас в людей коррумпированных, зависимых.
Раздел III. Школа (1945–1956)
1. Безрадовская школа
В первый класс Старобезрадовской семилетней школы я пошёл с сентября 45-го года, когда мне исполнилось 8 лет. Была возможность начать обучение годом раньше, но ходить с хутора Тарасовки в центр Старых Безрадич было всё-таки далеко (километра три). К тому же не было хотя бы какой-то одежды и обуви. Бедствовали также учителя: в первом классе наша учительница, пожилая женщина, просила нас, чтобы мы приносили свёклу или капусту, за что ставила оценку. Не помню, писали ли мы сначала на газетной бумаге, но помню, как учительница раздавала нам по листу бумаги «в косую линейку» для каллиграфии. Чернильницами служили разного рода бутылочки, оставшиеся после войны. Они легко опрокидывались; чернильницы-непроливайки сначала были только у отдельных учеников. И нужно было следить, чтобы наши перья — «ложечки» и «лягушки» (которые давали более широкую линию при нажатии), не захватили больше чернил, потому что тогда — «клякса».
Потом появились «Буквари» (немалое событие!), потяжелели наши сумки, сшитые матерями из домотканого (конопляного) полотна. Остатки этого полотна были ещё в употреблении, у отдельных семей сохранились ткацкие станки. Он был у наших соседей (Рожовцев), на траве у дороги они раскладывали длинные полотняные дорожки. Имели также приспособление для витья верёвок из конопляной пакли (две вертикально поставленные доски с дырами, в которые вставлены металлические ручки — в одной три или четыре для прядей, которые на другой доске, имевшей одну ручку, скручивались в верёвку). Иногда я помогал соседу в этой его работе. Эти бытовые обстоятельства (в полотняном или кожаном портфеле носить тетради и книги) не являются, конечно, важными. Но вещи интересны сами по себе как часть нашего жизненного мира.
В первые четыре года своей школьной науки я не проявлял интереса к обучению. Жил в фантазиях; на моё состояние, думаю, влияло также горе, властно поселившееся в нашей хате. Она не была исключением: через хату, а то и в каждой хате, отец или сын не вернулся с войны. Впрочем, когда я потом сравнивал наше детство с жизнью детей в Галичине, родители которых подверглись пыткам, уничтожениям, заключениям и ссылкам, то наше положение было несравненно лучшим. Если это сравнение немедленно не вызовет в памяти картину с этапированием раскулаченных: слишком малое временное расстояние отделяет похожие события на Востоке и Западе. Отголоски событий в Западной Украине «докатились» до Тарасовки. Помню своё присутствие на необычных похоронах: хоронили одного из тех, кого послали воевать с УПА. Всё же дети умудрялись создавать свой независимый мир: детские игры в «опуки» (мяч), «гилки» или «воробья» на выгоне, групповое купание в Стугне. Но взрослые заботы, тревоги и отчаяние норовили уничтожить ту прозрачную перегородку, что обеспечивала относительную независимость этого детского мира.
* * *
Революционность. В связи с нашим голодным существованием вспомню один случай детской «революционности». Когда я был, наверное, во втором или третьем классе, мы, дети (я, сестра Люба, соседская девочка и мой одноклассник из Тарасовки, Нижник Иван, с которым я дружил), решили расклеить листовки. На листе бумаги большими буквами написали «Вставайте, гонимые и голодные» и, миновав хату нашей соседки Евги, прикрепили листовку у соседней хаты (деда Тарана и бабы Таранихи). Это наше действие в тогдашней ситуации могло обернуться неприятными последствиями. Зависело от того, кому листовка попадётся на глаза. А увидел её наш лесник, по фамилии Сокол (никто не высказывал подозрение, что ему эту листовку кто-то из односельчан передал). Он провёл соответствующее расследование. В нашей хате заговорили о листовке; говорили о ней также соседи. Мы, дети, отмалчивались. Взрослым удалось убедить лесника, что листовку написали дети и что её не стоит воспринимать серьёзно. Ему хватило ума не придавать событию широкой огласки. На этот раз всё обошлось.
Ещё об одной «игре» в подпольную деятельность. Три ученика (школьные друзья из Тарасовки, включая меня), создали собственную пионерскую организацию под аббревиатурой «ПО». Ячейкой организации стал шалаш, который мы соорудили на левом берегу Стугны. «Собрания» нашей организации проходили (тайно) по дороге в школу. Иногда мы проводили в шалаше всё то время, которое должны были сидеть за партами. Возвращались домой вовремя. Сестра мне недавно напомнила, что на своих пуговицах мы выцарапали буквы «ПО». Наша тайна стала известной в школе, некоторые ученики насмешливо спрашивали, что такое «ПО».
Эти детские действия свидетельствуют, что в послевоенных сёлах на Поднепровье — да, думаю, во всей восточной и центральной Украине — поколению, вступавшему после войны в сознательную жизнь, предыдущее поколение не передало какой-то «легенды», которая годилась бы для самозащиты и протеста. Безусловно, среди крестьян были единичные участники предыдущей борьбы, но передать значимое слово молодёжи они не могли. «На багряном коне революции» (по выражению Богдана Кравцива) было вытоптано всё, что проявляло признаки неповиновения. Для своего протеста мы брали лозунги, услышанные в школе.
Детям из бедных семей (в частности, тем, что потеряли отца на войне) по чьей-то инициативе начали давать в школе суп. Не знаю, была ли это местная инициатива (скажем, председателя колхоза), или какого-то высшего начальства (районного, областного?) и насколько такая практика была распространённой. Из воспоминаний Веры, в Кагарлыке детям в школах в 47-м раздавали булочки по распоряжению райкома партии. Думаю, что тогдашний председатель колхоза вряд ли решился бы без разрешения из райкома партии проявить такую инициативу. Жил страх перед наказанием за проявление доброты к тем, кто «скрывал» «излишки». Слово взято из распространённой среди крестьян поговорки: «Ленин сказал, чтобы забрали излишки, — Сталин не расслышал и забрал до крошки»; Ленина мало знали, потому что недолго руководил, но, наверное, помнили «нэп».
* * *
Город. Я надоедал матери, чтобы взяла меня в «Киев» (в окрестных сёлах не говорили «до Києва», [а «до Київа»]). Наконец, она согласилась. Наверное, это случилось, когда я был в первом или втором классе. И вот сижу на дне «полуторки», которая «верхней» киевской дорогой, качаясь по «ухабам», преодолевает путь. В дороге женщины стали говорить, что каждого, кто впервые приезжает в Киев, на Багриновой горе целует «баба». Я спрашивал, какая «баба», женщины же загадочно усмехались. Наконец, полуторка выползла на Багринову гору, и я почувствовал вонь и увидел столбы дыма, поднимавшиеся над свалкой. Вот тебе и поцелуй «бабы» — сказали женщины. Задумываться над тем, что город продуцирует всё большее количество мусора, я начал, вместе с другими, через десятки лет. В мои же детские и юношеские годы положительный профиль города стал для меня основным.
Многоэтажные дома — интересное зрелище для того, кто видел только сельские хаты. Поэтому я крутил головой, осматривая дома и улицы. Тем временем наша «полуторка» ехала от Демиевки к Владимирскому рынку. На этой дороге моё внимание привлекли большие, идеальные шары, свободно лежавшие сбоку от моста. Помню свой приезд в Киев позже, без сопровождения матери: на Владимирском рынке продавал «гнилички» (подгнившие внутри плоды дикой груши), мерил «кружкой», люди покупали.
С какого-то времени образ Города стал сочетаться в моём воображении с окном над фризом, с вечерним светом сквозь шторы и звуками фортепиано. Возможно, даже с фигурой девушки в окне. Но основное — звуки фортепиано: знак «высокой» культуры. Зато шары, которые цепко сохранились в памяти — простейший образец возможностей техники воплощать идеальные рациональные построения. Они — материализованная рациональность, геометрия, её первый образец. Архитектуру в таком случае можно понимать как сочетание музыки и геометрии: поэзия пластики, держащаяся на костяке математических расчётов.
Массовая школа (начальная, средняя, высшая) — основополагающее учреждение профессиональной («высокой») культуры, в противовес обыденной, сельской культуре. Разрастание городов как важнейшего центра профессиональной культуры стало определяющим признаком индустриального общества. Осмысление города не только как центра науки и профессионального искусства, а как сосредоточения самого духа индустриального общества, представлено многими именами. Сравнение села и города с точки зрения социальной и культурной антропологии выявляет различие как самих культур, так и отношения к культурам. Эрнест Геллнер, сравнивая культуры в аграрном и индустриальном обществах, первую назвал «дикой», а вторую «садовой», лелеемой. Профессиональная культура требует целой системы учреждений и практик, без которых не может существовать. Это нежное, требовательное образование. В связи с тем, что культура в индустриальном обществе приобретает политический вес (на чём делает акцент Геллнер), в ней становится заинтересованным государство. Но вместе с тем меняется отношение к культуре также в массовом сознании. В коллективном сознании земледельческих обществ культуру воспринимают почти как часть природной среды. Обучение и воспитание подавляющего большинства людей здесь осуществляется в процессе повседневной жизни и труда, а не «с отрывом от производства». Между тем в индустриальном обществе массовая школа (в противовес элитарным учебным заведениям в земледельческих обществах) становится основой их существования. В том числе основой создания и существования современных наций. Важной особенностью современной культуры является также её направленность на новизну, на изобретение, её прогрессивность. Для молодёжи, стремившейся достичь вершин в науке, литературе и искусстве, Киев символизировал возможности для осуществления этой мечты.
Итак, тот образ Киева, который, пусть на интуитивном уровне, складывался в мои ученические и даже студенческие годы, явно не достигает вершин, выраженных словами:
І ось він – Київ!
Возсіяв хрестами.
Пригаслий зір красою полонив.
Тут Сам Господь безсмертними перстами
Оці священі гори осінив.
Но и в произведении Лины Костенко этот образ оказался несбывшимся ожиданием. Если духовную миссию Киева видеть в его способности быть сердцем духовной соборности нации, то более поздние осмысления соборности (начиная с шестидесятников и до нашего времени) выявили многоаспектность этой проблемы. В достижении гражданской консолидации западных наций роль религии и церкви была куда меньшей по сравнению с ролью профессиональной культуры, государства, права и экономики. Вера религий и церквей в свою единственную истинность (и, соответственно, ложность всех других вер и церквей) была одним из источников религиозной нетерпимости. В становлении западных наций решающую роль сыграла идея толерантности и веротерпимости, сформулированная и популяризированная интеллектуалами. Политики не смогли бы достичь успеха в утверждении нового типа коллективной идентичности — принадлежности к нации — без решающей роли интеллектуалов и учителей. Филологи создали нормированный («национальный») язык, а учитель оттеснил на периферию общественной жизни роль священника. Только там, где религия и церковь сумели соединить акцент на трансцендентном источнике и универсальности моральных ценностей с признанием национально-культурной идентичности, она сохранила свою общественную и культурную важность. Пространственно ближайшим примером может быть общественная роль греко-католической церкви в Галичине или католической в Польше. Но в любом случае признание универсальной этики («макроэтики»), способной оправдать право на существование различных культур, религий, наций, цивилизаций, должно побуждать любую религию к отказу от убеждения, что только она указывает единственно истинный путь к праведности, духовности, спасению.
Киев сегодня далёк от того, чтобы быть примером мудрости в сочетании универсального и самобытного. Важнейший собор — собор Софии — разве что символизирует призыв к постижению этой мудрости. Если признать (а для того есть очевидные основания), что ось Киев – Львов составляет хребет хотя бы политического самоопределения современной «многовекторной» Украины, то о культурном самоопределении современного Киева говорить не приходится. Он не имеет стиля, традиции, остаётся русифицированным, безликим. Имею в виду культуру его улиц, а не культуру того меньшинства, влияние которого на «массовую культуру» остаётся почти незаметным. Языковая инертность его жителей является только одним из проявлений той химерической постсоветской ментальности, которая проявляется во многих других признаках: в архитектуре (самым показательным примером могут быть печально известные новострои на Майдане Незалежности), в засорении улиц и парков, в манере общения его жителей и т.д. Итак, современный Киев не может служить образцом того, как должны сочетаться традиция и обновление, универсальное и самобытное.
Можно всё же надеяться, что со временем пробьются источники из-под почвы, в которой остаётся живой древняя и мудрая душа этого Города. Можно верить в энергетику гор, осенённых бессмертными перстами: «И несытый не вспашет на дне моря поле». Надежда действительно ловит малейшие признаки «пробуждений» (если воспользоваться романтической аллегорией становления национального сознания как пробуждения спящей красавицы). Но во многих случаях плуг выпахивал жизнь народов до корней. Да и плуги в новейшие времена достают значительно глубже.
* * *
Учителя. Моё отношение к учёбе в школе менялось постепенно. Наверное, больше всего сделала для этого первая учительница, к которой я почувствовал скрытую симпатию. Это была Екатерина Степановна Божко (мать говорила, что она наша родственница). Именно она заметила во мне какие-то способности и ненавязчиво подбадривала меня. Совсем неожиданной для меня была встреча в 2001 году с её племянницей, диктором украинского радио, также Екатериной Божко: она показалась мне похожей на свою тётушку и внешним видом, и характером. Больше всего же я ценю её чувство духовного содержания культурной традиции, которое она воплощает в своих радиопрограммах. Педагогические усилия Екатерины Степановны продолжила Наталья Ивановна Добровольская, преподавательница русского языка (её разговорным языком был, конечно же, украинский). Ей ещё пришлось приложить усилия, чтобы направить меня на ценность учения и науки.
Учитель немецкого языка Сергей Викторович был «демобилизованным» офицером, контуженным во время войны; вероятно, осколком ему перерезало лицо. Наверное, контузия стала причиной его нервозности. Но кроме того, нелегко ему было с балбесами, среди которых был и я, которые никак не могли запомнить, что «ворона» на немецком языке Rabe. Он вызывал таких к доске и гневным окриком (который часто сопровождал ударом указки по столу) пытался направить нас на дорогу науки. Думаю, не только я цепенел от страха — из головы вылетало не только Rabe, а и та небольшая стайка слов, которые в спокойном состоянии я, наверное, мог бы всё-таки вспомнить. Вспоминаю его с сочувствием за эти его старания. Потом, в конце восьмидесятых, в течение двух лет своего учительствования мне и самому пришлось заняться поиском педагогических «технологий», чтобы направлять мальчишек и девчонок на путь науки.
Достоин упоминания и памяти Иван Иванович Несвицкий, учитель математики, — человек интеллигентный, освещённый тем светом душевной доброты и доброжелательности в отношении к детям, что вызывало немедленный отклик симпатии. Запомнился по эпизодическим общениям преподаватель истории Сак Панько Сергеевич, сначала был директором Безрадовской школы. В тогдашних условиях разговаривать с учеником на общественные темы вне урока отваживался далеко не каждый учитель. Однажды я спросил его, что такое «шовинизм» (где вычитал это слово, не помню). Единственным ответом на мой вопрос была его улыбка. У старшего поколения был «опыт», которого мы не знали. Потом, в студенческие годы, я бывал в доме моего бывшего учителя, потому что был в дружеских отношениях с его сыном Владимиром (жил и умер в Киеве). Владимир был способным юношей, закончил Обуховскую среднюю школу, затем украинское отделение филологического факультета Киевского университета. Увлекался поэзией, сам пробовал писать стихи. Был добрым человеком и противником русификации. Но, как мне кажется, для реализации хотя бы части своих замыслов ему не хватило воли.
Мне не случалось прочитать какие-либо медицинские исследования о том, какими должны быть физические и психические последствия голодомора такого масштаба, как тридцать третий год. Существуют ли вообще такие исследования? Но впечатления от физической и психической ослабленности детей послевоенного поколения не могли не побуждать к размышлению о последствиях этой трагедии. Мои впечатления склоняли меня к интуитивному предположению, что важны не столько внешние физические недостатки (они были очевидны), сколько ослабленность внутренней жизненной энергии и воли. Голодовка 33-го очень подкосила веру в свои силы, чувство собственного достоинства и способствовала распространению умонастроения «от нас ничего не зависит»: нужно приспосабливаться, чтобы выжить. Мне кажется, довольно распространённым проявлением «покорённости», как следствия голодомора, стала сентиментальность и беспринципная доброта. Всё это можно охарактеризовать как «сломленность», ослабленность характера и воли. И хотя силу жизни, её способность к воспроизводству нельзя умалять, но, наверное, нельзя пренебрегать и последствиями геноцида для поколения, рождённого выжившими родителями.
* * *
Озарение. Память. Одна из тем педагогической психологии впоследствии стала предметом моего интереса: каким образом приоткрыть ребёнку завесу, чтобы ему сверкнуло сияние «горнего мира», мира высших ценностей и идеализаций. Это можно назвать «озарением» (illuminatio у Августина). Потому что так появляется та ось души, благодаря которой идеальное отражается в сокровищах, которые душа хранит в глубинах — на границе сознательного и подсознательного. Живительные источники нашей души (дорогие и часто спасительные для нас воспоминания, которые мы невольно собираем на своих жизненных тропах) теряются во тьме забвения, если гаснет свет «горнего мира».
Имею в виду здесь не какие-то исключительные состояния просветления, описание которых находим в жизни святых. Речь идёт о состояниях, которые переживает или способна переживать каждая личность. Озарение — это восхождение на вершину, с которой пережитое видится в ином свете. Жизнь нашей души — это перекличка состояний просветления с теми впечатлениями в прошлом, которые хранит память. Говорят, что поэзия рождается из тоски по тому, что промелькнуло когда-то нашему взору и что хранится на краю памяти: «побыть в свете, где дотлевает память, в праотчизне свечей, в отчизне огарков» (Игорь Калинец). На самом деле обращение поэта к памяти не является простым воспроизведением чего-то прошлого: оно является лишь подхватыванием намёка в движении поэтического осмысления. Но не только воображение, а также рациональное мышление требует, для «открытия» новых идей, запаса предыдущих попыток и интуитивных прозрений.
Луч нашего воспоминания высвечивает в прошлом прежде всего те впечатления, которые содержат намёк. То, на что они намекают, остаётся неясным, если движение нашего воображения или мысли не делает его отчётливым — вплоть до воплощения в метафоре или умозрительной идее. В нашей душе они словно «доращиваются» или «вызревают» до того, чтобы быть высказанными. На общность образа и идеи указывает не только этимология (слова «образ» и «идея» в древнегреческом однокоренные). Важность какого-либо впечатления в воспоминании заключается в том, что оно содержит потенциал смысла. Эту возможность стать источником оригинальных осмыслений наш опыт содержит в полускрытом виде: только позднее включение определённого впечатления (не каждого, разумеется) в движение воображения и мысли позволяет ретроспекции выявить этот скрытый смысл. Без нашего движения в определённой смысловой перспективе впечатления так и остаются намёками неизвестно на что. Это действительно так, что воспоминание легче схватывает эти намёки на смысл с помощью метафоры. Но только тогда, когда в результате последующего движения нашего воображения и мысли их смысл становится яснее, высвечивается. Это как платоновское припоминание идей-образов. На самом же деле мы не открываем образы-идеи как нечто готовое в своей душе. Их затенённость, неясность свидетельствует, что наша душа ещё не созрела до их «видения» — того состояния, когда они приобретают желаемую определённость, не теряя очарования своей многозначности.
* * *
Дядя Мусий. Одним из примеров чуть приоткрытой ставни, сквозь которую моему воображению сверкнул «удивительный» мир (не нахожу лучшего слова), были сокровища, обнаруженные в доме дяди Мусия. Почти классический рассказ о дедовом чемодане, найденном на чердаке. Дядя Мусий был молчаливым человеком, не любил рассказывать о себе. А этот рассказ был бы интересным. Был георгиевским кавалером, а вместе с тем, как могу судить по разным приметам, в частности по книгам, которые он хранил, испытал влияние украинского национального возрождения первой четверти XX в. После войны жил только с женой, тётей Варкой. Оба ценили религиозные обряды и народные обычаи. Дядя не забывал напомнить мне, чтобы я его на рассвете на «старый» Новый год «засеял», и я каждый год это делал. Среди моих дядей был интеллектуалом. Смог дать образование своим детям: юридическое — Петру (погиб во время войны), Василий стал лётчиком, Аня получила педагогическое образование, играла на аккордеоне. Я сдружился с сыном его дочери Евдокии (Дуси, как её называли) Владимиром Кабышем. Его привозили (потом он сам приезжал) из Киева на время летних каникул к деду, в Тарасовку. Я, почти его ровесник (он на год младше), фактически же его двоюродный дядя, летом был с ним неразлучен. Позже Владимир окончил механико-математический факультет Киевского университета, умер молодым, когда я был в заключении. С его женой, проживающей в Киеве, Кабыш Людмилой, я изредка общаюсь. Сын Людмилы и Владимира, Сергей Кабыш, и сегодня хранит георгиевского креста своего прадеда, его Библию и другие книги.
У дяди Мусия была хорошо обустроенная усадьба: дом, крытый жестью, с верандой, беседкой в саду — круглое деревянное строение с грибовидной крышей, около пяти метров в диаметре, со скамейкой по периметру. Когда с крыльца войти в дом, то через прихожую, которая одновременно служила кухней, прямо напротив были двери, ведущие на веранду. Там стоял диван, а сквозь большие окна заглядывали побеги дикого винограда. Из прихожей-кухни двери налево и направо вели в отдельные комнаты. Дверь южной комнаты иногда была полуоткрытой. Моя находка — иллюстрации к Библии: открытки, вставленные в застеклённую раму, высотой, может, около метра и где-то около полуметра шириной. Рама была расположена на западной стене комнаты. С юго-восточной стороны на неё наискось могли падать лучи утреннего солнца.
Больше всего мне запомнилась открытка Мёртвого моря. Когда я потом пытался метафорическим языком выразить смысл моего впечатления от открыток, то все мои попытки оказались тщетными. Значительно позже я понял, что причиной моей неудачи были не трудности с выражением, а моё отношение к впечатлению как к чисто эстетическому. Между тем открытки были лишь отблеском повествования, стоявшего за ними. Не они сами, а необычность событий, о которых они сообщали, была источником их «удивительности». Через десятилетия, после моего возвращения из заключения, я снова встретился с этими открытками. Вынутыми из рамы и перевезёнными в Киев, уже после смерти моих дяди и тёти. Я пересматривал их, мне было жаль их в их эстетической немощи. Но в моей памяти они значат окно в необычный мир.
Второй находкой в доме моего дяди-садовода были книги. Из дядиных книг я сперва встретился с двумя — книгой без обложек, которая, как я потом определил, была одним из выпусков журнала «Основа». Я вычитывал оттуда стихи. Второй книгой был «Кобзарь», издание 1939 года (мне запомнились иллюстрации Ижакевича на суперобложках: «Женщины даже с рогачами пошли в гайдамаки»). «Кобзарь» можно было читать только на столе у дяди: он не разрешал детям выносить книгу из дома. Потом, когда я был, может, в классе 6-м или 7-м, дядя иногда разрешал взять «Кобзарь» домой. На веранде хранилось много томов «Вестника Европы».
С образом дяди Мусия я в наибольшей степени связываю подозрение, что под влиянием поражения национально-освободительной борьбы 17-20-х годов и пережитых репрессий он отказался воспитывать в своих детях опасные убеждения — религиозные и национальные. Скрывая от них свои убеждения, он сориентировал детей в направлении приспособления к новой реальности, утилитарного прагматизма. Сергей Кабыш рассказал мне, что в 30-е годы его сын Пётр, уже подвергшийся влиянию коммунистической идеологии, требовал от своего отца, чтобы он уничтожил Библию. Отец был вынужден заверить его, что сделал это, а на самом деле спрятал её на чердаке.
* * *
«Кобзарь». Непосредственным следствием чтения «Кобзаря» было то, что я начал сочинять стихи «под Шевченко». Но кроме того, чтение «Кобзаря» — а я читал также вслух для матери и сестры — означало для нас то, что значило для многих: открытие завесы. Завесы, которая отделяла каждого из нас от того культурного и морального мира, который оказался миром нашей собственной души. Образ Украины якобы хорошо знакомой, родной, но только что открытой. Поэзия как путь к самопознанию и самоопределению: «Выдающиеся поэты не просто описывают уже известные переживания; своим описанием они делают многих людей способными воспринимать свой собственный внутренний мир» (Витторио Гёсле).
Во время моего раннего знакомства с «Кобзарём» мне, как и многим другим неискушённым читателям, более доступными были романтические и разве что социально-острые произведения. Мать, как и большинство сельских женщин, не могла без слёз слушать «Катерину», «Тополю», «Наймычку». Ведь изменились лишь внешние обстоятельства, а не судьба украинской женщины. А то, что «Кобзарь» внушал сочувствие к угнетённым, протест против несправедливости, наверное, посеяло первые зёрна моего «народничества». Понимание же Шевченко как творца национального идеала, глашатая национального самосознания не было мною осознано с той ясностью, которой следовало бы ожидать (с точки зрения более позднего «перечитывания» его произведений).
Что же касается более сложных образов, в частности, религиозно-философских мотивов, то дорога к их пониманию оказалась ещё длиннее. На самом деле она бесконечна — ввиду неисчерпаемой многозначности произведения каждого великого поэта в его вершинах. Но если оставить в стороне эту бесконечную перспективу, то с помощью соответствующего толкования произведений (не только Шевченко) был подобран ключ к их пониманию. Сегодня появляются всё новые толкования творчества Шевченко. Они обследуют пространство возможных интерпретаций, смысловые горизонты его творчества и жизни. Имею в виду действительно возможные интерпретации в смысловом пространстве его творчества и жизни. Включая также нацеленность этих смыслов на будущее, их перспективность. Такой подход исключает безосновательные, надуманные интерпретации. Но в то же время он оставляет возможность индивидуального прочтения «текстов», включая и «текст» жизни поэта. Обследование смысловых возможностей текстов важнее согласия или несогласия читателя с толкованиями, которые предлагают, скажем, Грабович или Забужко.
Творческие интерпретации ценны как раз тем, что подхватывают смыслы, способные «работать» в нашей общественной и духовной ситуации. С другой стороны, выявление смыслового потенциала текстов позволяет подхватить смыслы, нацеленные на будущее. Это позволяет избежать той разновидности обеднённости осмыслений, источником которой является привязывание произведений ко времени их написания. Но поскольку качественное толкование является следствием сотворчества, со-мышления, то его предпосылкой является требование, чтобы горизонт мышления самого интерпретатора не был уже того, что он осмысливает. Замечу, что термин «осмысление» я не свожу к мышлению рациональному, а включаю в него также интуитивные постижения, которые могут быть выражены только метафорическим языком. В идеальном варианте можно даже говорить о перекличке душ, преодолевающей временное расстояние.
* * *
У дяди Антона жилое помещение состояло из двух комнат — кухни, где были печь, груба и плита, и второй комнаты, которая, очевидно, должна была служить гостиной. В этой комнате, где в течение некоторого времени была маслобойня, висел большой портрет Шевченко. Всё тот же, в смушковой шапке. Однако на моё воображение больше подействовала большая картина, выполненная масляными красками: казаки на лодке среди моря с высокими гребнями волн. Один казак, одетый, как теперь мне кажется, в красную свиту, стоял на носу лодки. Эту картину, может, под влиянием каких-то более поздних впечатлений, я назвал «Гамалия». Может, кто-то и действительно её так называл.
* * *
Переживание. Индивидуальные особенности памяти характеризуются в частности тем, что сохраняется лучше — слово, мысль, зрительные впечатления или чувства и настроения. Но большинство наших зрительных или слуховых впечатлений входят в нашу память, оттенённые нашей настроенностью, состоянием нашей души. Воображение не просто воспроизводит картинку жёлтых одуванчиков в сиянии утренних рос, а переживание, которое сопровождало это впечатление. Слово «переживание» немецкие интеллектуалы ввели в философский лексикон (нем. Erlebnis). Оно укоренено в романтической философии, затем подхвачено в герменевтике (Шлейермахер и Дильтей, Хайдеггер, Гадамер). Наконец, подчёркнута важность переживания в воспоминании и написании автобиографии. Введённое, чтобы противостоять, с одной стороны, просветительскому рационализму, а с другой, позитивистскому эмпиризму, оно и вправду является важнейшим понятием, которое позволяет понимать воспоминание не как отстранённое толкование прошлых впечатлений, а как их переживание. В отличие от понимания как симпатического «вхождения» (эмпатии), переживание является особым видом воспроизведения. Оно является соучастием, вхождением в свою собственную или чужую жизнь всей целостностью своей души, а не только разумом или воображением. Это попытка войти во второй раз в поток нашего внутреннего опыта — в неповторимое:
Зірку ту, що гойдалася в темній воді
Під кривою вербою в глухому саду,
Вогник той, що до ранку в ставку мерехтів,
Я тепер і на небі уже не знайду.
У село, де пройшли мої юні роки,
В стару хату, де перші пісні я складав,
Де я мрії свої і надії плекав,
Я ніколи, ніколи уже не вернусь.
(Бунин, в моём переводе).
Образ того прошлого, которое каждый из нас хотел бы вернуть, хранит память. Хотя реальное прошлое не вернуть, но, воссоздав его образ, оттенённый тоской утраты, мы способны его пережить (со всей многозначностью, которую приставка пере- придаёт слову «жить»). В воспоминании важно не только избежать пренебрежительного отношения к начальным интуициям (центризм «более зрелого» человека), но и попытаться увидеть духовную жизнь в движении. Озарения значат некоторые важные «повороты», которые не только обозначают новую перспективу, но и позволяют найти перекличку с прошлыми впечатлениями и переживаниями. Оберегая нас от их обесценивания, когда их рассматривают только как ступени к зрелости.
* * *
То, что мы называем нравственным воспитанием, предполагает наличие эмоционально-нравственной памяти и «нравственного воображения» (выражение Э. Бёрка). Нравственное воображение — это способность на уровне переживания воссоздать нравственную ситуацию: собственную или другого человека. Одно из нравственных переживаний ранних школьных лет. Однажды в школе — думаю, ради самоутверждения — я рассказал своим ребятам-одноклассникам выдуманную историю, что у меня есть какие-то перочинные ножики, которые я могу им дать. Думаю, это случилось в первом или втором классе. И когда двое школьников, моих друзей из Тарасовки, пришли к нашей хате, чтобы я дал им те ножики, то я оказался в очень деликатном положении. Мой брат Пётр проявил свой педагогический талант в этой ситуации: нашёл слова, способные вызвать глубокое чувство стыда. Этот урок мне служил предостережением в тех случаях, когда моя фантазия порывалась разрушить перегородку между реальным и выдуманным. Или у меня появлялся соблазн чем-то похвастаться ради самоутверждения.
Одним из этих двух школьников был Мыкола Возный (Тимошович). Позже он отлично закончил Обуховскую СШ, затем филологический факультет Киевского университета, овладел чешским и немецким языками, проработал много лет в Киевском интуристе (как переводчик с чешского и немецкого языков). Был осторожен в высказываниях. Как-то, когда я был на последнем курсе университета, мы вместе ожидали грузовик на Киевской дороге (чтобы доехать до Обухова, а оттуда автобусом до Киева). Мне хотелось выведать у скупого на слова Мыколы, как он относится к советской политической системе, а потому заговорил об отсутствии демократии в СССР. Был доволен тем, что он это моё утверждение воспринял как нечто очевидное.
Второй Мыкола Возный (Алексеевич), хата которого, как и Мыколы Тимошовича, была на «нашем кутке» в Тарасовке, запомнился мне тем, что в ранние школьные годы показал мне интересный «фокус» с листом бумаги. На листе бумаги в отдельных местах были надписи «СССР» и «США». При складывании надпись «СССР» оказывалась в гробу. Отсюда Мыкола делал вывод: «США победит СССР». Он это делал, разумеется, дома, а не в школе, рассчитывая, что в школе я не расскажу об этом. Я и вправду никому не рассказал о его фокусе.
* * *
Страх. Каждый учится преодолевать страх — чувство, полезное в биологической и психической структуре живых существ и людей. Тот, чьё детство проходит в обстоятельствах войны, неминуемо обречён пережить не просто страх, а ужас. В 1947 году участились случаи грабежей. Зимой мы увидели на снегу подозрительные следы у нашего дома. Однажды ночью услышали лай собаки нашего соседа. И втроём — мать, сестра и я, тогда десятилетний — начали заглядывать в окно. В какой-то миг перегородка, отделяющая реальное от воображаемого, была сломана и я «увидел», как по снегу те грабители тащат за собой какие-то сани. Я ощутил тот миг, когда позволил страху завладеть мной: отвернулся, сообразив, что нужно прийти в себя.
Позже я разделил страх на два вида: страх перед чем-то неизвестным, напоминающий беспричинную тревогу (такой страх я назвал «метафизическим»), и страх перед реальными опасностями. Первый вид страха содержит «мистические» элементы. Скажу об «уроках» в преодолении второго из видов страха. Пася стадо с шести-семи лет на пару с кем-то (преимущественно взрослым), я вынужден был в конце дня в уже стемневшем лесу искать корову, которая отбилась от стада. Такая корова, забравшись в чей-то огород, могла объесться и даже погибнуть. Были же такие, что норовили тайком отстать и забраться в огороды. Когда в потёмках куст мне казался волком или каким-то чудовищем, я приучил себя не убегать, а идти к нему — чтобы убедиться, что это таки куст. Побежишь — будет гнаться за тобой то, от чего убегаешь.
Другим примером такого «тренинга» была корова нашей соседки Евги. У неё был такой нрав, что она гналась за тем, кто убегал. Но она медленно, но угрожающе подступала к тому, кто не отступал. И если в твоей руке прут и ты упрямо хлещешь её по морде, она, в конце концов, сдавалась и отступала. Так должно было повторяться каждый раз, когда ей вздумается испытать твою волю: она замечала малейшее проявление колебания и страха. И даже тогда, когда ты утвердил себя в противостоянии с ней, она тебя не оставляла; как только испугаешься и отступишь, будешь заново утверждать себя против неё. Страх всегда коварен, он завоёвывает пространство, которое мы освобождаем для него своим отступлением. Пандемия страха в обществе неминуема, если ему не сопротивляются те, кто не отступает. Однако значительно коварнее страх, запечатлённый на уровне подсознания личного или коллективного.
Должен признать, что хотя в городских условиях я всегда порывался стать на пути насильнику, всё же стал учитывать свою возможность спасти жертву (а заодно и себя). Этому своему благоразумию никогда не находил морального оправдания. И каждый раз чувствовал, что нахожусь вплотную к черте, когда мой порыв защитить жертву вот-вот сломает предостережение моего осмотрительного разума. Того разума, что имеет собственные доводы в пользу нахождения средств в борьбе со злом: чтобы не вступать в борьбу с ним бессильным. Есть разница между сознательным действием вопреки страху и безрассудством, которое нельзя оправдать. А всё же несомненной является ценность спонтанного морального действия. Когда жертвенность оправдана? Её самоценность очевидна, её моральная ценность не зависит от успеха в достижении цели. Но и разум имеет свою правоту. Я буду ещё дальше говорить о том, как мне приходилось стоять в поле напряжения между сердцем и разумом.
На стройке в Киеве. В 1952 году я окончил семилетнюю школу, имея в свидетельстве несколько троек. Но намеревался учиться дальше. Тем временем ближайшая школа, Обуховская, была одна на большое количество сёл. Желающих продолжить обучение после окончания семи классов было много, а потому дирекция отбирала тех, кто не имел в свидетельстве троек. Не знал, что же дальше делать. Попробовал поступить в ремесленное училище. Это был более высокий уровень подготовки рабочих профессий по сравнению с ФЗУ (фабрично-заводское училище). В нём обучение длилось не шесть месяцев, а три года; одновременно молодёжь получала среднее образование. Училище, в которое я подал документы, находилось на бульваре Шевченко (недалеко от площади Победы). Выбрал профессию токаря. Ко мне хорошо отнеслись и подбодрили, имело значение и то, что я сын погибшего на войне. У меня появилась надежда: буду зачислен. Но неожиданно на медицинской комиссии меня забраковали из-за перенесённой в детстве болезни ушей. Я и вправду очень намучился в детстве с ушами, и продолжалось это не один год (воспаление среднего уха). Матери кто-то посоветовал закапывать ухо оливковым маслом, что она и делала, достав где-то то спасительное масло. Я и до сих пор верю, что именно таким способом она вылечила мои уши. Поэтому я перестал плакать, а мать мучиться, глядя на мои страдания.
Не сумев собственными силами найти какую-то учёбу в Киеве, вернулся домой. Чтобы иметь какую-то работу, обратился в колхозную контору и сказал, что мог бы что-то делать — например, носить почту. Однако Параска Конистратовна, старая «коммунистка» (именно этим словом её называли в селе), оценила это как попытку найти себе более лёгкую работу. Вместо того чтобы стать, например, ездовым или кем-то в этом роде. Она жила в Тарасовке одинокой (неизвестно, какое у неё было прошлое — я об этом никогда ничего не слышал), отличалась очень ортодоксальными оценками и действиями. Над ней уже потихоньку посмеивались даже некоторые из сельского начальства.
Не все в тогдашнем колхозном руководстве принадлежали к безжалостным типам, взращённым системой. В период укрупнения колхозов наш колхоз (им. Тараса Шевченко, отдельный в Тарасовке) был присоединён к Старобезрадовскому колхозу им. Ленина; после этого тарасовский колхоз стал овощеводческой бригадой. Бригадир этой бригады советовал матери посылать мою сестру Любу на берег (на противоположной стороне Стугны) собирать помидоры и огурцы, чтобы принести их в своей корзине домой. На нашем песчаном огороде всё выгорало. О поливе не было и речи: колодец глубокий, деревянный, сруб, к тому же один на куток. Он мне запомнился ещё и тем, что с какого-то времени я должен был опускаться в него, чтобы чистить. В те несколько случаев, когда меня, привязанного к «цепи», опускали в него, я со страхом поглядывал на деревянные обаполы, которые выпятились и готовы были обрушиться мне на голову. Итак, наш бригадир, не забывая собственных интересов, считал, что нужно и другим давать жить. Он не опускался до того, чтобы обыскивать корзины людей, возвращавшихся домой со сбора овощей. И Люба иногда ходила на сбор овощей. Однажды её перехватила наша «коммунистка», обыскала и забрала те пять-шесть огурцов, которые она несла. Бригадир, узнав об этом, с досадой что-то сказал о её глупости.
Чтобы всё-таки иметь какой-то заработок, решил присоединиться к тем, кого каждый день рано забирали грузовики на строительные работы в Киев (после рабочего дня привозили в село). Ездили на открытой машине, усаживаясь на деревянные скамейки в кузове. Наша «бригада» (полная машина моих односельчан, которые согласились таким образом работать на стройке) копала траншею для фундамента под дом на ул. Мечникова (теперь Кловский спуск, 14/24). Потом каждый раз, когда я смотрел на этот давно уже построенный дом, то вспоминал этот свой первый тяжёлый труд. Когда впервые прибыл на стройку и спустился в траншею, она была глубокой. И мне нелегко было выбрасывать вязкий грунт с её дна тяжёлой лопатой.
Среди крестьян-строителей были уже «бывалые», гнули мат, я делал замечания. Это, однако, не были «блатные», они не были агрессивными, воспринимали мои замечания с юмором и даже доброжелательно. Попутно замечу, что некоторые из юношей, начавших работать в Киеве, подвергались влиянию криминальной городской культуры. У них появлялись на руках наколки, они привозили из города «финки» и «кастеты», выплавленные из свинца, которые начали использовать в драках.
* * *
Мат. Таким же чужеродным явлением для сельской культуры была матерщина, проникавшая из Киева: в селе она считалась чем-то настолько непристойным, что человека, который матерился, считали ненормальным. Я впитал это отношение сельской культуры к мату. Мат — это действительно внешнее привнесение: украинская культура и мат — вещи несовместимые. Сказано категорично: можно спросить, какую украинскую культуру я здесь имею в виду — реальную или идеальную, массовую или элитарную. Но я отказываюсь здесь от аналитики и остаюсь при своём тезисе. Совместимы ли маты с русской культурой, решать, конечно, русским.
Во всяком случае я не мог стерпеть, чтобы не сделать замечание. Иногда и теперь не удерживаюсь. Но распространённость их сегодня, особенно среди молодёжи (а теперь уже даже среди детей), настолько возросла, что единичные замечания совершенно бессильны. Припоминаю один из случаев в студенческие годы (о котором мои друзья-однокурсники время от времени напоминали мне, посмеиваясь над моей наивностью). На полевых учениях по «военке» (обучение на военной кафедре в университете) я сделал замечание майору Верейкину о недопустимости матерщины для культурного человека. Верейкина я этим должен был очень удивить. Он, наверное, подумал: вот что значит набирать в университет сразу после школы да ещё и освобождать от службы в армии (а в то время после летнего лагерного сбора студентов отправляли в «запас»).
Потом я пытался найти какую-то гипотезу, которая бы объясняла причины, обусловившие появление матерщины. Мне не случилось прочитать серьёзное исследование на эту тему. Исторических источников, которые просто констатируют её распространённость с ранних периодов Московского государства, хватает (Павел Штепа в своей книге «Московство» их упоминает, ссылаясь на разные источники). Но мы имеем, как правило, обычную констатацию распространения, без попытки объяснить причины возникновения. Вообще говоря, это предмет культурологии, социолингвистики и этнопсихологии. Они, однако, могут сделать свои выводы только на основе соответствующих фактов, которые, наверное, уже никогда не будут добыты.
Я не считаю оправданными современные прибегания к разным теориям, чтобы смягчить оценку распространения матерщины в массовой речи украинцев. Имею в виду не только затушёвывание факта, что распространение этого типа ругательств (обсценных выражений) не соответствует украинской традиции, но и того, что это свидетельствует об определённом состоянии массовой культуры и морали. В одной из недавних интересных и полезных публикаций по семиотике (Леся Ставицкая. Язык и пол. — Критика. — Июнь, 2003), в которой матерщина рассматривается как пример из гендерной семиотики (женских и мужских жаргонов или дискурсов), тоже, к сожалению, имеем явную недооценку культурного подтекста этого явления. В сельской культуре основная лексика «ругательств» и проклятий (а не стилистика и интонация!) не отличалась по полам. Слова «зараза», «бес», «дьявол», «чёрт», «проклятый», «чтоб тебе...» и т.д. принадлежали к общему лексикону ссоры как мужчин, так и женщин. Другое дело, что женщины чаще пользовались тем лексиконом, а одна из наших соседок в Тарасовке проявляла в ссоре если не гениальные, то по крайней мере выдающиеся способности в этой разновидности «поэтики».
То, что матерщина стала характеризовать прежде всего речь мужчин (которые в присутствии женщин от неё воздерживались), нельзя объяснять только как проявление мужского жаргона. Напротив, основная причина того, что мужчины воздерживаются от мата в присутствии женщин, объясняется состоянием культуры. Мужчина по биопсихическим, историческим и социологическим причинам более склонен к преступлению, агрессивности, разрушению. Женщина в большей степени склонна стоять на страже жизни, за ней — дети, ей свойственен защитный консерватизм. Оранта — женского рода. Превращение мата в составляющую мужского жаргона является явлением производным: мужчины воздерживаются (теперь правильнее было бы сказать «воздерживались») от употребления матерных слов в присутствии женщин и детей потому, что интуитивно чувствовали, что тем самым нарушают важное табу культурного происхождения. То, что на севере России такого воздержания не наблюдается, свидетельствует, что их использование является показателем состояния культуры.
Семиотику матерных слов, особенно же их семантику, действительно стоит принимать во внимание. Но с точки зрения состояния культуры и этнопсихики того общества, в котором слова «Бог» и «мать» получают известное лексическое соседство (создание смыслов по смежности знаков). Речь идёт, очевидно, о наличии или упадке определённых «табу», соблюдение которых является признаком культуры. Переступание через определённый вид запретов, хотя бы речь шла только о речи, может быть серьёзным признаком эрозии морали, а следовательно, и культуры вообще. Те из современных интеллектуалов, которые согласны, что детей и подростков нужно оберегать от эротических и жестоких фильмов, должны были бы требовать, чтобы на книгах, содержащих непристойные выражения, ставили предупреждение «только для взрослых». Иногда говорят, что избегание мата не позволяет охарактеризовать язык персонажей, а потому использование матерных слов, в виде явной или неявной цитаты, является оправданным средством реализма или натурализма. И что воздержание от такого использования не является успешным средством утверждения культуры и морали. Очевидно, здесь есть основание для дискуссии. Однако преимущественно за скобками дискуссий остаётся происхождение непристойностей. Часто продолжительность их использования в украинском языке не превышает пяти-десяти лет, а начало им положили дешёвые фильмы.
Для себя я принял «рабочую» гипотезу, что появление матерных слов является следствием межэтнического конфликта — бунта какого-то этноса или этносов против ценностей христианской этики (об этом свидетельствует лексика мата). Этот межэтнический конфликт, вероятно, произошёл на периферии Киевской Руси — возможно, в пределах тех земель, где формировалось Московское государство. Затем матерщина стала составляющей не просто «низкой», а криминальной «культуры» (блатной жаргон), которая в процессе русификации стала распространяться в пределах империи. Я согласен с некоторыми из моих коллег-философов, что эта составляющая криминальной культуры играла существенную роль в процессе русификации: массовая культура, нацеленная на уничтожение других культур, должна быть психически и стилистически агрессивной.
Замечу, что мои попытки обсуждать феномен мата в студенческих аудиториях выявили ослабленный критицизм в отношении к нему. Аргументы, которые приводились, были наивными. Говорят: это только языковая привычка. Когда говоришь, что это фразы, которые имеют смысл, и этот смысл подрывает моральные ценности, в ответ слышишь: употребление мата не свидетельствует об аморальности личности. Мол, разделительная линия между моральными и аморальными не совпадает с разделением на «матерщинников» и «нематерщинников». Но этим, кажется, исключают, что «моральная» личность способна (из-за непродуманности, неосознанно) делать то, что имеет негативные общественные последствия — например, подрывает общественную мораль. Другой распространённый аргумент заключается в том, что побуждением к использованию мата является грубость жизни: матерные слова помогают высказаться в ситуациях, когда не хватает слов. Но если матерные слова, что бы там ни говорили, несут в себе смыслы, нацеленные на подрыв основополагающих духовных ценностей, то они только усиливают грубость жизни. Является ли собственное поведение следствием неблагоприятных общественно-политических обстоятельств, или одним из важных источников этих обстоятельств? Если люди считают себя такими, от которых состояние общества не зависит, то это состояние от них никогда и не будет зависеть.
Бесспорно, что, с точки зрения культуры речи, матерные слова — это словесный мусор. И их действительно можно рассматривать с точки зрения засорения жизненной среды. Какова причина того, что опять-таки в большей степени молодые люди, модно одетые, даже с «мобилками», плюют под ноги, бросают на тротуары упаковки, окурки сигарет и т. п., даже в нескольких шагах от урны? Невнимание или небрежность в отношении к жизненной среде (включая невнимательное, раздражённое или грубое отношение к первым встречным) является показателем состояния души, состояния ментальности. Тот непонятный эгоцентризм, который проявляется в засорении жизненной среды, является проявлением засорённости или по крайней мере «сырости» собственной души. Это «сырость» аморфного человека, который, отбросив внешнее, дисциплинарное оформление, оказался беспомощным в решении проблемы самоопределения. Инертность и конформизм, обычное обезьянничанье каких-то сомнительных образцов (чего-то увиденного по телевизору), подражание примитивным показателям престижности является проявлением бегства от совершения собственного выбора. От усилия, необходимого для собственного самоопределения.
Мне кажется, что явление засорения стоит в одном ряду с разрушительством: выжигание кнопок лифтов, расписывание и царапание стен и т. д. Моя гипотеза для объяснения этого явления лежит в русле скорее социальной антропологии — к этой гипотезе я обращусь позже. Здесь лишь замечу, что считаю засорение и разрушительство следствием психического срыва или вызова жёстко оформленного человека типа «homo sovieticus» — неосознанного и искажённого протеста против дисциплинарной «культуры». Отвержение этой культуры приняло искажённые формы потому, что не было (и по известным причинам не могло быть) уравновешено появлением механизмов самоконтроля (наличие которых как раз и является первым признаком цивилизованности). Конечно, что касается матерных слов, то какую-то роль здесь играет обычное обезьянничанье, когда от чужой культуры заимствуют что-то худшее, а не лучшее.
* * *
Но вернусь к траншее. Мне, к счастью, не пришлось долго копать её (наверное, неделю). «Прораб» (думаю, из сочувствия ко мне) распорядился, чтобы я помогал на поверхности гнуть арматуру. Фактически же моя роль сводилась к тому, чтобы что-то подать или перенести. Далее он придумал для меня ещё другую работу: отправил с метлой убирать двор Октябрьской больницы — это внизу, сразу за оградой, которая и сейчас отделяет большой двор с корпусами Октябрьской больницы от улицы. Тогда там был разный мусор, преимущественно битая медицинская посуда. Я должен был сметать этот мусор в кучи. Это стремление «прораба» как-то мне помочь — одно из действий многих людей, которые на моём жизненном пути старались меня выручить в трудных, а то и безвыходных ситуациях.
Итак, пока было тепло, я ездил на стройку; помню, однажды получил за месяц небольшую сумму денег, простояв в длиннющей очереди. Голова очереди находилась перед каким-то фанерным сооружением с небольшим окном, через которое женщина, одуревшая от шума и споров, выплачивала зарплату. Крестьяне согласны были работать хоть за какую-нибудь плату, поскольку в колхозе ничего не платили. Но с наступлением осенних холодов мать твёрдо сказала мне, что я не должен ездить на эту работу, потому что простужусь и заболею. Так и закончились мои поиски учёбы и работы.
* * *
Иллюзорный идеал. Я остался без «общественного положения», чем вызвал чувство презрения у нашей «коммунистки». Что-то помогал матери, ходил в лес за дровами. Важнее, что в течение почти года (вплоть до начала учёбы в Великодмитровской средней в 1953) очень интенсивно читал всё, что мог достать. К счастью, в тогдашней клубной библиотеке в Старых Безрадичах было немало книг, которые я регулярно брал. Библиотекарша Нина (из Тарасовки, до недавнего времени работала всё в той же библиотеке) давала мне возможность заходить между стеллажей, чтобы выбрать себе книгу.
Преимущественно я читал допоздна. Мы втроём (мама, я и Люба) спасались от холода на печи. Печь топили только утром; на зиму же закрывали две другие комнаты, чтобы лучше сохранялось тепло. Коптилкой сначала служила какая-нибудь самодельная бляшка. Её делали, беря трубочку из разбитых радиаторов (остатки войны), в которую вставляли фитиль. Позже мать купила светильник с лампой; лампа служила недолго, трескалась, тогда приходилось пользоваться тем же светильником, уже без лампы.
З-поза свідомости зринає образ хати,
при світлі каганця, неначе сниться,
ворушить вогник тіні волохаті
під шепіт материнської молитви.
Язычок пламени освещал только плоскость моей книги и не мешал маме и Любе. Читал лёжа, подложив под локти какое-нибудь тряпьё. Старыми ряднами и остатками свит мы укрывались и прижимались к тёплой лежанке. Это действительно так: были когда-то рядна, свиты и даже кожухи, но всё это дотлевало на моих глазах. Их нельзя было хранить в сундуках, нужно было что-то носить. В сундуках хранили вышитые рубашки, корсеты, юбки, платки. Золотые серьги, которые матери хранили, чтобы дочерям передать по наследству, изъяли голодовками. Моя мать в голодовку 33-го также продала свои. Невольная ассоциация: сейчас скупается всё ценное, что у людей ещё осталось, и тоже в ситуации, когда для многих людей проблема выживания стоит остро. В Подгорцах на моей «даче» украли всё, изготовленное из алюминия, даже ляду с колодца сняли. Но это уже что-то совсем другое, или не совсем?
Среди книг, которые я в тот год прочитал, немалое место занимала «советская классика», в частности книги писателей — лауреатов Сталинской премии. Вот некоторые из прочитанных: «Далеко от Москвы» Ажаева, роман «Жатва» Николаевой, «Как закалялась сталь» Островского, «Очень хорошо. Десятиклассники» Копыленко, «Молодая гвардия» Фадеева, «Педагогическая поэма» Макаренко, «Белеет парус одинокий» Беляева и тому подобное. Одна из иллюзий, которую создавала эта литература, — в советской системе не только возможен, но и реально существует некий параллельный мир, с мужественными героями, способными отстаивать добро, честность, справедливость. На вопрос, была ли такая иллюзия полезной или вредной, нельзя ответить «да» или «нет». В отсутствие каких-либо идеалов, разрушенных господствующей идеологией, вера в возможность защиты справедливости — это что-то лучше, чем полное отчаяние. Правда, тот, кто поверил в иллюзию, часто был не готов к столкновению с реальностью. Это иногда заканчивалось трагедией, упомяну об одной из них дальше. Однако возможна была и другая эволюция этой иллюзии: столкновение с реальной несправедливостью подталкивало увидеть её источник в самой политической системе. Коммунистическая идеология оказалась противоречивой. Эта противоречивость угрожала ей самой. Современная ставка на эротику, утилитаризм, цинизм и жестокость, культивируемые нашими телеканалами, надёжнее. Никаких идеалов.
* * *
2. Великодмитровская школа
Летом 1953 года стало известно, что в селе Великие Дмитровичи открывается средняя школа. И уже осуществляется набор в восьмой класс (тогдашняя средняя школа имела три ступени). Вероятно, в конце августа я пришёл в школу, меня принял директор школы Щербань Степан Иванович. Помню, он попросил, чтобы я прочитал немецкий текст и проверил, знаю ли я значение некоторых немецких слов. О чём он ещё спрашивал, не помню. Его решение было положительным; он сказал, что я зачислен. Я был очень рад, моя жизнь обретала определённый смысл и направление. Когда мы явились в школу первого сентября, то оказалось, что набралось нас аж на три восьмых класса: «А», «Б» и «В». Мне посчастливилось купить относительно дёшево весь комплект учебников для средней школы у одной девушки из Тарасовки, которая только что окончила десятый класс Обуховской школы.
На момент моего поступления в 8-й класс только двое из нашей семьи — я и Люба — остались при матери. Я должен был помогать матери в нашем нелёгком быту. Общественные обстоятельства этого быта менялись в течение трёх лет моей учёбы в средней школе — со времени смерти Сталина до XX съезда КПСС. Можно говорить о некоторых положительных изменениях (я уже упоминал об отмене натуральных налогов). Узнав о смерти Сталина, я вошёл в хату и сказал матери: «Умер Сталин», ничего не добавив к этим словам. Было лишь осознание важности события. Реакция матери на это событие — печаль. В ней скорее интуитивное, чем осознанное прощание с историей: полвека пережитого уносила с собой его тень.
Моя помощь матери сводилась к привычному в селе труду — прополке и окучиванию картошки, обеспечению дровами, выпасу стада. Поскольку сена зимой не хватало (основной корм коровы), то время от времени я шёл с матерью к одному из наших соседей, у которого была сечкарня (два больших металлических колеса с ручками, с ножами между этими колёсами и желобом, в который клалась солома), чтобы порубить на сечку солому или кукурузные стебли. К этому добавлялись кое-какие помои, тем и подкармливали корову. В память «врезался» случай, когда мать зимой где-то в первые годы 50-х пошла на «Обирки» (название местности у въезда в с. Подгорцы с нижней автомобильной трассы). Чтобы у кого-нибудь купить и принести связку сена. Уже день на исходе, а её нет. А наше детское воображение постоянно преследовала давняя картина её зимнего путешествия. Где-то в начале войны она пошла пешком в Киев с ряженками и, возвращаясь домой, тяжело заболела (воспаление лёгких). Её выходили чужие люди в селе Мрыги. Но с тех пор слово «Мрыги» пугающе действовало на наше воображение. И вот мы вдвоём отправились в путь на поиски матери. Свернув с новобезрадичевской дороги на равнинную низину, которая тянется под склоном холмов в направлении Подгорцев, мы в снежной метели перестали что-либо различать. Уже смеркалось. Я испугался, что в этой белой безвестности мы и матери не увидим, и сами собьёмся с дороги и будем кружить, пока не выбьемся из сил. Она же тем временем, не обнаружив нас дома, сама бросится нас искать. Мы вернулись, вышли на дорогу и всё-таки встретили мать, которая уже шла нас искать. Однако зимой 53-го здоровье матери ухудшилось, её пришлось отправить в Обуховскую (районную) больницу. Мне в таких случаях выпадало «вести» наше домашнее хозяйство: покормить и подоить корову, растопить печь, чем-то накормить Любу.
* * *
В старших классах выработался стиль моей жизни. За исключением того, что я должен был делать, чтобы помогать матери, моё время распределялось между работой за столом и одинокими походами в лес — не только ради дров, но и ради одиночества и размышлений. Утешением во время этих прогулок было для меня пение: наверное, мои слушатели — деревья и птицы — ловили меня на фальшивой ноте, но прощали, чувствуя моё увлечение. Репертуар мой состоял из тех народных песен, которые я запомнил из пения моих односельчан, включая песни литературного происхождения, ставшие народными. Эту любовь к пению я сохранил и в университетские годы, посещая в течение какого-то времени репетиции университетской хоровой капеллы. Больше всего меня привлекали песни символические, с загадочной метафорикой, неважно, лирические или исторические. Одной из таких в моём репертуаре была «Ой на горі вогонь горить». Это объясняет моё пренебрежение к поверхностному психологизму в песенном творчестве и в поэзии, включая большую часть современного бессодержательного поп-пения. Это, конечно, не касается отдельных талантливых украинских поп-певцов и «групп», которые смогли совершить неожиданные «прорывы» в коллективное подсознательное, в миф.
До Великодмитровской школы из Тарасовки километров 6-7. Зимой я отправлялся ещё затемно: моя одинокая и относительно долгая дорога в школу, особенно в заснеженном пространстве и призрачном сиянии луны, навевала настроение заброшенности в безбрежность. Известный мотив: «Маленькая деревня — это только переход...» (Рильке).
Похмуре сіре небо,
блідий місяць.
освітлює мою дорогу в школу,
сніг під ногами холодно іскриться,
пересувається зі мною світле коло.
Довкола розбіги примарних ліній,
проміння схрещення,
раптові зблиски граней,
попід хатами і горбами тіні,
неначе зяючі в безодню рани.
Но как раз Великодмитровская школа сыграла решающую роль в выходе из состояний неопределённости, в обретении веры в свои силы. Более того, она дала также первый толчок к становлению интеллектуальных предпочтений. Кроме влияния отдельных учителей, важную роль сыграло то, что школьная библиотека была относительно богатой (как для сельских библиотек), и я этим воспользовался тогда как мог.
* * *
Зародыши интеллектуальных предпочтений. Если выделять те дисциплины, которые составили сердцевину моих интересов в течение трёх лет средней школы, то это математика и логика, с одной стороны, и психология и литература, с другой. Тем была заложена основа моих интеллектуальных предпочтений также в университете: логика и психология. Но эти предпочтения одновременно посеяли зерно спора двух подходов: эмпирический позитивизм, с одной стороны, и ментализм (с его вниманием к внутреннему опыту), с другой. Диалог этих двух подходов — известная страница в истории философии XX в. В 60-е годы его отголоском в студенческих аудиториях стал спор так называемых «физиков» и «лириков». Я дальше ещё скажу о поисках своей позиции в этом споре.
Итак, два скромных учебника — Логика и Психология — сыграли важную, если не решающую роль в формировании моих интеллектуальных предпочтений. С расстояния десятилетий хочу поблагодарить и авторов этих двух учебников, и тех, кто ввёл преподавание этих предметов в средних школах: да будет светлой память этого их поступка.
Встреча с хорошо написанным учебником имеет решающее значение, особенно в школьные годы. Учебники по истории и географии не любил: они были написаны — как мне и сейчас кажется (и, думаю, не ошибаюсь) — без мысли об ученике, об особенностях его мышления и мировосприятия. Возможно, учебник по истории, из-за навязывания известных схем, и действительно трудно было сделать качественным. Впрочем, меня неприятно поражают также некоторые из современных школьных учебников, недостатки которых обусловлены отчасти небрежностью и непродуманностью, а часто также неоправданным новаторством, что усложняет восприятие текста. Первое, что неприятно поражает, — отсутствие эстетики в изложении, чёткости структуры, той элегантности, которая является залогом ясности. Эти мои впечатления подтверждали отзывы учителей: их раздражение надуманностью нарочно усложнённых упражнений, когда важно, чтобы ученики усвоили прежде всего (и хотя бы) основы. Эта тема, однако, требует более широкого обсуждения, конкретного анализа и аргументированной критики. Мне кажется, что после войны ещё отчасти сохранялась инерция старой интеллигентской школы, которая стремилась к ясности и эстетике изложения (правила взяты в рамки, упражнения хорошо сгруппированы и т.д.). Во всяком случае, в школьные годы встреча с хорошо написанным учебником — написанным с любовью к ребёнку, с учётом особенностей его мировосприятия — имеет исключительное значение. Хорошо, что в 90-е годы появились отдельные учебники, сделанные заботливо. Но пока что это, наверное, скорее исключения, чем правило. (Для примера можно назвать хрестоматии для младших школьных классов Дмитрия Чередниченко и Галины Кирпы).
И всё же влияние отдельных учителей на становление моих предпочтений было существенным. Хочу упомянуть прежде всего о Степане Ивановиче с его знанием двух языков — английского и немецкого. Он обладал исключительным педагогическим талантом. Обладал относительно редким даром вызывать уважение у учеников. Не припоминаю, чтобы он был в состоянии гнева или кричал. Когда потом, через много-много лет, я говорил об этих его особенностях с некоторыми из его учителей-коллег, они оценили эту мою характеристику как идеализацию. Возможно, это и действительно выглядит так с точки зрения людей, которые имели дело с директором в буднях, на «кухне» школьного хозяйства.
Другое влияние было совсем иного характера. Речь идёт о преподавателе математики и физики Гуревиче Самуиле Зиновьевиче, нашем классном руководителе в восьмом классе. Если Степан Иванович прошёл войну, то этот учитель был молодым человеком, худощавым, болезненным, хромал (у него был протез), совсем не умел держать в классе дисциплину. Но он знал математику и физику, как могу судить по моим тогдашним впечатлениям, очень хорошо. Но знать и учить, понятно, разные вещи. Вместе с каким-то другим учеником из класса я должен был помогать Самуилу Зиновьевичу выпускать стенгазету; тогда он вёл нас домой — в хату, в которой снимал комнату, и кормил нас супом. Думаю, что он мог бы работать с нами в классе, но, как сейчас думаю, наблюдая нашу бедность и голодность, сочувствовал нам (хотя никогда ни единым словом не намекнул о своём сочувствии). Его отношение ко мне было дружеским, но без простоты и фамильярности; он относился с уважением, лишённым какой-либо демонстративности; его уважение было естественным. Однако этим он (сознательно или невольно, не знаю) смог заронить зёрна веры в свои силы. Как-то он дал мне написанный от руки текст о действии электрического поля в растворе — текст сложнее, чем те, что были в учебнике по физике. Просмотрев этот текст, я подумал, что он преувеличивает мои возможности, но этот его жест обязывал.
* * *
Хамство. Меня избрали комсоргом класса, и я видел свою роль в направлении учеников к науке и дисциплине. Отдельные ученики (таких, правда, было двое-трое) иногда в общем шуме выкрикивали слово «жид» (как оскорбительное, разумеется). Я тогда почти ничего не знал об антисемитизме, но был убеждён, что оскорблять человека несправедливо. Далее, в рассказе о 90-х годах, я ещё упомяну о своём осмыслении украинско-еврейских взаимоотношений (в частности, в связи со своим участием в дискуссиях, проходивших в Иерусалимском университете) и об «антисемитизме украинцев» и «украинофобстве евреев» (беру в кавычки, потому что использование этих ярлыков требует комментариев). В данном случае я сочувствовал своему классному руководителю, особенно учитывая его беззащитность. Это заставило меня, в отсутствие Самуила Зиновьевича, на комсомольском собрании нашего класса (а мы их проводили без присутствия учителей) осудить недисциплинированность и неуважение к учителю. Я говорил язвительно и задел одного из задиристых парней. Этот ученик не был агрессивно настроен ко мне. Но он не мог стерпеть моих замечаний и решил проучить меня, конечно, не словами. Защитили меня от этой его «науки» ученики Великодмитровской СШ Пётр Соловей (из Старых Безрадич) и Пётр Барандич (из Тарасовки): они как-то уговорили моего «воспитанника» не трогать меня.
Я не принадлежал к задиристым, но подростком и в свои школьные годы не считал, что должен убегать от нападающего, а не защищаться. Где-то до седьмого класса, не по своей инициативе, вынужден был эпизодически, но регулярно драться на кулаках с парнем с соседней улицы в Тарасовке (мы были примерно одинаковой силы и сноровки). В начальных классах на непонятное озлобление парня ответил согласием помериться с ним силой после уроков. Я не был сильным среди сверстников, но смог повалить парня и прижать его к земле. Когда же отпустил его, он, поднимаясь, со всего маху ударил меня головой в нос, который кровоточил всю дорогу до дома.
В Великодмитровской школе этот юноша снова встретился мне на моём пути со своей ненавистью. На этот раз кто-то из учителей предостерёг его, и хорошо, что он прислушался к тому предостережению. И всё же во время моей учёбы — думаю, не только в сельских, но и городских школах — ещё не было того явления, которое получает распространение в брежневские времена (когда в некоторых школах в классе лидерство захватывали ученики с криминальными наклонностями, которые репрессировали тех, кто старался хорошо учиться и прилично себя вести). «Дедовщина», распространившаяся в армии, конечно, была не только продуктом армии, а всего общества, следствием распространения культа силы и криминализации «культуры».
Это находит своё продолжение в 90-х годах в ещё более опасной форме, сросшейся с коррупцией. Когда за попытку приструнить развращённого ученика из семьи «крутых» учителя запугивают или даже бьют. Существуют вполне конкретные факты, подтверждающие это. В условиях, когда криминализация пропитала все общественные и политические структуры до верхушки, становится угрожаемым не только положение принципиального учителя, а каждого, кто стремится защитить моральные ценности, законность и справедливость.
То, что обычно называют «хамством», часто находится в сложном сочетании с не всегда осознанной завистливой злобой к высокому («ресентимент»). Знаю семью, в которой рабочий высокой квалификации в течение долгой совместной семейной жизни так и не смирился с высшим образованием своей жены, учительницы, получая удовольствие от своих насмешек над её принадлежностью к интеллигенции. Потом, читая Достоевского, я накладывал прочитанное на свой ранний юношеский опыт: он подсказывал мне, что озлобленная ненависть к благородному и доброму имеет потаённые источники в природе человека. Когда потом мы, поколение шестидесятников, слушали в кинофильме «Сон» монолог Ширяева о рабстве, то за этим стояло художественное воплощение того, что я здесь имею в виду. В другой форме, от своего соседа, тарасовского пчеловода, эдакого сельского философа, я слышал в свои юношеские годы те же самые рассуждения о тщетности моих стремлений к справедливости и идеалу. Суета всё это, гордыня, важно найти уютную нору, нишу — вот в ней и философствуй себе на здоровье. В нормальных общественных условиях такая позиция, может, и близка к истине, но не в условиях, когда приспособление к общественно-политическим обстоятельствам неизбежно ведёт к профессиональному и моральному самоотречению. По крайней мере в гуманитарных науках, в литературном и художественном творчестве.
* * *
Украинский язык. Мой интерес к украинскому языку в школьные годы имел скорее уклон теоретический — грамматика. В своей устной речи мне ещё долго приходилось избавляться от русизмов. Школа обычно влияла на улучшение речи. Но учителя тогда (как и сейчас) не обращали внимания на повседневную, особенно внеурочную речь учеников. Некоторые учителя не следили (да и сегодня не следят) за своей устной речью. Да и современные учебники по языку не ориентированы на практику использования языка, на выработку привычек общаться в разных ситуациях — то есть, на язык в его действии, в его повседневной практике. В них не найдёте упражнений, рассчитанных на совершенствование устной речи, в том числе на устранение суржика. Теперь появляются даже попытки ввести суржик в рамки «нормы»: мол, язык — не то, что должно быть, а то, что реально существует в языковой практике (в речи). Но, идя по этому пути, можно совсем размыть понятие культуры в нормативном значении слова — понижать нормы до реальности, вместо того, чтобы подтягивать реальность к нормам. Хотя утверждение ценностей и норм действительно должно осуществляться с учётом реальности, но не способом снятия напряжения между тем, что должно быть, и тем, что фактически существует. Потому что такой «реализм» является путём к энтропии культурной среды и, в конечном итоге, к снижению качества человеческой жизни.
Понятно, что в мои школьные годы учителя не говорили о ценности украинского языка. И тем более не наставляли на ценить украинскую самобытность. Вопрос об украинской национально-культурной идентичности не мог даже ставиться: это сразу же попадало под ярлык. Разрешено было говорить только о величии русского языка и культуры. Школа не могла
вести дело воспитания национального самосознания: её задача заключалась в культивировании национального нигилизма. Это было важное направление тогдашней идеологии воспитания: готовить сельских детей к отречению от своего языка в условиях русифицированных городов.
Я испытал влияние этой идеологии: став студентом Киевского университета, с русскоязычным собеседником я разговаривал на русском языке. Только на последнем курсе Киевского университета стал принципиально разговаривать на украинском языке. А всё же некоторые девушки и юноши, и чаще как раз девушки, оказавшись в русскоязычной среде, проявляли спокойную и упрямую «языковую стойкость» (если воспользоваться выражением Ореста Ткаченко и Ларисы Масенко). Понятно, что языковая стойкость — как психическая способность свободно пользоваться языком в русскоязычной среде (которая понимает украинский) — должна быть следствием сознательного выбора. Хотя одного лишь понимания ценности недостаточно для преодоления определённого психического дискомфорта, барьера в такого вида общении, но оно является важной и даже необходимой предпосылкой. Ибо свидетельствует о сознательном выборе, который должен найти поддержку в усвоении соответствующих коммуникативных практик и привычек. Другое дело, что воспитанию ценностных ориентаций скорее вредят, чем способствуют, навязчивое морализаторство или категоричность. Но это уже вопрос педагогической психологии.
* * *
Литература. Ещё до поступления в среднюю школу в Безрадичском сельмаге я покупал небольшие дешёвые книжечки; в частности, там приобрёл сборники стихов Некрасова и Лермонтова. Но в старших классах средней школы я уже читал многотомники — в частности, Тургенева (кроме романов, восхищался его поэзией в прозе, заучивал наизусть), Толстого, Гончарова («Обрыв»), прочитал статьи Добролюбова и Писарева, читал Белинского, нравилась гражданская лирика Некрасова (особенно стихи, посвящённые Добролюбову и Шевченко). Из стихотворений Лермонтова больше всего нравились поэма «Мцыри» (которую выучил наизусть) и стихотворение «Беглец».
Из украинской литературы в старшие ученические годы мне попадались только отдельные произведения; лишь потом я узнал, сколько ценного было спрятано от читателя (от школьника тем более) — точнее, полностью изъято из культурной жизни. Теперь, когда возвращается наследие, ранее изъятое из культурной жизни, моя радость сочетается с ощущением потери — нехваткой времени на чтение. С чтением украинской литературы ситуация была действительно хуже: во-первых, она была значительно беднее представлена в библиотеках, сельской и школьной. А, во-вторых, в том, что мне попадалось под руки, слабее были представлены романтически-идеалистический, религиозно-философский и психологически-антропологический подтексты. А именно это, пусть ещё не совсем осознанно, составляло предмет моих интересов. И всё же хорошо и то, что представление об украинской классической литературе я всё-таки имел: то, что было помещено в хрестоматиях, давало хотя бы элементарные знания об основных мотивах творчества украинских поэтов и прозаиков. Но всё это, разумеется, без каких-либо более широких и глубоких осмыслений. Роль идеологических толкований заключалась в том, чтобы сделать недоступными как раз самое интересное и самое важное в содержании произведений. Но думаю, что успех этого «обезвреживания» был только частичным.
Мне импонировали гражданские мотивы в творчестве Франко. Позднейшие знакомства с творчеством Франко и его личностью стали важным источником в моём создании образа самого себя, который влияет на то, кем мы если и не становимся, то хотели бы стать. Имею в виду Франко как гражданина и труженика. Даже та ситуация, в которой находился Франко, с непочатыми участками работ, требующих голов и рук, напоминает мне мою (да и не только мою) спешку. Везде отставание, многое нужно начинать с нуля.
В общем, можно сказать, что под влиянием чтения русской и украинской литературы я проникся духом гражданских настроений. Слова «Суров ты был, ты в молодые годы умел рассудку страсти подчинять...» читал как своё жизненное кредо. Одним словом, я стал «народником». С учительницей украинского языка и литературы Галиной Иосифовной я встретился через много-много лет после окончания школы — уже после возвращения нашего семейства из ссылки. К тому времени она была женой Григория Семёновича Мостовенко. Григорий Семёнович преподавал в Великодмитровской школе географию. Потом уже во время моего заключения он в течение некоторого времени был директором одной из школ-интернатов в Киеве. Во время горбачёвской перестройки вследствие своего неприятия коммунистической идеологии вышел из КПСС, оставил учительский труд и, чтобы зарабатывать на жизнь, занялся пчеловодством. Когда в 1987-89 годах я стал учительствовать в Великодмитровской школе, убеждал меня заняться этим ремеслом. Я медлил, и вот однажды он привёз в наш дворик в с. Подгорцы два улья с семьями. Затем я вынужден был за ними ухаживать и стал пчеловодом. Во время наших встреч и дискуссий уже в 90-е (иногда очень горячих) Григорий Семёнович оценивал моё понимание национальной проблемы как слишком умеренное. Почему, скажу дальше.
* * *
Естественные науки. Заслугой преподавателя черчения Мирона Романовича было то, что своей строгой требовательностью к точности и аккуратности он пробудил во мне, неожиданную для самого меня, любовь к черчению. Простая ученическая «готовальня», которая содержала рейсфедер и циркуль, вычерчивала разного рода проекции фигур с соблюдением ширины линий и каллиграфии в надписях. Всё должно было быть безупречно и аккуратно. Родственными этим моим графическим интересам были занятия стенографией. Случайно я узнал о существовании Центральных заочных курсов стенографии (в Москве), написал заявление и заплатил за обучение (за счёт всё той же нашей пенсии). Стал аккуратно выполнять все занятия в соответствии с программой: получал за выполненные упражнения неизменно «хорошо» и «отлично». Прекратил эти занятия, когда получил от Курсов учебник второй ступени: к этому времени я уже стал студентом Киевского университета и, как мне кажется, потерял интерес к этим занятиям.
Что касается моих чтений по естественным наукам, то в памяти мне трудно отделить старший класс школы и первый курс университета. На первых курсах университета я продолжал свои занятия математикой, изучил первый том учебника по математическому анализу Фихтенгольца (особенно меня заинтересовала теорема Дедекинда о непрерывности числового ряда). Прочитал книгу «Чарльз Дарвин и его учение» Тимирязева, отличающуюся ясностью изложения (у меня была также его «Жизнь растений»).
На изучение физики я стал обращать особое внимание под влиянием новой, ещё совсем юной учительницы (после окончания университета) Любы Семёновны, к которой испытывал симпатию. Как могу судить по своим впечатлениям, эта симпатия была взаимной. Особенно запомнился мне эпизод на выпускном экзамене по физике. В билете мне выпала экспериментальная задача по электродинамике: кажется, я должен был определить величину сопротивления во внутренней и внешней цепи. Тем временем на экзамен заглянул инспектор из районного отдела образования. Теоретические вопросы своего билета я знал хорошо. Когда же бросился решать задачу, то что-то забыл (возможно, основную формулу, по которой должен осуществляться расчёт). Я видел скрытое волнение своей учительницы, которая заметила моё замешательство. И вдруг вспомнил ту формулу, мой просветлённый вид успокоил её — с её души свалился камень. Все остальные экзамены я сдал на отлично и, следовательно, «шёл» на золотую медаль.
Не думаю, что эту мою симпатию к Любе Семёновне можно назвать платонической любовью. Я был влюблён в девушку из класса «А», которой однажды попытался признаться. Эта девушка заменила другую, в которую я был влюблён в классе шестом и седьмом (она была моей одноклассницей). Думаю, что в юности на меня имел большое влияние идеализированный образ девушки вообще (сторонники психоанализа сказали бы, что это была моя «анима»). Девушка в средней школе была похожа на первую. А потом студентка исторического факультета была в некоторых своих особенностях (наверное, важных для меня) похожа на первых. Этот идеализированный образ женщины имел склонность к распространению на многих женщин: позже мне казалось, что я влюблён в нескольких девушек одновременно. Когда я потом читал Vita Nova Данте (в переводе на укр.), то из-за текста произведения появлялся этот идеализированный образ женщины как воплощение женственности вообще.
Эстетическая сторона общения с девушкой имела для меня отдельное и самодостаточное значение. Сексуальный опыт, телесная сторона взаимоотношений между полами не шла в сравнение с той поэзией и даже мистикой, источником которой была духовная сторона любви. Сегодня, под влиянием телевидения, телесная сторона взаимоотношений между полами оказалась в центре внимания как некоторая разновидность товара или услуг, как проявление товарного фетишизма. Это образует не очень замаскированный фон конкурсов красоты и других семиотик, которые вольно или невольно вливаются в общее русло рекламы женщины как товара. Сознательно или невольно они обслуживают секс-бизнес в разных странах мира — в частности, рынок, на котором украинские женщины стали важным товаром экспорта. Это касается также некоторых писаний о семиотике или даже мистике женского тела. Конечно, душа и тело неотделимы: «мистика» женской души, как и мужской, укоренена в теле. Реабилитацию телесности, подавленной ханжеством и своеобразным коммунистическим аскетизмом, можно было бы только приветствовать. Это напоминает реабилитацию телесности в эпоху Возрождения. Всё же существуют не только совпадения, но и существенные различия этих двух «возрождений» телесности (хотя вульгарное сопровождение было и в период Ренессанса). Когда я здесь говорю о заигрывании семиотики телесности с секс-бизнесом, то имею в виду отсутствие чётких оппозиций. В том же направлении, кажется, претерпевает смещения также эстетика женской одежды, что в наибольшей степени проявляется в «эстетике» одежды летнего сезона: жертвами моды становятся женщины, тела которых явно не рассчитаны на стиль облегания впритык или обнажения. Мода доминирует над вкусом и даже здравым смыслом. И с точки зрения философии моды важно прояснить те идеологии и технологии, которые её поддерживают. В нашем случае не всё объясняет простая ссылка на потребительскую идеологию, ставшую господствующей формой идеологии в западных обществах. Наверное, эта идеология в наших условиях претерпевает специфические модификации.
* * *
Философия. Если не считать учебники по логике и психологии, то по философии в старших классах средней школы мне не попадались книги, чтение которых было бы как раз кстати. Мне понравилась та часть в работе «Эстетическое отношение искусства к действительности» Чернышевского, где излагались эстетические идеи Гегеля. Не просто понравились: идеализм этих страниц относится к лучшим моим интеллектуальным впечатлениям школьных лет. Когда позже я пробовал перечитать эти места, чтобы словно возобновить мои прежние переживания, ничего из этого не вышло: текст оказался неспособным поднять меня, как в первый раз, к вершинам идеализма. У меня был «Краткий курс истории ВКП(б)», и я прочитал главу об историческом и диалектическом материализме (разумеется, без всякого критического отношения к тому). Была у меня книга «Проблемы ленинизма». Прочитал некоторые статьи Ленина.
Итак, в старших классах я всё больше проникался научным мировоззрением, всё стремился объяснять естественными причинами: даже мать склонял к этому способу мышления, особенно когда речь шла о суевериях и вере в сверхъестественные, мистические явления. Вместе с тем этот мой «позитивизм», включая также студенческие годы, спокойно уживался с прислучайным обращением к Богу.
Я был, конечно, далёк от того, чтобы на основе зародышей своего сциентизма и позитивизма критически отнестись к диалектическому и историческому материализму — в том виде, как он был изложен в «Кратком курсе». Итак, с расстояния времени, тогдашнее моё «философское мышление» можно охарактеризовать как сосуществование никак не связанных, а то и несовместимых между собой умонастроений. Две тенденции, не очень любезные или дружественные друг к другу — научный рационализм, с одной стороны, и романтизм (и соединённый с ним идеализм), с другой, тогда вполне мирно уживались в моей душе.
В противовес «философским», в политических настроениях какие-то основные ориентиры были очерчены отчётливее. В старших классах СШ я уже понимал, что конфликт с идеологией и государством опасен. Поэтому нужно думать над способами действия, если хочешь улучшить положение народа. Я представлял себя будущим защитником бесправных, беззащитных, презираемых. Особенно крестьян, потому что я тогда представлял, что в городе живут хорошо. Это было явное преувеличение, хотя всё зависит от того, что считать «хорошей» жизнью. Всё-таки положение рабочих было значительно лучше, чем крестьян. Вероятно, одним из источников этой моей установки были поэзия Шевченко, гражданская лирика Некрасова и гражданские мотивы в стихах Франко. У меня зародилась вера, что политическая система может быть трансформирована и что это тот путь, по которому нужно идти. Весна 1956-го года. Я сдал государственные экзамены отлично: мне открывалась дорога в более широкий мир.
Глава IV. Университет (1956-1962)
1. Начало учёбы. Быт. «Буза».
Лето 1956-го года. Думая о поступлении в Киевский университет, я колебался: поступать на физический или математический факультет или на философский. Выбор в пользу философского отделения историко-философского факультета оказался, с моей современной точки зрения, правильным, но я это оценил только позже. Сначала мне казалось, что я предал свою «позитивистскую» мечту. Мой выбор неприятно поразил моих учителей по «точным» наукам. Да и не только учителей: его не приняла врач Великодмитровской больницы. В студенческие годы она очень мне помогла тем, что держала в течение долгого времени мать в стационаре, чтобы я не прерывал своё обучение. Помню один разговор с ней во время случайной встречи в Киеве: выражая презрение к тогдашней «философии», она считала мой выбор ошибочным. И это было понятно.
Как и все «золотые медалисты», я должен был пройти только собеседование. В приёмной историко-философского факультета его проводил заместитель декана факультета Танчер Владимир Карлович. Сославшись на написанную мною автобиографию, он спросил, в чём, собственно, проявляется мой интерес к философии, что я читал по философии. Хорошо помню, что я назвал ему какую-то статью Ленина (кажется, «Партийную организацию и партийную литературу») и кратко рассказал, о чём в ней идёт речь. На вопрос, почему я назвал именно Ленина, а не что-то другое, не могу ответить с уверенностью. Скорее всего думал, что для вступительной беседы это самое убедительное. Прочитав недавно в архиве названную автобиографию, не мог не удивиться той комичной откровенности, с которой рассказываю о том, что прекратил своё стихотворчество, разочаровавшись в своих поэтических способностях. Владимир Карлович, наверное, тоже прочитал эти признания не без улыбки. Не помню, о чём он ещё спрашивал меня и что я ему отвечал. Но помню, что он сказал что-то такое или так, что я воспринял его слова как почти решающие.
Вернулся в село в радостном настроении. Тем временем сестра, окончив семилетнюю школу, также на отлично, решила, что будет поступать в профтехучилище обувщиков в Киеве, на Подоле. Ей помогла подыскать это училище моя двоюродная сестра Оля, дочь тёти Василины. Преимуществом профтехучилища было то, что в нём ученики получали бесплатное питание и бесплатную одежду, также определённую сумму денег на съём «угла» (училище не имело своего общежития). Потом она сняла «угол» в доме на Контрактовой площади у культурной пожилой женщины. Учась в училище, можно было окончить вечернюю среднюю школу. Таким способом сестра и получила полное среднее образование. Я очень не хотел, чтобы она подавалась в профтехшколу. Мать оставалась в селе в одиночестве, да, кроме того, с её способностями она могла бы хорошо окончить среднюю школу и получить высшее образование. Конечно, ей было бы очень нелегко в бытовом плане. Всё же на её решение больше всего повлияла её неприязнь к колхозному селу и память о пребывании в Киеве в 1947-м году, в пятилетнем возрасте. (Я прочитал ей этот абзац, и она согласилась с этим моим объяснением её мотивов.)
Бесспорно, государственно обеспеченное образование, с выплатой стипендий (пусть и небольших) — положительный элемент коммунистической политической системы, достойный наследования. Некоторые молодые западные нации, которые заботятся об образовании и культуре, сохраняют оплачиваемую из бюджета систему образования наряду с платной. В современной Украине — при тех низких зарплатах и том уровне безработицы, который мы имеем, — платная система образования лишает талантливых детей бедных родителей возможности получить высшее образование (по статистике, к «бедным» родителям относится большинство в современной Украине). А при том уровне коррупции, который охватил высшие учебные заведения, даже те небольшие возможности получить образование за счёт государственного бюджета фактически сведены на нет: чтобы попасть в список тех, кто будет учиться бесплатно, нужно или дать взятку, или иметь протекцию влиятельных людей. Но это одна из многих наболевших тем, которые касаются состояния культуры и образования в современной Украине.
* * *
Итак, в сентябре я с Любой начали учиться в Киеве. Но оказалось, что для первокурсников историко-философского факультета не хватает мест в общежитии. Не знаю, что бы я делал, если бы не выручил брат Павел со своей женой Екатериной: они согласились, чтобы я жил в их тесной комнате. Это была одна из комнат, которые появились в результате пристроек к одноэтажному, очень примитивному зданию, расположенному в конце переулка, который тогда, кажется, назывался Печерский тупик (недалеко от улицы Чигорина, над яром). Это продолговатое здание-барак служило общежитием для какого-то десятка мужчин — выходцев из сёл. Когда мужчины стали жениться, то начали делать пристройки к этому бараку, каждый для себя: комната и кухня, хотя бы дощатая. Они жили надеждой получить квартиры лет хотя бы через пятнадцать-двадцать; потом они действительно получили «хрущёвки» таким способом. Слово «хрущёвки» не использую иронично: ведь провозглашение Хрущёвым программы жилищного строительства, а особенно её интенсивное осуществление, позволило вывести людей из подвалов и полуподвалов. Это была одна из самых успешных и важнейших программ социального содержания. Бесспорно, если не говорить о размерах жилья (ведь увеличение площадей автоматически уменьшало количество квартир), то очевидными являются сегодня недостатки планировки квартир, ошибки инженерных и архитектурных решений (с женой живу сейчас в такой «хрущёвке»). Но решение этих вопросов было уже делом архитекторов и инженеров.
Год жизни среди выходцев из сёл, которые только вливались в рабочий городской слой, вместе с другими похожими наблюдениями, дал мне материал для размышлений над тем, что происходит с традиционной сельской культурой в лице её носителей, переселявшихся в города. Правда, эти её «носители» уже прошли через школу, а юноши — через армию: некоторые элементы сельской культуры они уже отбросили. Скажем, в городских жилищах переселенцев из сёл уже почти не было икон — непременный элемент сельского жилья даже послевоенного времени. В подавляющем большинстве своём они не привозили в город вышитых рубашек и рушников. И всё же в основном они старались жениться на таких же, как сами — недавних выходцах из сёл — и были украиноязычными дома (не без суржика, конечно). Но их дети становились, как правило, русскоязычными. Родители относились к этому безразлично или даже доброжелательно: не хотели, чтобы их дети прошли через унижения, которые они испытали из-за своей украиноязычности. Всё же основная причина этого разрыва традиции — отсутствие национального самосознания (как следствие имперской идеологии и политики).
* * *
Неудобство, связанное с отсутствием места в общежитии, не могло затмить подъём, с которым я начинал своё обучение в университете. Университет! Да ещё и Киевский. Если говорить об основной тональности моей душевной жизни в университетские годы, то, несмотря на колебания настроения (и состояния, которые можно назвать кризисами), я всё-таки сохранял веру в свои силы и в позитивную личную и общественную перспективу. Одним из источников этого оптимистического настроя, не только моего личного, были, бесспорно, общественно-политические изменения, начатые докладом Хрущёва на XX съезде КПСС. На «оттепель» повеяло холодом после 1962 года (после встречи Хрущёва с творческой интеллигенцией в Москве и идеологического совещания 1963 г. в Киеве). Ивана Драча исключают из университета в 1963 г.
Многие факты из студенческой жизни того времени свидетельствуют, что бывшие комсомольцы, и даже комсомольские активисты, проявляли тот идеализм, который я уже охарактеризовал как потенциально опасный для политической системы в её фактическом действии. И хотя это были лишь отдельные порывы, но «кураторы» осознавали: попустишь — и уже не удержишь. У наших преподавателей, доцентов и профессоров, были, следовательно, хлопоты уберечь нас от поступков, следствием которых было бы исключение из университета. Ведь они несли в своей душе тень пережитых чисток. Григорий Костюк в своей книге «Сталинизм в Украине», говоря о послевоенной кадровой чистке, замечает: «От многообещающих возможностей нового культурного и общественного подъёма Украины, которые создались в условиях относительных свобод военного времени, не осталось и следа. Украинская историческая наука, языкознание, критика, литература, театр, потеряв во время этого разгрома всё, что было создано в годы войны, не могли создать до конца 1953 г. ничего знаменательного и равного по значению». Разные события — постановление «О преодолении культа личности...» (июнь 1956 г.), октябрьское восстание в Венгрии — поставили под сомнение ясность разграничения на «буржуазное» и «социалистическое» в официальной идеологии. Властной верхушке приходилось признавать ошибочное применение ярлыков «буржуазного», «врага народа» и т. п. А потому консервативная часть партийной номенклатуры, напуганная событиями в Венгрии, склонялась к тому, чтобы дискуссию заменить аргументом силы.
Впрочем, думаю, не только страх делал из наших преподавателей «осторожных осторожников». Кадровые чистки противоречили самой природе педагогического процесса: он требовал хоть относительной стабильности. Добросовестные преподаватели рассчитывали, что даже в тех узких рамках, в которых партийная бюрократия стремилась удержать «десталинизацию», можно давать какие-то элементы положительных знаний. Ибо как иначе можно работать на перспективу?
* * *
«Буза». Примером проявлений свободомыслия среди студенческой молодёжи может быть «дело», ставшее известным под названием «Буза»: оно касалось студентов философского отделения историко-философского факультета 55/56 учебного года. Чтобы избежать неточностей, я попросил Петра Йолона, с которым в дружеских отношениях с первого года своей работы в Институте философии (до последнего времени был заместителем директора Института философии), рассказать об этом «деле». Йолон был непосредственно причастен к нему.
На философском отделении факультета стало выходить сатирическое приложение к стенгазете «За философские кадры» под названием «Сатирикон». Критические стрелы этого приложения — отчасти открыто, отчасти в форме намёков — были направлены в сторону «советской действительности» и факультетской жизни. Он стал популярным среди студентов: его создавали Юрий Сикорский, Пётр Йолон, Александр Лукьянов. «Сатирикон» вывешивали на третьем этаже «красного» корпуса, факультетское партбюро некоторые из них снимало (после описанного здесь события выпуск «Сатирикона» был запрещён). Тем временем в общежитии было начато что-то вроде рукописного юмористического журнала под названием «Буза», куда студенты при случае записывали разного рода высказывания, афоризмы на философско-юмористические, а также эротические темы. Впрочем, высказывания на эротические темы, по оценке Йолона, не содержали цинизма. Скорее это был вольнодумный юмор: «Ясное, как солнце, изложение начал амурной теории, дабы побудить юношество к обольстительной деятельности». Тогдашние проявления свободомыслия включали также вызов тем элементам ханжеского аскетизма, которые содержала коммунистическая идеология.
Было «выпущено» три номера журнала. Один из них оказался в факультетском партбюро: кто украл и передал, осталось неизвестным. Два других номера где-то исчезли, когда поднялся «шум». Оба журнала не содержали национального компонента, обвинение в «национализме» не фигурировало в «деле» (записи в «Бузе» были как на русском, так и на украинском языке). Начался разбор дела на комсомольских собраниях, но собрание отказалось наложить «взыскание» на Сикорского, Лукьянова и Йолона. Тогда комитет комсомола университета исключает всех троих из комсомола, а после этого приказом ректора их исключают из университета (Сикорский едет работать на шахты Донбасса). Исключение из комсомола преимущественно тогда означало, что за этим должно следовать исключение из университета. И тут «парторг» курса Шипенко, попытавшийся защитить студентов, сам становится объектом обвинений. Он не выдерживает травли, совершает самоубийство (вешается). Дело передают в городскую прокуратуру. В день похорон Шипенко в комнате общежития арестовывают Каленюка, Йолона и Лукьянова, начались допросы с навязыванием версии, что существовала организация, которая ставила целью подстрекательство студентов. Однако, продержав в заключении в течение дня, вечером их выпустили. Но после самоубийства Шипенко и после обращений в соответствующие инстанции его отца, вполне правоверного коммуниста, редактора районной газеты, где-то «наверху» было решено, что «перегнули». Дело передают в республиканскую прокуратуру. Начинается гашение скандала, исключённых восстанавливают в университете и в комсомоле, заменив исключение выговорами. В том числе и в отношении Сикорского, которого вызвали с Донбасса.
Личность Шипенко является примером наивного идеализма как составляющей тогдашнего коммунистического воспитания — декларируемых принципов, с одной стороны, и фактического действия политической системы, с другой. По рассказам, юноша был воспитан в коммунистическом духе (отец был членом партии, да и на должность редактора районной газеты тогда ставили проверенных людей). Выступив в защиту студентов и обвинённый в беспринципности, он не выдержал столкновения с реальностью. Это столкновение для него кончилось трагически.
Студентом я услышал об этом событии в иной версии. В центре этого повествования стояла мать Шипенко. Мне пересказали, что она ходила по университету, говоря: «Куда вы моего сына дели?». В моей памяти запечатлелась эта фигура матери и её слово «вы», обращённое ко всем — преподавателям, студентам, всем здесь, в университете, ответственным за смерть её сына.
Эта история является только одной из целого ряда похожих «дел», связанных с проявлениями студенческого свободомыслия. Попутно замечу, что практика похищения «идейно-порочных» писаний из комнат студенческих общежитий была задействована позже в случае со стихотворением о Ленине, написанным Галиной Паламарчук. И на этот раз (конец 60-х гг.) комсомольское собрание не приняло решения об исключении из комсомола (потому что это бы означало исключение из университета). А на комсомольское собрание Галина надела жёлто-голубой наряд: это был смелый вызов, знак непокорности. После собрания «дело» Галины передали в партком. По её словам, в том, что её не исключили тогда из университета (партком обошёлся выговором), решающую роль сыграл тогдашний секретарь парткома университета Джеджула А. О.
* * *
Быт. Начало нашего обучения длилось недолго, где-то недели две. Было решено отправить студентов на сбор урожая (обычная тогда практика). Поездом нас отвезли в Симферополь, а затем в Первомайский район Крыма, где в одном из колхозов где-то около месяца мы ломали початки кукурузы. Руководителем нашего курса в этой работе был Павлов Василий Терентьевич, преподаватель логики.
Студенты-философы тогда составляли одну группу на каждом курсе. Это и было отделение философии историко-философского факультета. Наша группа (27 студентов и пять студенток) состояла из «старших» и той молодёжи, которая поступила в университет после окончания школы. Подавляющая часть «старших» была демобилизованными офицерами — как следствие хрущёвской инициативы по сокращению армии. Это было уже второе пополнение студенческой среды офицерами, уволенными в «запас» (они имели преимущества при зачислении в вузы). По словам Анатолия Колодного, заведующего отделом религиоведения Института философии (поступил на философское отделение годом ранее меня), почти половину их группы составляли уволенные офицеры. Как и следовало ожидать, они были в основном «членами партии» и, по его оценке, играли ведущую и положительную роль в учебном процессе: были дисциплинированными, трудолюбивыми, и уже этим побуждали к тому «младших». Но он признаёт, что на нашем курсе ситуация была иной, с большей, или даже ведущей ролью «младших» — тех, кто поступил сразу после школы или с годовым перерывом. Но в любом случае взаимоотношения «старших» с «младшими» и на нашем курсе были в целом мирными, хотя не без некоторой дистанции — особенно с некоторыми из «старших». Дистанция эта заключалась не только в психической разнице, а особенно в готовности свободно общаться и выходить в спорах за рамки официальных идеологических стереотипов. Иногда вспыхивали острые споры. Старшие были, конечно, опытнее, «реалисты»; «реализм» некоторых сочетался с цинизмом. Реализм этот проявлялся в несклонности к «рискованным» разговорам, которые, очевидно, оценивались как наивные. Некоторым из студентов моего возраста и вправду были свойственны черты романтизма и этического идеализма.
Мне, конечно, не нравился цинизм «старших» (в частности, использование в речи мата), но в некоторых случаях их «реализм» позволял успешно решать некоторые вопросы студенческой жизни. Меня очень выручил Валентин Лебедь, когда, вследствие своей переориентации на изучение английского языка, я не сдал внелекционное чтение по немецкому в одну из весенних сессий. Ему удалось договориться в деканате, чтобы мне определили срок для сдачи «внелекционного» и не лишали стипендии. Он этим меня очень выручил из трудной ситуации.
Со многими своими однокурсниками (вследствие своего годового академотпуска перед последним годом обучения круг моих однокурсников расширился) я потом был в дружеских отношениях: Евгений Пронюк, Сергей Васильев, Александр Погорелый, Фёдор Канак, Борис Попруга, Пётр Божко, Анатолий Артюх. Многие из однокурсников стали деятельными и известными в различных областях философии (с некоторыми из них я при случае общался и общаюсь): Лариса Левчук (эстетика), Михаил Тофтул (логика), Пётр Гнатенко (психология), Андрей Почапский (история украинской философии) и др.
В течение первого курса мы учились в красном корпусе — левое крыло, на втором этаже. Около года на первом курсе историко-философского факультета училась группа китайских студентов. У нас с ними сложились хорошие взаимоотношения, но вдруг, с ухудшением отношений с Китаем, они внезапно исчезли. Потом нас переселили в жёлтый корпус на бульваре Шевченко: он мне больше нравился — просторнее, светлее.
После окончания первого курса тем, у кого не было жилья, было предложено поработать летом на строительстве нового студенческого общежития (на ул. Чигорина). Поселили нас на время нашей работы в университетском общежитии на Владимирской горке (в здании, где сегодня находится Институт философии, теперь Трёхсвятительская, 4). Поэтому, вместо того чтобы поехать в село к одинокой матери, вынужден был работать на строительстве. Фактически корпус здания был уже возведён, наша задача заключалась в том, чтобы убирать и помогать строителям во внутренних работах. Окна в здании были то ли не застеклённые, то ли побитые, сквозняк гулял в коридорах. Проработав несколько недель, я тяжело заболел (наверное, грипп с осложнением), оказался в инфекционной больнице, расположенной где-то вблизи Лавры. Внимательное отношение и интенсивное лечение, которое мне здесь предоставили, спасли меня. Был, однако, удивлён, когда перед первым сентября мне сказали, что моя фамилия отсутствует в списке тех, кому предоставлено место в общежитии. Пришлось возмущаться и отстаивать своё право, вопрос был решён в мою пользу.
Нас, второкурсников, поселили в том же здании на Владимирской горке. Комната была большая: в ней жило где-то около десяти студентов. Меня выбрали старостой комнаты, и я должен был следить за порядком. В комнате было два студента, склонных выпить и пошуметь после полуночи. Они стали объектом моего воспитания: мои друзья потом подшучивали надо мной, напоминая мне о моих воспитательных усилиях. В свои университетские годы я был сторонником режима и порядка. Не употреблял алкоголь, не курил, особенно неприязненно относился к курению в комнатах (заразе курения поддался на последнем году обучения в университете). Утром сбегал с Владимирской горки, чтобы искупаться в Днепре. Плавание, утренняя гимнастика, бег (утром) — то, что дополняло мой режим в течение студенческих лет. Позже добавилась гребля на байдарке. Впрочем, это было лишь внешнее упорядочивание моей жизни: как станет ясно из дальнейшего рассказа, за этим «внешним человеком» скрывался внутренний, далёкий от упорядоченности, не говоря уже о гармоничности.
В студенческом общежитии на Владимирской горке мы прожили только год (57/58), потом нас переселили на улицу Ломоносова, где и жили до окончания университета. В новом общежитии в каждой комнате было по четыре студента: это большое облегчение. Меня «повысили в статусе»: избрали старостой этажа — должен был следить за уборкой коридора. Итак, с точки зрения общественных обязанностей, уровень моей ответственности вырос. И опять-таки мои «полномочия» касались порядка и сангигиены. Случилось так, что в аналитической философии, сторонником которой я стал в конце своих студенческих лет, труд философа можно характеризовать как «сангигиенический» (расчистка «завалов» на пути научного познания).
Всё же попытки придерживаться разумного режима не могли исправить другую неутешительную сторону быта. Имею в виду плохое питание из-за нехватки средств. Тех 220 рублей стипендии, даже при очень экономном расходовании, не хватало. Подработать было негде. Помню, как мы искали подработки. Иногда случались счастливые случаи: кому-то удалось договориться разгружать вагоны с фруктами в выходные. Наверное, на третьем курсе я перенёс пищевое отравление, после чего хронический колит усложнял мне жизнь.
Но я не мог удержаться, чтобы не покупать книги: за студенческие годы приобрёл себе немалую библиотеку преимущественно философской литературы. К этому на старших курсах добавил своё увлечение классической музыкой: купил проигрыватель и стал покупать пластинки (к концу учёбы собрал их целый чемодан). Зато оказывался в положении, когда не было совсем денег на питание. В ситуации полной безысходности ехал в село. Мать всегда приберегала для меня какую-то пятёрку от пенсии. Иногда обращался к тёте Василине или брату Павлу, иногда выручала Люба. Одним словом, именно благодаря своим родным, которые в трудные минуты выручали, я смог учиться. Помню случай, когда я одолжил небольшую сумму денег у своего однокурсника (одного из двух незрячих студентов нашей группы, которым читал тексты, за что они платили). Очень переживал, пока достал деньги, чтобы вернуть свой долг. Только на последнем курсе мне посчастливилось, по рекомендации комитета комсомола университета, устроиться воспитателем в рабочем общежитии с оплатой 50 руб. в месяц (но моя воспитательная деятельность закончилась конфликтом с начальством, о чём далее).
Всё же, если сравнить тогдашнюю нашу жизнь с положением студентов в современной Украине, родители которых не могут платить за обучение (и которые вынуждены искать подработки), то мы, тогдашние дети бедных родителей, были в лучшей ситуации. Пусть полуголодные, мы имели время для учёбы. Наш быт, конечно, был далёк от желаемого, но как-то перебиваться и учиться можно было. Но существует очевидный контраст между бытом тогдашних и нынешних студентов. Мы одевались кто как мог, носили телогрейки, военные гимнастёрки. Знали студента, который всю зиму ходил в костюме (ходил пешком в Университет от ул. Ломоносова). Одну из зим я проходил в каком-то брезентовом плаще. «Стиляги» были исключениями среди нас, мы не стремились им подражать, поглядывали на них свысока. Иногда в университете нам продавали дешевле обувь. Чувствительнее к одежде были, конечно, девушки: в ответ на предложение юноши пойти в театр девушке неудобно было говорить, что у неё нет более-менее приличного платья.
2. Преподавание. Самоопределение.
Студентам философского отделения читали не только философские дисциплины, но и исторические (всемирная история и история СССР). Это для того, чтобы в дипломе была указана также профессия преподавателя истории: это давало право, при отсутствии работы по философии, преподавать историю в средней школе. Всё же готовили нас прежде всего как будущих преподавателей философии. К нашему счастью, к моменту окончания университета преподавание философии было введено во всех учебных заведениях, что открыло возможность почти каждому из нас получить место преподавателя «марксистско-ленинской философии». Итак, в течение первых трёх лет (шесть семестров) нам читались лекции по истории — всемирной и истории СССР. Был прочитан также курс лекций по истории Украины (Демченко М. В.). К обязательным предметам преподавания тогда относились также политэкономия (капитализма и социализма), а также история КПСС. При этом и политэкономия, и история КПСС занимали много лекционных часов.
Политическая экономия капитализма читалась в ортодоксальной версии — в соответствии с «Капиталом» Маркса. Социалистическая политэкономия представляла собой преимущественно апологию планового ведения хозяйства, которое, по определению, должно было устранять все недостатки как свободной конкуренции, так и монополизации капитала. Понятно, что (в соответствии с «теорией») централизованное планирование в экономике должно обеспечивать более высокий уровень производительности труда и благосостояния, чем капиталистическая экономика. Должен признать, что самостоятельно было нелегко осуществлять критический анализ Марксовой теории капитализма, опираясь только на первоисточники и на сказанное в лекции (тексты «ревизионистов» не были в то время для нас доступны).
И всё же не только политэкономию, но даже историю КПСС можно было читать с интересными критическими «вставками»: зависело от смелости преподавателя, и, следовательно, его готовности быть отстранённым от преподавания (примеры такого отстранения известны из истории Киевского университета). Студенты историко-философского факультета 60-х годов были очень чувствительны к выходам за пределы идеологических стереотипов и к отклонениям от очередного определения «линии партии». Они знали тех преподавателей, которые имеют смелость делать это. Скажем, преподаватель исторического материализма Ткаченко (известный как «национал-уклонист») не только «смел» постоянно ходить в вышиванке, и разговаривать, и преподавать на украинском языке, но и имел собственные взгляды, и то не только в национальном вопросе. Благодаря такой же смелости снискал популярность среди студентов преподаватель истории КПСС Шевченко Иван Иванович.
Несмотря на «оттепель», критику «сталинизма» и ориентацию на восстановление «подлинной», «гуманистической» сути марксизма-ленинизма, большинство преподавателей боялись развивать критическое мышление у студентов. Речь идёт не об идеологически зазомбированных ортодоксах, а о тех, кто в какой-то мере способен был это делать. Они боялись, что своими намёками и скрытыми подтекстами подтолкнут студентов к выходу за пределы, в которые партийная номенклатура пыталась втиснуть процесс «десталинизации». Это несмотря на всё новые признания партийной бюрократией своих ошибок в определении того, что следует считать «буржуазным» или «антипартийным». На последнем курсе (на который я пришёл после годового «академотпуска») нам читал курс по истории марксистско-ленинской философии («ленинский период») Савельев Юрий Константинович. На одном из семинаров при обсуждении произведения Ленина «Материализм и эмпириокритицизм» я высказал замечание, суть которого сводилась к тому, что Ленин искажает Авенариуса (насколько помню, я сказал, что Ленин неправильно толкует понятие «интроекции» у Авенариуса). Реакция со стороны Савельева на это замечание была слишком эмоциональной, он дал мне «надлежащий» отпор. Его можно было понять: Ленин оставался в коммунистических святцах, к тому же критика «культа личности» осуществлялась с неизменной ссылкой на авторитет Ленина. Однако каждый студент, способный хоть немного мыслить, легко мог убедиться, что произведение «Материализм и эмпириокритицизм» было одним из важных источников примитивизма и нетерпимости в отношении целого ряда новых направлений научного и философского мышления XX в. (генетики, кибернетики, математической логики, семантики и т.д.). Их оценивали как «буржуазные» — с соответствующими «оргвыводами».
* * *
Что касается преподавания сугубо философских дисциплин, то порядок их изучения на факультете в целом соответствовал моим школьным предпочтениям. На первом курсе читалась логика (Павлов В.Т.) и основы современной математики. Отнесение логики к подготовительному периоду философского и гуманитарного образования, как по мне, вполне оправданно: оно согласуется с длительной образовательной традицией. Курс лекций под названием «Основы современной математики» (лекции читал М.М. Кабальский, преподаватель математики в Киевском политехническом институте) был одним из серии учебных курсов, предназначенных ознакомить будущих философов с философскими проблемами естественных наук. Но для осуществления этого замысла явно не хватало подготовленных специалистов (тех, которые бы интересовались философскими проблемами естествознания и имели соответствующие знания по философии). Кабальский изложил нам элементы математического анализа с хорошим лекторским мастерством, чётко и ясно. У меня он вызвал симпатию, в частности манерой изложения. Но было непонятно, какое отношение имеют эти элементы к философским вопросам математики. Поскольку философские вопросы любой науки касаются преимущественно её «основ», то, наверное, лучше было бы прочитать некоторые элементы из высшей алгебры, в частности теорию множеств (самостоятельно я принялся штудировать учебник высшей алгебры Куроша). Интересным мог бы быть анализ аксиоматического метода в математике и теоремы Гёделя, хотя бы в каком-то популярном изложении. И т.п.
Так же прочитанный нам курс по неорганической химии был лишь расширением школьных знаний по химии. Зато особый случай произошёл при чтении курса по философским вопросам биологии. Преподаватель в своих лекциях настаивал на правильности теории Дарвина о взаимосвязи среды, изменчивости и наследственности (правоверными последователями Дарвина считались Мичурин и Лысенко). Кое-кто из нас, студентов, вступал с ним в спор: к тому времени «формальную генетику», или, иначе, «вейсманизм-морганизм» уже перестали считать буржуазным учением. Позже я прочитал в Самиздате поразительный текст Роя Медведева о масштабе репрессий, направленных против генетиков. Но однажды преподаватель приходит в аудиторию и говорит, что прекращает читать свой курс, потому что ему нужно всё «передумать». Возможно, это произошло после публикации какой-то статьи в «Правде» или «Известиях» (которые преимущественно выражали официальную позицию). Этот поступок достоин уважения: ведь разрешено и даже привычно было «колебаться» в соответствии с колебаниями «линии партии». В конце концов, он мог и не встречаться с нами, чтобы заявить нам о своём отказе читать курс.
Проф. Харченко читал у нас курс физиологии высшей нервной деятельности: принадлежал к естествоиспытателям, которые не избегали обсуждения философских вопросов своей науки. Во время одного из разговоров я затронул известную философскую проблему души и тела. Мой собеседник, как я его тогда понял, склонялся к биологическому редукционизму — то есть к взгляду, что исследование структур и функций мозга позволяет объяснить психические процессы. Моё возражение возможностям свести психологию к биологии основывалось на общеизвестном тезисе, что сознание (как самосознание!) нельзя объяснить, исследуя биологические структуры и их функции. Эта моя позиция была почти общепринятой среди тогдашних философов: её не оценивали как «антимарксистскую»: ссылались, в частности, на критику Лениным так называемого «вульгарного материализма» Молешотта.
Обсуждение проблемы души и тела в 60-е годы стимулировалось дискуссиями в студенческих средах, известными под названием спора «физиков» и «лириков». Физики подчёркивали возможность создать разумную машину, которая заменит человека во всех его интеллектуальных и даже творческих возможностях. Это была вера в безграничные возможности новой области знаний, делавшей только первые шаги — кибернетики. Эта вера позже и вправду нашла много подтверждений, но одновременно с осознанием реальных пределов этой науки. Не принимая абсолютизации научной рациональности (сциентизм), я в то же время не был склонен поддерживать превосходство «поэтов» над «чёрствыми» физиками и математиками. Поэтический способ мировосприятия, как признак украинской ментальности, казался мне не уравновешенным хорошо развитым критическим рационализмом. А потому иронично воспринимал разговоры об украинской «поэтической душе». Но эта моя установка на усиление интеллектуальной составляющей украинской культуры касалась скорее некоторой перспективы. Потому что в 60-е годы как раз поэзия подтверждала свою способность быть «кавалерией» в атаке на догмы и стереотипы: достаточно здесь вспомнить об акцентировании ценности личности (общее в русской и украинской поэзии) и национального достоинства и самобытности в украинской поэзии. Так что не удивительно, что студенты, чувствительные к поступкам, которые преодолевали инерцию страха, с восторгом тогда читали поэзию. С ней не могли сравниться слишком осторожные философские «ревизии».
* * *
Иллюзии. Мы, студенты конца пятидесятых, не имели никакого представления о состоянии философии в её институциональном измерении, важной составляющей которого являются личности исследователей и преподавателей, то есть философские «кадры». По крайней мере мы не представляли размах тех репрессий, которым подверглись все общественные науки (да и не только общественные). Отчасти это касается и современной ситуации, потому что и сегодня юноша или девушка, выбирая одну из гуманитарных наук как свою будущую профессию, также не очень интересуются уровнем преподавания, который способен обеспечить определённый вуз: учитывая унаследованную отсталость общественных наук, всё ещё ощущается нехватка хорошо подготовленных специалистов и неустойчивость показателя престижности вузов. Между тем предыдущие погромы и кадровые чистки были решающим обстоятельством в понимании последствий (лучше бы сказать, «остатков») с точки зрения личного состава сотрудников институтов и вузовских преподавателей. Только постепенно мы осознавали, что как раз нам (и последующим поколениям) придётся расчищать интеллектуальное пространство от разного рода химерических конструкций, возникших как плод страха тех, кому удалось выжить. Расчищать, чтобы прочертить хотя бы первые контуры свободного позитивного мышления. Этот труд закладки элементов самой необходимой основы продолжается в современной Украине. Точнее, именно сейчас для осуществления этого замысла существуют политические предпосылки. Отсутствие идеологического контроля. Образовательная ситуация послевоенного десятилетия определялась прежде всего политическими обстоятельствами. Наверное, с какого-то времени испуг продолжал действовать как инерция, воплощённая в практике перестраховки. А это сужало возможности использовать «оттепель» как благоприятный случай для возрождения.
О том, что мы, тогдашние студенты, наивно оценивали тогдашнюю образовательную ситуацию, свидетельствует наша инициатива по отстранению проф. Ф. Ф. Еневича от преподавания диалектического материализма. Произошло это на третьем курсе. Известно, что диалектический материализм, вместе с историческим, составлял тогда сердцевину «марксистско-ленинской философии». Лекции проф. Еневича были говорильней на темы соответствующего раздела «Краткого курса истории ВКП(б)». Замечу, что он не производил впечатления агрессивного ортодокса. В частном общении он, наверное, был добрым человеком, был инвалидом (без одной руки), говорили, что окончил Институт красной профессуры — заведение, предназначенное наспех готовить «специалистов» вместо репрессированных и уничтоженных. Отсутствие какой-либо свежей мысли, не говоря уже о каких-либо элементах критичности, подтолкнуло «младших» к решению отказаться от слушания этих лекций. Инициативу «младших» «старшие» решили направить в конструктивное русло: провести совместное курсовое собрание с присутствием самого Еневича и кого-то ещё из факультетской администрации. Мне, как комсоргу отделения (был на этой «должности» не долго), и одному из инициаторов отстранения, было предложено выступить первому. На этот раз, по неизвестным для нас причинам, наша акция завершилась успешно. Еневича отстранили от преподавания на философском отделении: как и следовало ожидать по логике номенклатурной системы, его перевели преподавать на Курсы повышения квалификации преподавателей общественных наук. Вместо Еневича лекции по «диамату» нам стал читать Е. Г. Федоренко, а это был примерно такой же уровень преподавания. Можно ли вообще этот предмет читать «хорошо» и кто в тогдашней Украине мог это делать, мы не думали. (Во второй половине 60-х какие-то варианты критической диалектики попытались развить Босенко В.О. и Злотина М.Л.). Это не единичный случай протеста студентов против догматизма в преподавании: другим случаем (со слов Йолона П.Ф.) был протест их группы против чтения лекций Овандером М.Э.
* * *
П. В. Копнин. К сожалению, должен признать, что проф. Еневич при случае решил меня наказать за моё тогдашнее выступление. Он попытался это сделать на выпускном («государственном») экзамене (входил в экзаменационную комиссию). Те вопросы, которые он задавал, я оценил как слишком «диалектические»: любой ответ на них можно было считать неудовлетворительным. Но государственную экзаменационную комиссию возглавлял Копнин Павел Васильевич, который и выручил меня в этой ситуации. Со свойственной ему решимостью, он перехватил инициативу и, пренебрегая поставленными вопросами, будто он вообще их не слышал, задал мне другие, на которые, по его расчёту, каждый нормальный студент способен ответить. Я и сегодня помню один из них: в чём важнейшее отличие между атомистическим материализмом Демокрита и Эпикура? Моим ответом он остался доволен. Одним словом, он не оставил возможности не то что «завалить» меня (думаю, этого бы не произошло, «удовлетворительно» мне, наверное, поставили бы), а даже отметил мой ответ как один из лучших.
Несколько штрихов к портрету Павла Васильевича, бесспорно, очень характерной фигуры. В студенческие годы мне не довелось слушать его лекций, но несколько его лекций я прослушал на Курсах повышения квалификации преподавателей общественных наук в Киеве в 1965 году. Копнин принадлежал к тем, кого лучше слушать, чем читать: его попытку в своих публикациях превратить диалектику в логику научного познания вряд ли можно считать чем-то оригинальным или перспективным. Но в своих лекциях он мастерски владел языком намёков, умел говорить афористично: удачно выхватывал отдельные тезисы философов, чтобы придать им общественно-критическое звучание. Мне запомнилось именно такое использование им выражения «когда здравый смысл сидит на троне, то разум сидит в тюрьме». Беда, однако, была в том, что даже здравый смысл в тогдашней политической системе не сидел на «троне», не говоря уже о разуме.
Став директором Института философии АН Украины (1962-1968), Копнин открыл отдел логики и методологии науки; поддерживал также исследования рукописных источников Киево-Могилянской академии. Не был боязливым перед «органами» (КГБ, ЦК). Когда в 1965 году КГБ установил причастность Евгения Пронюка к распространению самиздата, он не уволил его из Института, переведя его работать в библиотеку Института. Затем сделал попытку открыть ему путь к защите кандидатской диссертации (которую ещё в 1965 было рекомендовано, но в том же году защита была заблокирована). К сожалению, выйти на защиту Евгению не удалось, но не по вине Копнина. Павел Васильевич шутил, что его, русского, трудно заподозрить в симпатиях к украинскому «буржуазному национализму». Когда в 1968 году он был назначен директором Института философии АН СССР, то в Москве он столкнулся с противодействием и травлей со стороны марксистских ортодоксов. Помню, когда я уже был сотрудником Института философии, то во время его визита к нам в коридоре Института был вывешен шарж (выполненный, скорее всего, Мирославом Поповичем): Павел Васильевич, сидя на коряге с кнутом в руке, отбивается от окруживших его хищных тварей. Умер в 1971 г. в расцвете творческих сил (в 49 лет), говорили, что в той больнице (чуть ли не в одной палате?) смертельная болезнь свела его с Твардовским.
* * *
История философии. Фундаментальной дисциплиной при подготовке философов является, конечно же, история философии. Её нам читали — и думаю, это было правильно — в течение всего обучения в университете. Но и здесь ощущалась нехватка подготовленных преподавателей и продуманности относительно того, как отделить подготовку тех, кто будет специализироваться по истории философии, от остальных студентов (не ориентированных на выбор истории философии как своей будущей специализации). Именно в этом я вижу причину того серьёзного отставания, которое остаётся не преодолённым и сегодня. Имею в виду отсутствие хорошо подготовленных специалистов, способных качественно исследовать отдельные философские традиции (в частности, великие философские традиции — индийскую, китайскую, западную), пользуясь источниками на языке оригинала. Очевидно, профессор, читающий соответствующий курс, должен поощрять двух-трёх студентов/студенток, которые будут специализироваться в рамках его курса. В таком случае подготовка этих студентов далее должна осуществляться отдельно — чтобы обеспечить их дополнительными знаниями, необходимыми для будущей научно-исследовательской работы. В том числе и способностью читать и понимать тексты на языке оригинала. То же самое касается специализации по истории украинской философии: в зависимости от того, какой период студент выбирает как свою специализацию, ему нужны и определённые дополнительные знания. В частности, и знание тех, а не иных языков.
Но, с дистанции времени, основную причину моей неудовлетворённости тогдашним преподаванием истории философии можно объяснить невниманием преподавателей к культурному и этико-политическому контексту идей. Проще говоря, речь идёт об оценке культурных, этических и общественно-политических последствий тех идей, которые предлагают философы. Что же касается попыток рассматривать философские идеи и системы как составную часть идеологий, связанных с «классовой борьбой», то эта примитивная «социология» идей, даже со стороны тогдашних студентов, всё больше становилась объектом насмешек.
На хорошем уровне читал свой курс лекций по истории немецкой классической философии Владимир Илларионович Шинкарук — «хорошем» потому, что толковал идеи философов, опираясь на первоисточники (в русском переводе). Больше всего внимания в своём курсе лекций он уделял философии Гегеля, что, как я теперь считаю, совершенно правильно. Именно этим его лекции привлекали некоторых моих однокурсников: это всё-таки была философия, развивавшая способность к спекулятивному философскому мышлению как важной составляющей философской культуры. Однако меня, с моим позитивистским умонастроением, мало привлекала спекулятивная философия. Поэтому оценка «удовлетворительно», которой Владимир Илларионович оценил мои знания немецкой классической философии, была справедливой. Мои знания философии Маркса–Энгельса (а он прочитал нам также курс лекций по истории марксистской философии «доленинского периода») он оценил на «отлично». Вопрос, конечно, не в оценках (я не стремился иметь только «отлично»), а в том, что философия Маркса, в частности раннего Маркса, к которому Шинкарук привлёк наше внимание, казалась мне более конкретной, практичной. Имею в виду проблему отчуждения, товарного фетишизма, идеологии как иллюзорной разновидности сознания (так называемого «ложного сознания») и тому подобное — то есть, собственно те моменты в философии Маркса, которые были подхвачены в западном неомарксизме и «ревизионизме».
Кроме общей (западной) истории философии, нам прочитали также небольшой спецкурс «истории философии народов СССР», прежде всего русской (Третьяк Н. И.) и украинской (Пашкова А. А. и Дмитриченко В. С.). В моей памяти сохранились не столько интересные осмысления интеллектуальной истории Украины (может, какие-то интересные моменты их лекции и содержали, но я их не припоминаю), сколько очень дружные взаимоотношения и свободное общение Анастасии Александровны и Владимира Савельевича со студентами. Замечу, что содействие Анастасии Александровны сыграло решающую роль в зачислении Евгения Пронюка после окончания университета сотрудником Института философии АН.
Преподавание истории философии завершал курс лекций по «истории современной буржуазной философии» — читал его Шлепаков Николай Степанович. О Николае Степановиче студенты говорили с доброжелательным юмором. К тому времени он был уже пожилым человеком (1898 года рождения), несколько чудаковатым в своём поведении. Студенты подсмеивались, что те тетради страниц, по которым Николай Степанович читал свой курс лекций, засалены от длительного использования. Казалось, что он понимал и слышал лишь то, что написано на тех страницах. Его лекции представляли собой идеологическую риторику, из которой трудно было выловить положительные моменты в содержании этих «буржуазных» философий. Можно было лишь удивляться, насколько эти западные философы наивны и беспомощны в аргументации. К моменту сдачи экзамена по критике буржуазной философии XX в. (оценка по этому экзамену была последней в нашей зачётке) я прочитал всё, что мог достать из опубликованного: оригинальные произведения в переводах на русский в то время отсутствовали (за исключением нескольких западных марксистских критиков «буржуазной» философии). Известно, что уже один только интерес к первоисточникам «буржуазной философии» вызывал подозрение: доступ к этим источникам разрешался лишь тем, кто специализировался на «критике». «Критика» содержала пересказы и цитаты: задача прилежного студента состояла в том, чтобы как-то реконструировать положительное содержание концепций. Фактически, по крайней мере некоторые «критики» тогда и рассчитывали таким образом познакомиться с идеями и концепциями западной философии XX в.
* * *
В поисках самоопределения. Перед седьмым семестром обучения мы должны были выбрать более узкую область специализации — то есть одну из философских наук. Под влиянием своего позитивистского умонастроения я выбрал психологию, одну из «позитивных» наук. Кафедру психологии возглавлял проф. Раевский Александр Николаевич (читал лекции по экспериментальной психологии), лекции читали также Марисова Людмила Иосифовна (психология личности) и Вовчик-Блакитная Майя Васильевна (детская психология). Но, прослушав спецкурсы, я так и не нашёл своей стези в психологии. Сначала думал, что буду специализироваться по экспериментальной психологии, но разочаровался в ней, скорее всего, под влиянием способа преподавания этой области психологии. Думаю, меня могла бы заинтересовать психология личности с акцентом на интроспективной психологии и под углом зрения становления личной идентичности. Сочетание глубинной психологии (психоанализа) с «вершинной» — интересное направление исследований, в котором могли бы встретиться объективные подходы с менталистскими. Но я не проявил активности в поиске соответствующей литературы, чтобы самостоятельно двигаться в этом направлении.
Всё же не исключено, что одной из причин этого моего разочарования были также особенности моего способа мышления — мои скорее теоретические, чем эмпирические предпочтения. Особенно, если принимать во внимание, что меня привлекало выяснение предельных смыслов — «первопричин» или «последних оснований». А это уже не просто теоретическая, а метафизическая направленность мышления. Науки, которые должны импонировать людям с теоретическим складом мышления, — логика, математика, метафизика, если метафизику определять как мышление, занимающееся первоосновами. Имена, которые у истоков западной интеллектуальной традиции означают теоретический и метафизический способ мышления, известны — Парменид, Пифагор, Платон, Аристотель, Плотин, Фома Аквинский...
Итак, слушая лекции по психологии, я одновременно посещал кружок по логике, которым руководил Павлов В. Т. И когда настало время приступать к выполнению дипломной работы, решаю выбрать тему по логике. Но этим своим решением вызвал у проф. Раевского ревнивую реакцию: он пригрозил, что сам придёт на защиту моей дипломной работы по логике. В ситуации такого конфликта Павлов В. Т. не согласился на руководство моей дипломной работой. Я должен был смириться и с видом блудного сына явиться пред очи моего наставника, чтобы усмирить его гнев. Он простил мне моё предательство, но я потерял время в этих колебаниях — у меня не было ни замысла, ни наработок, чтобы написать дипломную по психологии. Крайне недовольный собой, решил воспользоваться своими школьными наработками, написав некий текст о психологических взглядах Чернышевского. Мне было стыдно за такой выбор — нашёл психолога! К тому же папку с написанным текстом я оставляю в автобусе. Вынужден был спешно написать другой вариант текста: кажется, уже отдал его, когда мне сообщили, что мою папку нашла какая-то женщина и я могу её забрать. Должен признать, что это событие стало предвестником ряда других досадных ситуаций, в которые я ставил себя, руководствуясь движением своих предпочтений и пренебрегая внешними обстоятельствами и требованиями.
* * *
Логический позитивизм. На четвёртом курсе моё фрагментарное знакомство с логическим позитивизмом подтолкнуло меня принять позицию аналитической философии. Известно, что в логическом позитивизме назначение философии видели в содействии научному познанию путём анализа языка науки. Понятие значения оказывалось в центре внимания философии — так называемый «лингвистический поворот» в философии. Концепция значения в логическом позитивизме была очень суженной, приспособленной только для анализа языка науки. Здесь нет нужды подробно углубляться в эту концепцию значения. К моменту окончания университета я перенял скорее только основной лейтмотив этого философского течения: мы должны обращать внимание на то, как говорим, чтобы осознавать, содержит ли сказанное нами определённое значение — в противоположность многозначности или абсурду.
Это импонировало мне, так как я видел в этом внимании к значению высказываний эффективное средство критики риторики «диалектического материализма». К тому же, некоторые из философов этого направления допускали возможность говорить не только о когнитивных, но и об «эмотивных» значениях: значениях, которые имеют высказывания, приспособленные для влияния на психическое состояние адресата и на способ его поведения (концепция «эмотивизма» Стивенсона). А это открывало путь к анализу также идеологий. Отрицание логическими позитивистами метафизики не приобрело важного значения для меня: в частности потому, что критика метафизики со стороны официального диалектического материализма склоняла скорее к сближению метафизики и логики как таковых, что ценят определённость, рационально взвешенную основу философского мышления.
Но это влияние логического позитивизма вызвало и моё состояние, которое можно назвать если не интеллектуальным кризисом, то состоянием интеллектуального беспокойства. Оно усилило моё позитивистское умонастроение: напрашивался вывод, что к осмыслению философских проблем лучше подниматься от математики или какой-либо из естественных наук (лучше всего физики). Я даже завидовал моему однокурснику, Владимиру Костырко, который, после окончания первого курса философского факультета, решился перейти на математический факультет университета (хотя год ему пришлось учиться без стипендии). Итак, удовлетворение от того, что философия — это не просто болтовня, а критически взвешенная, дисциплинированная речь, сочеталось с интуицией, что это направление в философии слишком сужает возможности философии. Философия становится лишь слугой прежде всего естественных наук и математики. Оно не содержало предпосылок для развития философии человека, философии культуры, для обоснования этики и т.д. Это не могло удовлетворять: феноменология и экзистенциализм в этом смысле выглядели более привлекательными.
* * *
Самообразование. На первых курсах университета я составил себе грандиозный план самообразования. Он включал изучение иностранных языков: древних — древнегреческого и латыни, основных европейских языков, славянских (польского, чешского, болгарского). Кроме языков, важным пунктом этой программы было чтение художественной литературы (с приоритетом мировой классики), а также истории искусства (прочитал очерки Алпатова, которые нравились больше, чем многотомная «Всеобщая история искусств». В классической музыке меня привлекали как «метафизики» (Бах, Гендель, Моцарт, Бетховен, Вагнер), так и «субъективисты», самым ярким представителем которых был для меня Шопен. Чайковский сочетал обе тенденции. Изобразительное искусство, особенно же поэзия и музыка, побуждали меня к философским осмыслениям. Если говорить об интимной сфере субъективности, то прежде всего в коротких формах Шопена я открывал ближайшие, самые интимные переклички с миром своей души: намёки на воспоминание, манящее нас чарами утраты, невозможность вернуть дорогое в течении времени, кратковременный просвет надежды, текучесть настроений, драматургия состояний.
Разнонаправленность интересов — от естественных наук до искусства — угрожала тем, чего не любил, — дилетантизмом. Утешало то, что поверхностные, но широкие знания являются необходимой частью образования любого философа. Но всё же каждый из нас должен ставить перед собой достижимые цели, чтобы не превратиться в мечтателя, который не достигнет ни одной. Поэтому я вынужден был отказываться от какого-то очередного пункта своей программы. Что касается языков, то я остановился на основах каждого из них (фонетика, орфография, элементы грамматики), но продолжал, хоть и урывками, читать англоязычные тексты. Если не руководствоваться критерием «образованности», то, с практической точки зрения, нужно знать, для чего тебе нужно знание того или иного языка — для общения, для чтения или для перевода. Оказалось, что читать можно и на нескольких языках, но для качественного перевода философских текстов достаточно знания одного или по крайней мере двух языков, неродственных с родным. Потому что основные усилия пойдут не столько на изучение языка как такового, сколько на ознакомление с идейными контекстами, знание которых обеспечивает качество перевода.
И всё же, как потом оказалось, усилия, потраченные мной на изучение языков, не были напрасными. И сегодня я признаю полезность акцента «философии обыденного языка» на внимании к укоренённости философской терминологии в обыденном языке, а следовательно, на важности этимологии и сравнительного языкознания. Это позволяет выявить определённые стереотипы мышления и оттенки значения, связанные с определёнными терминами в национальных языках. И сегодня сравнение переводов текстов на разные языки остаётся для меня интересным под углом зрения герменевтики языка — как путешествие в разные смысловые миры, в которых каждый язык предлагает несколько отличную интерпретацию одного и того же произведения (обнаруживая тем самым скрытые коды, которые содержат когнитивные значения в её семантической структуре).
Как я потом узнал, большинство шестидесятников ходили близкими тропами: посещали те же лекции-концерты, собирали открытки-репродукции живописи, покупали проигрыватели и пластинки, каждую новую книгу репрессированных поэтов. Потом, когда я женился на Вере, то оказалось, что все эти интересы (кроме философии) у нас были общими.
Описанная здесь разнонаправленность интересов была свойственна многим шестидесятникам. За тем стояла жажда знаний неофитов — юноши или девушки, которые словно открыли для себя ранее скрытый от них мир. Разумеется, словом «шестидесятник» я здесь обозначаю особый тип девушки или юноши того времени. Но интересно, что тропы этого поколения молодых людей, с их идеализмом, свели самых последовательных и решительных в едином культурном и общественном оппозиционном движении — движении, которое имело культурные, интеллектуальные и политические аспекты.
* * *
Гражданское и национальное сознание. «Шестидесятники» шли к осознанию своей национально-культурной идентичности через осознание своей личной идентичности: мы отвергали, не всегда легко, стереотипы мышления и распространённый способ приспособленческого, конформистского поведения. Наше пробуждение заключалось в отказе от движения по инерции, в неприятии мимикрии. Коротко говоря, мы хотели быть, а не делать вид, что мы есть. Этот порыв, этот бунт против инерции и обезличивания, пожалуй, был самым существенным умонастроением и чувством.
На последнем курсе университета я стал «национально сознательным». И то не только в осознании важности утверждения национально-культурной идентичности украинцев, но и политического аспекта бытия украинской нации. Важную роль в становлении моего национального сознания сыграли не только проявления «национального пробуждения», в частности поэзия Василия Симоненко, но и разговоры с Евгением Пронюком, с которым познакомился и сблизился на последнем курсе обучения. Культурное движение мы считали хоть и важным, но недостаточным. Упор на этнокультурном факторе называли «этнографическим патриотизмом». Считали, что достижению далеко идущей цели — государственной независимости — должно предшествовать просвещение, направленное на формирование национального самосознания и достижение сначала хотя бы реальной политической автономии.
Перед каждым украинским интеллигентом, для которого вопрос бытия нации становится важным, в условиях коммунистического режима (да и современного олигархического) остро встаёт вопрос, что делать. Конечно, ответ на этот вопрос зависит в большой степени от осознания своих индивидуальных возможностей. Вклад каждого из нас в преобразование общественного бытия связан с нахождением путей самореализации. В условиях тоталитарного режима большой угрозой является невыносимая ситуация раздвоения. У Эго у Фрейда есть заботы с приспособлением внешних требований («супер-эго») к внутренним стимулам («оно»). Однако, эго имеет дело не столько со скрытыми действиями «либидо» или других инстинктов (с этим имеет дело каждый из нас и как-то с этим ладит), сколько со стремлением «внутреннего человека» к деятельному самоопределению — не только профессиональному, но и этическому и гражданскому. «Внутренний человек» не соглашается прятаться в тени «внешнего» человека, который мудро убеждает внутреннего в необходимости приспособления к условиям. Попытка внутреннего человека реализовать себя лишь в частной сфере сразу же наталкивается на осознание обеднения такого способа самореализации, К тому же частную жизнь трудно отделить от публичной. Хотя эта разница между внешним и внутренним человеком в определённой степени присутствует в любом обществе, но в тоталитарном она приобретает характер раздвоения личности. Одним из характерных признаков «гомо советикус» было то, что расхождение между частной и публичной жизнью достигло недопустимой меры: говорить с трибуны одно, а думать другое. Оно стало массовым и привычным явлением. В других случаях так называемая «искренность» требовала психоанализа и выяснения влияния «ложного сознания» (идеологии) на личность.
Но для того, кто чувствовал недовольство этим раздвоением, сразу же вставал вопрос: что делать, как действовать? Чтобы просто проявить несогласие с идеологией или политической системой, не нужно корпеть над книгами — достаточно выйти на демонстрацию с вызывающим лозунгом. Но эффективен ли этот способ действия? Собственно, нахождение успешного способа действия, рассчитанного хотя бы на некоторую перспективу, стало и для меня довольно болезненной проблемой. Моё личное решение состояло в том, чтобы как-то обеспечить себе условия для своих философских исканий, но, по мере возможности, сочетать свои интеллектуальные искания с гражданским долгом — осуществлением просвещения, особенно формирования национального самосознания.
Эту вторую установку я попытался реализовать практически, когда на последнем году обучения мне представилась возможность стать «воспитателем» в рабочем общежитии для строителей (расположенном на ул. Ломоносова, рядом со студенческими общежитиями). Моя идея заключалась в создании подготовительных курсов для поступления в высшие учебные заведения. Ясно, что, независимо от целей просвещения, это могло и в самом деле кому-то из рабочих открыть более интересную жизненную перспективу. Поскольку рабочее общежитие находилось рядом с общежитием, в котором проживали студенты-филологи, то я очень надеялся на влияние студентов украинского отдела на рабочих путём общения. Но наши «курсы» действовали недолго — недели, наверное, три: внезапно меня вызывает начальник ЖЭКа и ставит перед альтернативой: либо я «закрою» свои курсы, либо буду уволен. Причина: студенты «заходят» в общежитие, а чем это грозит рабочим, не объяснил. Я написал заявление об увольнении.
Глава V. Тернопольский мединститут (1962-1966)
Евгению Пронюку каким-то образом стало известно, что на кафедру марксизма-ленинизма Тернопольского медицинского института нужен преподаватель философии. Тогдашняя практика заключалась в том, что выпускник имел право выбора из вакантных мест, информацию о которых собирало Министерство высшего и среднего специального образования. Поэтому я решил съездить в Тернополь, а после разговора с заведующим кафедрой Чернявским Ф. Ф. согласился принять предложение. Меня ободрила перспектива получения квартиры, чтобы забрать мать из села (я её действительно впоследствии получил).
Итак, в августе я покинул село и отправился в Тернополь. С какими мыслями и настроением начинал этот новый период своей жизни? В своём чемодане из самиздатовских произведений, насколько помню, вёз только внецензурные стихи Василия Симоненко. Я осознавал, что еду в край, где ещё недавно закончилась национально-освободительная война, и к каждому слову — особенно тому, которое будет затрагивать национальные проблемы, — моя аудитория будет очень чувствительной. И в то же время такое слово будет под пристальным вниманием соответствующих служб.
По прибытии в Тернополь был поселён в студенческом общежитии. Сначала жил один в небольшой комнате на втором этаже с высоким потолком и с одним окном. Кровать, стол, стул — это и вся меблировка комнаты. В противовес жизни в университетском общежитии, одиночество мне казалось большим преимуществом, давало возможность сосредоточиться с мыслями и чувствами.
Памятным для меня является то особое романтическое чувство, с которым я, ещё юноша (в 1962-м мне было двадцать пять), прожил свои тернопольские годы. Меня словно бросили в юное буйство: идеальные, ещё романтические устремления моей души находили тайный отклик в юной студенческой среде. А большой цветник красивых девушек, которыми я имел возможность ежедневно любоваться и с которыми имел возможность общаться, был дополнительным источником жизненных сил. Желанный образ женщины я находил во многих девушках: не одна из них воспринималась мной как воплощение моего женского идеала. Должен признать, даже с расстояния десятков лет, что годы, прожитые в Тернополе, были для меня счастливыми. Под углом зрения состояния души, романтического настроения, пожалуй — самыми счастливыми.
Впоследствии меня переселили в другую комнату. Однажды приходит молодой, худощавый юноша и говорит, что должен некоторое время пожить здесь, пока решится вопрос с его постоянным жильём. Это был Анатолий Паламарчук (тогда ассистент кафедры хирургии). Понятно, что, едя в Тернополь, я настраивал себя быть осторожным в отношении к людям, не открываться кому попало. В основном я таки придерживался этой своей установки. Хотя мог общаться, и даже довольно долго, с человеком, которому не доверял, заранее определив дистанцию своего сближения. И даже с таким, который подозрительно навязывался с общением. Я не лицемерил с такими людьми и говорил им то, что думаю, но только отмеренную долю из того, что думаю. Складывалось впечатление, что это удовлетворяло таких моих «друзей» (возможно, и вправду друзей, а не врагов): видимо, они ценили эту мою сдержанность.
Наши отношения с Анатолием довольно быстро стали дружескими и доверительными. Замечу, что наша дружба прошла испытание временем, сохранилась до сих пор. Я и сегодня с большой симпатией отношусь к Анатолию, его жене и их детям. Меня всегда поражала осведомлённость Анатолия в общественной, политической и культурной жизни — широта его интересов, в частности, умение анализировать общественные процессы и делать самостоятельные выводы.
Именно Анатолий ввёл меня в круг аспирантов по различным медицинским специальностям. Некоторые из них, в частности Василий Файфура, тогдашний аспирант кафедры патфизиологии (сегодня заведующий этой кафедрой), произвёл на меня впечатление этически ориентированной личности. Вскоре я убедился в наличии также такой черты его характера, как мужество. Позже я передавал ему самиздатовские материалы, которые он давал читать другим аспирантам. Книга «Портреты двадцати преступников», которую я ему в своё время передал, хранилась десятилетиями и теперь представлена в музее Тернопольского мединститута. Ей повезло встретиться со своим автором, Вячеславом Черноволом, который оставил на ней свой автограф.
* * *
Преподавание философии. Сначала я читал лекции и проводил семинары по диалектическому материализму, а потом начал читать курс лекций по этике. Хотя к тому времени я уже имел критические установки относительно диалектического материализма, но в чтении своих лекций свою задачу видел в том, чтобы как можно чётче сформулировать основные принципы этой философской доктрины. В то же время это давало возможность разъяснять общефилософские понятия и давать некоторые элементы из истории философии. На семинарах пробовал задавать «провокационные» вопросы (со скрытым подтекстом), чтобы побудить к творческому мышлению. Но в основном эти мои попытки не были успешными, так как требовали лучшей философской подготовки. Между тем студенты, настроенные изучением естественных наук на позитивистский лад, скорее склонны были считать спекулятивное мышление мудрствованием, оторванным от конкретных познавательных и практических проблем. Поскольку я и сам в то время имел позитивистское умонастроение, то мне был понятен этот их скепсис. И скрыто солидаризировался с пренебрежительным называнием «диалектического материализма» «диамутью». Поэтому стремился приблизить преподавание философии к проблемам научного познания. Наиболее неприятным для меня было проведение семинаров по книге В. И. «Материализм и эмпириокритицизм», на которую отводилось немало часов.
Курс этики был факультативным — то есть не обязательным для посещения (хотя зачёт по нему студенты должны были получить). Но дисциплина в мединституте была на должном уровне, и студенты не пропускали также и факультативные лекционные курсы. Помню, что в наследство от предыдущего преподавателя этики я получил толстую папку с отпечатанными лекциями в соответствии с официальной программой. Не знаю, читал ли он свои лекции по тем текстам, но эти лекции были типичной, как на то время, патетической риторикой, сердцевину которой составлял «кодекс строителя коммунизма». Итак, передо мной встала нелёгкая задача, как использовать официальную программу по этике, чтобы в каждой из тем выхватить что-то человеческое. Первые свои лекции я, конечно, читал «сырыми», а самую первую, с которой начал свою преподавательскую деятельность, закончил, наверное, минут за двадцать до окончания «пары». Как правило, каждый курс лекций, который я читал не только в мединституте, но и позже, более-менее складывался только после того, как был прочитан не менее двух раз. Хотя, как и большинство преподавателей, никогда не прекращал работать над усовершенствованием своего курса лекций, постоянно видоизменяя и совершенствуя своё изложение.
Итак, сначала больше всего хлопот доставлял непростой для чтения этот курс лекций по этике. Но как раз он давал возможность осуществлять свою программу просвещения. Я выделил несколько ведущих тем. Первая — ценность человеческой личности, внутреннего мира человека. Во времена «оттепели» среди творческой интеллигенции подчёркивание уникального мира человеческой личности и призыв уважать этот мир были, очевидно, самым характерным признаком либеральных тенденций. Поэтому я прибегал к цитированию поэзии Василия Симоненко, Лины Костенко, Ивана Драча, также некоторых русских поэтов (Евтушенко). И известное стихотворение Симоненко «Ты знаешь, что ты человек», перекликалось с родственным Евтушенковским «Людей неинтересных в мире нет».
Второй ведущей темой моих лекций, которая вырастала из первой, было подчёркивание ценности украинской культурной самобытности (в контексте ценности культурного разнообразия человечества). В целом я бы не сказал, что было очень трудно переформулировать так называемый «советский интернационализм» в интернационализм настоящий — в понимании равенства наций и ценности культурной самобытности любой нации. Тогдашняя программа компартии содержала двусмысленное толкование национализма: осуждение так называемого «буржуазного» национализма сочеталось в ней с признанием положительной направленности национализма угнетённых наций. Важно было подчёркивать этот последний тезис, подобрав для этого соответствующий контекст. Меня избрали «секретарём» или «комсоргом» комсомольской организации младших преподавателей (ассистентов) и я прочитал на эту же тему две лекции для них. Это выходило «за рамки» принятого, но это прошло, как мне казалось, незамеченным.
В свою лекцию по интернационализму включал также критику антисемитизма: студенты воспринимали её положительно. Думаю, причина такого восприятия заключалась в том, что мне удалось сделать эту критику честной и искренней (не декларативной) — с признанием и недостатков, и достоинств еврейской нации. Я сравнивал украинцев и евреев, характеризуя особенности каждого из этих народов, и указывал на перспективу, которая бы позволила преодолеть взаимные предубеждения. При этом критика традиционных недостатков украинцев также была довольно острой: я чувствовал, что студенты не воспринимали это как оскорбление, а как призыв к изменениям.
Не могу не вспомнить непонятную для меня ситуацию, когда некоторые из преподавателей медицинских дисциплин, выходцы из Тернопольщины, отказывались читать свои лекции на украинском языке. И это несмотря на настояния на этом тогдашнего директора института Петра Огия. Он на Учёном Совете института даже пристыжал земляков, которые упорно отказывались это делать. Для себя самого я объяснял это их поведение их большей уязвимостью (может, кто-то из семьи был репрессирован). Видимо, этот мотив и вправду играл определённую роль в поведении отдельных лиц. Между тем еврей проф. Бергер Эммануил Наумович преподавал патфизиологию на хорошем украинском языке. У меня с ним сложились дружеские отношения: он интересовался философскими вопросами медицины. Это не удивительно, ведь патфизиология действительно давала материал для философских размышлений (структура и функция, норма и патология и т.д.). Но для того, чтобы задумываться над такими вопросами, нужно было иметь высокий уровень интеллектуальной культуры. Кроме того, нас объединяло увлечение классической музыкой: он, как и я, собирал пластинки с записями классической музыки и это была ещё одна тема для наших разговоров (я перевёз в Тернополь свой проигрыватель и свой чемодан с пластинками).
В связи с этим настоянием директора Огия на преподавании на украинском языке вспоминаю его сообщение об отстранении Е. К. Лазаренко от должности ректора Львовского университета за «нецелевое расходование средств» (если воспользоваться популярной фразой из речи современных украинских политиков). В этом случае, как во многих современных случаях, когда человека отстраняют как нежелательного (по политическим мотивам или из корыстных мотивов) говорят одно, а имеют в виду другое. Основным фактом «нецелевого» использования средств в случае Лазаренко было расходование средств на обустройство кабинетов Франко и Шевченко. А имели в виду тот же ярлык «националист», величайшим проявлением которого было настояние на преподавании на украинском языке в университете.
Мне пришлось признавать, что тоталитарная система с её «интернационализмом» (в понимании русификации) способна расширить своё влияние на территорию Западной Украины. Некоторые из молодых людей, кажется, слишком быстро забывали борьбу своих родителей. Помню, что одна из аспиранток местного происхождения даже в наших спорах оценивала мою позицию как национализм (в негативном значении этого слова). Правда, встретив меня в Киеве в 90-е годы, она попросила у меня прощения за те свои бывшие характеристики. И думаю, это было сделано совершенно искренне; если бы не так, она легко могла бы избежать этого разговора со мной, не «узнав» меня во время встречи на Майдане Независимости.
И всё-таки я чувствовал, что большинство студенческой молодёжи было солидарно со мной в этом моём уважении к родной культуре и языку. Бесспорно, важным обстоятельством было то, что большинство студентов были выходцами из Западной Украины. Но меня радовало, что мою позицию понимала и принимала не только молодёжь Западной Украины. И не только украинцы, но и те, кто принадлежал к национальным меньшинствам. В то время я думал, что проблема национальных меньшинств может быть решена на уровне культурно-персональной автономии. Одним словом, мой интернационализм принципиально отличался от официального. Всё же, наверное, на Востоке или на Юге у меня были бы серьёзные конфликты. Там пришлось бы прикладывать значительно больше усилий, чтобы люди смогли признать, что в основе их отношения к украинской культурной самобытности и языку лежат стереотипы нетерпимости, взращённые русским шовинизмом. И, возможно, я бы там столкнулся с непреодолимыми препятствиями в своей преподавательско-просветительской деятельности.
Мне навсегда врезалось в память то внимание, с которым студенты слушали мои лекции по этике. Никогда уже потом у меня не было такой настороженной студенческой аудитории. Мне казалось, что студенты чувствовали мою рискованную отвагу: вероятно, чувствовали, что я чувствую себя на трибуне как в окопе — мои намёки были слишком прозрачными. Тишина в аудитории была полна напряжения.
* * *
Иногда я наталкивался на неожиданную, непредсказуемую реакцию студенческой аудитории. В течение некоторого времени читал некоторые темы по историческому материализму (имел возможность отобрать темы, которые бы я хотел прочитать). На одной из лекций, посвящённой критике ревизионистских общественных концепций, прибегал к широким цитатам из текстов «ревизионистов»: о бюрократии как классе, об отсутствии демократии, а, следовательно, настоящего социализма в СССР и т. д. Но вот после каждой цитаты, сначала несколько голосов, а потом хором студенты стали повторять слово «правильно». Продолжая читать, я думал, как завершить своё цитирование, обезопасив студентов и самого себя от неминуемых «расследований». Поэтому сформулировал свой вывод примерно так: «Я понимаю вашу острую реакцию как проявление вашего неприятия таких недостатков нашей общественной жизни, как бюрократизм, чрезмерный централизм и тому подобное». Возможно, как это было принято в тогдашней ситуации, я говорил о необходимости демократизации общественной жизни, поскольку настоящий социализм немыслим без демократии и т. п. Одним словом, идея социализма с человеческим лицом. В душе я был, конечно, рад за своих студентов, я их действительно любил и был благодарен им за их понимание подтекстов моих лекций.
Хорошо было то, что преподавание в Тернопольском мединституте было лишено мелочной опеки: в этом я в большой степени обязан прежде всего тогдашнему заведующему кафедрой Чернявскому Ф. Ф. Он обычно демонстрировал большую принципиальность, и его громкий голос, когда он кого-то «наставлял», был слышен на весь коридор. Поскольку имел привычку в каких-то ситуациях отчитывать этим же «громким» голосом преподавателей, то некоторые из преподавателей нашей кафедры марксизма-ленинизма вступали с ним в острый спор. Наверное, раза два за всё время моего преподавания он попытался начинать такие разговоры со мной. Но я сознательно выбрал позицию спокойно выслушать его, чтобы, когда он наконец выкричится, так же спокойно объяснить свою позицию в каком-то вопросе. Чувствуя, что ему меня не удалось «завести», он переходил на нормальный разговор. Как потом я убедился, эти отчитывания выполняли защитную, демонстративную роль. Для меня важно было сохранить хотя бы относительную возможность включать в свои лекции просветительские вставки, в которых я фактически стремился подрывать, по мере возможности, определённые стереотипы официальной идеологии. И то, что Чернявский не обременял меня контролем над содержанием моих лекций, было самым важным для меня. Всё же моё промедление со вступлением в партию он не мог терпеть. «Убедил» меня безупречным аргументом: «все преподаватели кафедр марксизма-ленинизма являются идеологическими работниками». Раз так, то так. Он и Леонид Канищенко, секретарь партийной организации Института, и подписали мне рекомендацию для вступления в партию. Самую важную же роль всё-таки сыграли почти единодушные хвалебные отзывы студентов на мои лекции. Это позволяло мне довольно свободно строить курс, фактически пренебрегая содержанием официально утверждённых программ.
Начал также читать курс эстетики, но не успел его выработать. Решил основать кружок эстетики. Студенты проявляли интерес: стремился организовать прослушивание на кружке произведений классической музыки, однако на пути мешало отсутствие качественной аудиотехники.
* * *
Отношения со студентами. Стенгазета. У меня действительно установились очень дружеские отношения со студентами. Важным и даже дорогим для меня знаком такой взаимности стал памятный для меня вечер, когда большая группа студентов одного из курсов, на котором я читал лекции, напросилась ко мне в гости. И вот одна из комнат двухкомнатной нашей квартиры (мать к тому времени я уже забрал в Тернополь) была заполнена молодёжью. Мы говорили и пели песни. К сожалению, вынуждены были это делать не в полную силу своего молодого голоса, так как в соседней комнате была больная мать. Но для меня это гостеприимство и этот вечер остались в памяти как одно из дорогих воспоминаний.
Заведующий кафедрой оценивал мои отношения со студентами как «панибратские». Насколько помню, это слово было употреблено им в ситуации, которая могла бы привести к моему увольнению (если бы на его месте был другой человек). Случилось это так. Вероятно, прежде всего Тернопольский обком комсомола настаивал на своей кандидатуре из числа студентов на должность секретаря комсомольской организации института: это был, однако, молодой человек, которому студенческий коллектив не симпатизировал. Я присутствовал на собрании, где должны были выбирать, и уже знал настроения студентов. На собрании присутствовали ректор института, секретарь партийной организации (им был тогда заведующий нашей кафедрой) и женщина, которая представляла Тернопольский обком комсомола — следовательно, очень влиятельные люди. И всё же, если не ошибаюсь, некоторые из студентов (несмотря на очень настойчивые рекомендации «начальства»!) всё-таки выступили против предложенной кандидатуры. Но «начальство» настаивало на своём. Я чувствовал, что студентов насилуют: студенты вступили в конфликт с принципом «демократического централизма». И в этой ситуации, действуя скорее спонтанно, я поднял руку и получил возможность сказать слово с трибуны. Говорил резко, обращаясь умышленно к заведующему кафедрой, хотя, насколько помню, в большей степени именно ректор настаивал на этой кандидатуре. После моего выступления стало ясно, что студенты «завалят» кандидатуру, как и случилось. Но, к чести Чернявского, он не оценил этот мой выпад против него как основание, чтобы изменить своё отношение ко мне и мстить мне.
Стоит здесь вспомнить добрым словом Леонида Канищенко, доцента кафедры, преподавателя политической экономии, он в течение некоторого времени был секретарём партийной организации института. По его инициативе я возглавил редколлегию студенческой стенной газеты. К тому времени я уже знал некоторых способных студентов с соответствующими идейными ориентациями. Итак, собрался небольшой кружок единомышленников: Георгий Петрук-Попик (в то время уже поэт, а позже общественный и политический деятель), Степан Бабий (в то время начинающий поэт, позже публиковал свои стихи, теперь председатель Винницкой областной организации Союза писателей), Ярослав Боднар (художник, теперь заведующий кафедрой патанатомии) и др.
До нас газету делали очень просто: вставляли узенькие полоски бумаги в деревянный каркас, готовый трафарет с названием газеты. Мы сняли эту деревянную конструкцию и располагали наш материал на большом куске ватмана с хорошим художественным оформлением. Большую часть нашей газеты мы отводили под литературную страницу, куда помещали преимущественно поэзию Василия Симоненко, Лины Костенко, Ивана Драча и т.д. Старались выбирать стихи с патриотическим содержанием. Впрочем, через некоторое время эта наша деятельность стала объектом внимания со стороны КГБ. Однажды Леонид вызвал меня на «разговор». Когда я зашёл в комнату, то увидел там незнакомого мужчину средних лет. Не помню, как он представился мне и как начал свой разговор. Помню только, что он развернул передо мной несколько номеров наших стенгазет и начал спрашивать, откуда мы брали литературный материал, помещённый в газете. Нетрудно было предвидеть такую проверку: в ответ я сказал, что все эти стихи взяты из книг, опубликованных государственными издательствами. Мужчина высказал своё требование в форме просьбы, чтобы я передал (через Леонида) ему книги, из которых мы брали стихи для стенгазет — для проверки. Что я и сделал.
Леонид нравился мне своим разумным прагматизмом, за которым я чувствовал уважение к определённым моральным ценностям и человечность. В роли секретаря партийной организации института он избегал любой демагогии, проводил собрания, стремясь, по мере возможности, сократить их во времени и рассматривать только вопросы, касавшиеся налаживания образовательного процесса. Позже Леонид стал ректором Тернопольского института народного хозяйства. А уже в начале 90-х — заместителем министра высшего и среднего специального образования; я несколько раз тогда заходил к нему, чтобы пообщаться.
В этом рассказе о своём преподавании и отношениях со студентами, оставляю в стороне отдельные промахи, неудачи, курьёзные ситуации, в которые попадал из-за отсутствия опыта. В целом мне удалось избежать серьёзных конфликтов как со студентами, так и с дирекцией Института. Но упомяну о двух событиях, одном конфликтном, другом досадном.
* * *
Разум и религиозная вера. Конфликт этот был вызван историей, связанной со студенткой, (её фамилию теперь уже забыл), которую подозревали в принадлежности к секте (насколько помню, баптистов). Говорили, что её мать принадлежала к этой секте. Я знал эту студентку, симпатизировал ей, а разговоры о её «сектантстве» увеличивали мой интерес к ней. Поэтому я изредка общался с ней, при случае, на улице. Не сомневаясь в её этичности (и предполагая, что она действительно имеет религиозные убеждения) пытался склонить её к ценности украинской национально-культурной самобытности. Она же в ответ говорила, что для неё важнее всего морально-духовная основа человека. На это я отвечал, что одно другому не противоречит. И что моральный и культурно-национальный аспекты личности взаимосвязаны.
Универсализм христианства я мыслил не только как ценность достоинства отдельной личности и равенство всех людей в их достоинстве, но и признание ценности культурной самобытности каждого народа. Любовь к ближнему не означает требования, чтобы другой был похож на тебя самого. Это, с моей точки зрения, элементарные истины христианства. Но и до сих пор не только в практике Русской Православной Церкви, но и в русской православной теологии и философии не преодолены последствия того, что Бердяев в «Истоках и смысле русского коммунизма» назвал национализацией христианства в русском православии, в русском православном сознании. Об этом свидетельствует нетерпимость к украинской культурной самобытности и, в частности, к языку, которой заражены большинство сторонников Украинской православной церкви Московского патриархата. За этим стоит не утверждение христианских ценностей, а ориентация на народобожие (на поглощение более слабого народа более сильным). А в более широкой перспективе мы имеем дело не с христианством, а с деятельностью, нацеленной на построение Нового Вавилона. Удивляет то, что в современной Украине также различного рода христианские секты распространяют религиозную литературу преимущественно на русском языке.
Итак, однажды меня вызывает к себе Чернявский и говорит, что я должен принять экзамен у упомянутой студентки. А поскольку она имеет религиозные убеждения, то поставить ей «неудовлетворительно». Было очевидно, что за этим стояла чья-то инициатива исключить студентку из института. Может, эта инициатива и не исходила от дирекции мединститута. Чтобы исключить из института, нужно было поставить ей несколько (кажется, не менее трёх) неудовлетворительных оценок, неважно по каким именно предметам. Но, видимо, преподаватели медицинских наук не поддавались уговорам: студентка училась на «отлично» и «хорошо». Экзамен по атеизму больше всего годился, чтобы достичь цели. Из того, что Чернявский обратился ко мне, я сделал вывод, что преподаватель атеизма Василий Иванович Шанайда отказался ставить студентке неудовлетворительную оценку. В разговоре со мной он сказал, что студентка знает курс атеизма (история религии, основные мировые религии и т.д.) не хуже, а даже лучше, чем другие, включая также знакомство с аргументами атеистов. Я сказал Чернявскому, что отказываюсь принимать экзамен по атеизму. Через несколько дней меня вызвал в кабинет заместитель директора института и сформулировал своё требование в категорической форме: либо я поставлю неудовлетворительную оценку, либо буду уволен с работы в Институте. Я ответил, что и при таких условиях отказываюсь принимать экзамен. Угроза об увольнении не была исполнена. Но нужное количество неудовлетворительных оценок студентке всё-таки поставили: слишком много средств давления было в руках администрации — увольнение с должности, получение квартиры, защита диссертации и т. д. Позже о факте исключения из Института было сообщено в каком-то из религиозных журналов. И, видимо, областные руководящие органы получили сверху какое-то предостережение: тем более, что не было бесспорных доказательств принадлежности студентки к религиозной общине. Внезапно из обкома партии приходит женщина, которая захотела поговорить со мной, чтобы узнать от меня, заставлял ли меня кто-то поставить неудовлетворительную оценку студентке. Я оценил этот разговор как ход в неизвестной для меня игре. А потому отказался от разговора на эту тему. В конце концов, студентку всё-таки восстановили в Институте с одновременным переводом её, по собственному желанию, в другой мединститут.
* * *
Не помню конкретных обстоятельств, связанных с включением меня в группу, которая должна была осуществлять поездки с целью «атеистического воспитания». Это были регулярные поездки групп из нескольких человек, к которым привлекали преподавателей медицинских и общественных наук. В моей ситуации было два возможных способа действия: первый, в моральном отношении наилучший, — отказаться от участия в такой акции. Это вызвало бы подозрение, а, соответственно, побудило бы к выяснениям, различными способами, моего отношения к религии. Это бы усложнило моё преподавание. Второй, худший: хорошо продумать, что и как говорить. Преподаватели медицинских наук, чтобы избежать конфликта с верующими, выбирали совершенно невинный и испытанный способ — объяснение естественных причин возникновения заболеваний, в противовес различного рода суевериям. Но когда мы прибыли в село (название его теперь уже забыл), и в сельском клубе наступила очередь моего выступления, я говорил что-то очень неудачное о соотношении разума и веры. В ответ на мою «речь» послышались возмущённые голоса, что «нам этого не надо», Поэтому, солидарный в душе с этими преимущественно пожилыми людьми, которых собрали на «встречу с врачами», покинул, пристыженный, трибуну.
* * *
Ещё одно лето я пробыл в своём селе с матерью. Каждый раз встречался с Евгением Пронюком, чтобы обсудить политическую ситуацию и взять у него что-то из самиздатовских материалов. Мне дали обещанную квартиру, я перевёз в Тернополь мать, свой дом в селе мы продали. Я понимал, что ей нелегко будет в новой для неё среде: и действительно, во дворе, за исключением одной женщины, у неё почти не было с кем общаться. Помочь этому я не сумел, как и должным образом заботиться о её быте. Квартира наша была расположена в доме недалеко от Института, на тогдашней ул. Ленина: двери из дома выходили во двор, напротив было здание милиции.
Вспомнил это здание милиции в связи с одним приключением. Каждый раз, когда мне приходилось лицом к лицу сталкиваться с какой-то несправедливостью, я чувствовал, что мне трудно удержаться от вмешательства. Как-то вечером, когда я проходил по улице Ленина, то увидел впереди себя двух крепких, хорошо упитанных мужчин, которые тащили какого-то парня: они грубо (на русском языке) ругали его, а тот протестовал (на украинском языке). И хоть я не знал точно причины действий этих двух мужчин, но не мог не броситься на защиту того молодого парня: здесь, бесспорно, сыграло роль национальное чувство — слишком типичная картина. Конечно, я мог ошибиться: мало ли что мог сделать этот парень. И всё же на хулигана он похож не был. Как бы там ни было, но после моего вмешательства, вместо того, чтобы что-то объяснить мне, те двое переключились на меня — схватили меня за руку, заявив: «идём в милицию». Я ответил согласием, и мы прибыли в здание милиции напротив нашего подъезда. Меня спросили мой адрес и мою должность: я сказал, что живу напротив и чтобы надолго не задерживали меня, поскольку мать моя тяжело больна. Кто-то из милиции решил проверить правдивость моих показаний, пошёл в квартиру. Вернулся оттуда с матерью, которая отправилась в милицию выручать меня. Ей, с её сердечной болезнью, как раз не хватало только этих волнений. Но отношение ко мне резко изменилось после того, как я сказал, что являюсь преподавателем кафедры марксизма-ленинизма (идеологический кадр обкома партии!). Итак, мы покинули здание милиции.
* * *
Случилась возможность поехать на курсы повышения квалификации на шесть месяцев в Киевский университет, и я с матерью отправился в Киев. Мне выделили место в общежитии на ул. Чигорина, а мать, к счастью, приняли наши родственники (моя двоюродная сестра Галя, дочь тёти Федоры). Я радовался тому, что к матери они относились очень хорошо, и она имела возможность общаться со своими родственниками. Шёл уже 1965 год, произошли аресты, о которых стало известно прежде всего благодаря книге В. Черновола «Портреты двадцати преступников». Моё обучение на курсах заключалось в посещении лекций и подготовке к сдаче кандидатских экзаменов. За время обучения я сдал кандидатские экзамены по философии и иностранному языку.
Вернулся в Тернополь, когда Игорь Герета уже был освобождён из следственного изолятора. С ним я почти не общался (как, кстати, и с другими «засвеченными» лицами в Киеве). Это бы только мешало делать что-то полезное — прежде всего имел в виду свою студенческую аудиторию и распространение самиздата. Игорю как раз и не надо было объяснять это «разделение труда». Наоборот, он самостоятельно продумал полезность такого разделения. Это я понял из одной его фразы, сказанной мне во время случайной встречи: он шёл в небольшой группе по центральной площади Тернополя и, возможно, в этой компании был кто-то из моих знакомых, так как я на несколько минут присоединился к ним. Помню его фразу о том, что имею хорошую возможность влиять на сознание студентов и что это очень важно. Мы поняли друг друга без лишних объяснений.
После освобождения Игоря Гереты из следственного изолятора представилась возможность коротко поговорить с ним. Такой стала случайная встреча в вестибюле Тернопольского театра. Помню, Игорь, как только я заговорил с ним, немедленно принял меры предосторожности, переведя меня в более безопасный уголок вестибюля. С Игорем мы встретились лишь во время нашей поездки (моей с Верой) в Тернополь (1999), и оба были очень рады этой нашей встрече после перерыва в несколько десятков лет.
* * *
Неожиданностью для меня было сообщение, полученное мной из Киевского университета от Павлова В. Т. Он сообщал, что есть возможность поступить в аспирантуру (стационар) на следующий учебный год (с сентября 1966 г.) на кафедру этики, эстетики и логики, по специальности логика. Такую перспективу я, конечно, оценил как привлекательную для себя. У меня почти не было возможности заниматься научной работой: большая педагогическая нагрузка поглощала почти всё моё время. Но не представлял, как смогу в Киеве решить проблему с жильём. Ведь должен был забрать в Киев и мать. Преимуществом моим было то, что размер аспирантской стипендии, по тогдашним правилам, был довольно высок – выше для тех, кто поступал в аспирантуру после работы. И всё же её было мало для найма квартиры и для питания.
Всё же отправил документы, а потом получил вызов для сдачи одного вступительного экзамена — по специальности (логика). Два экзамена я сдал на «отлично» на курсах повышения квалификации. И всё же до начала учебного года я не получил уведомления о зачислении и уже приступил к преподаванию. Но в середине сентября Чернявский вдруг передал мне уведомление о зачислении в аспирантуру. Но при этом поставил требование: меня отпустят только при условии сдачи квартиры. Конечно, я не был уверен, что вернусь снова работать в Тернопольский мединститут. Но я мог бы оставить квартиру за собой, сдав её какому-нибудь квартиранту. Впрочем, думаю, это было бы непросто и привело бы к осложнениям: нужна была бы тягомотина, и неизвестно, чем бы она закончилась. Одним словом, я выбрал более лёгкий путь. Правда, у меня были некоторые надежды на своих родственников в Киеве — на тётю Василину и на брата Павла. Сестра Люба не имела возможности поселить маму у себя в однокомнатной квартире.
А между тем мне было жаль расставаться с Тернополем, городом, который мне очень понравился – людьми, архитектурой, озером, отсутствием больших заводов. Жаль было оставлять и своих студентов. Было ещё одно сугубо личное и интимное обстоятельство, впрочем, очень неясными были перспективы моей женитьбы. Позже своё решение о прекращении наших отношений я принял в эмоционально напряжённой ситуации: в связи с распространением самиздата я всегда чувствовал присутствие угрозы. Каждый раз возникал вопрос: какая женщина, став моей женой, сможет пройти сквозь жизненные осложнения (включая мой возможный арест), как сможет выдержать испытания. На это способна не каждая женщина. И хотя такая перспектива была только вероятной, но в общественной атмосфере нарастали тенденции, которые подсказывали мне, что этого не избежать.
Раздел VI. Аспирантура (1966-1969). Институт философии
(1970-1972)
Если о духовном развитии человека можно судить по тому, как он осмысливает свою жизнь, то, очевидно, так же о народе можно судить по тому, как он помнит и понимает своё прошлое.
Евгений Сверстюк. Собор в лесах.
1. Аспирантура (1966-1969)
Быт. Итак, прибыв в Киев с опозданием на месяц, с 1 октября я был зачислен в аспирантуру при кафедре этики, эстетики и логики Киевского университета по специальности логика. Бытовая сторона моей жизни во время пребывания в аспирантуре оказалась нелёгкой. Сначала тётя Василина согласилась, чтобы мать жила в их квартире. Сам же я поселился в общежитии на улице Ломоносова. Но вскоре вынужден был искать какую-нибудь квартиру для нас двоих. Даже теперь жалею, что не решился снять более дорогую квартиру, потому что опасался, что останется слишком мало средств на наше питание. На какую-либо помощь я не мог рассчитывать: сестра Люба в то время не имела возможности нас существенно поддерживать.
Поэтому согласился на предложение Евгения Пронюка – снять небольшую комнатку на мансарде одного из частных домов на ул. Баумана, недалеко от дома Пронюков. Преимущество было в лёгкости общения с Евгением: квартира Пронюков и раньше была местом наших встреч. Хочу выразить свою благодарность Галинке Дидковской, жене Евгения, и ныне уже покойной Галине Поликарповне за их доброту, за доброжелательную атмосферу, за блюда, которыми женщины старались меня угостить. Комната, которую я снял, к сожалению, оказалась холодной. И мать, тело которой отекало, испытывала дополнительные страдания. Оставляя её на день, чтобы работать в читальном зале, я упрекал себя за эту её оставленность.
Где-то в первые месяцы 1968 года состояние здоровья матери значительно ухудшилось. Требовалось стационарное лечение. Положение осложнялось отсутствием у матери киевской прописки. Но хозяин дома, у которого мы снимали комнату, сумел договориться, чтобы мать отправили в одну из больниц в Пуще-Водице. Летом врачи сказали, что не могут ничем помочь и не могут больше держать мать в больнице. А хозяин дома ещё перед тем предупредил, что не сможет в дальнейшем сдавать комнату для нас. Брат Павел в этой ситуации согласился забрать мать к себе. Другого выхода, собственно, и не было.
Братова «хрущёвка» имела две комнаты (одна совсем маленькая), туалет, совмещённый с ванной, крошечные прихожую и кухню. Семья брата – брат, его жена и сын-старшеклассник Витя – должны были как-то разместиться, чтобы дать приют матери. Поэтому брат с женой спали в маленькой комнате, мать же поместили в большей, в ней стояла также кровать моего племянника Вити.
Витя, в то время старшеклассник, разговаривал на русском языке со своими родителями, которые дома разговаривали только на украинском. Я с ним со временем стал говорить о национальных проблемах, давал некоторые самиздатовские материалы, в одной из ситуаций он хранил их. Но он так и не смог преодолеть свою языковую привычку и перейти на использование украинского языка вне школьных уроков. Уже после моего ареста его подхватили какие-то криминальные элементы, он был осуждён. После возвращения из заключения я застал его в положении, которое, по словам его матери, заключалось в том, что старые «друзья» или новые, приобретённые в заключении, пытались его к чему-то «приобщить». Катерина, его мать (брата Павла я уже живым не застал) пыталась запирать его в квартире, чтобы уберечь от этих «друзей». Однажды его нашли мёртвым внизу под домом: не думаю, что его падение с балкона стало следствием его попытки выбраться из квартиры. Больше склоняюсь к тому, что это было самоубийство. Было ли к этой жизненной истории причастно КГБ? Невозможность иметь надёжные «основания» для ответа на этот вопрос неминуемо расширяла объём подозрений. Так или иначе, мы имеем дело с трагедией.
У матери отекали ноги, кожа трескалась, нужно было через два-три часа перематывать, а марлевые бинты вывешивать на балкон для просушки. Этим хлопотным делом не могли заниматься брат или невестка, они работали. Поэтому я вынужден был поселиться в комнате рядом с матерью, спал на раскладушке. В комнате стоял большой (ламповый) радиоприёмник: я пытался хотя бы урывками слушать сообщения «вражеских» голосов о событиях в Чехословакии – «урывками», потому что это мешало матери. 6 сентября 1968 года мать умерла: на прощание протянула мне руку. На похороны пришли из моих друзей Александр Погорелый и Вадим Скуратовский. Время, которое лечит каждого из нас в таких ситуациях, в конце концов-таки приглушило остроту переживаний. И острые жала воспоминаний, целящиеся в чувство вины, притупились. Оставалось благодарить за рождение и выживание, за дар духовных первоначал, который называют даром Божьим, часто забывая, что тот Божий посев передаёт нам земная женщина.
Сотрудники кафедры проявили внимание, собрали деньги, чтобы помочь мне. Я благодарен им за эту доброту. В течение некоторого времени после смерти матери я жил в общежитии на Ломоносова. Потом Вадим Скуратовский предложил мне поселиться на квартире, которую он нашёл на ул. Коцюбинского, 15. Хозяйка, Людмила Васильева, занимала две комнаты, одну из которых согласилась сдавать нам. Это была небольшая комната с двумя кроватями, одним окном. Настало время относительно стабильного моего обучения в аспирантуре. В этой комнате я прожил до женитьбы.
* * *
Женитьба. С Верой Гриценко я познакомился в конце своего обучения в университете. Со времени той первой встречи до 1970 года мы виделись случайно один или два раза. У меня тогда возникло чувство симпатии: она мне запомнилась своим идеалистическим умонастроением, казалась мне углублённой в мир своих мыслей и мечтаний. В 70-71-х годах мы встречались часто. Мне импонировало не только её гражданское и национальное самосознание, а также её упрямая неподатливость внешнему давлению. В то же время её общение с людьми всегда полно добросердечности и благотворительности – готовности помочь другим. Осуществление своего гражданского долга она, как и я, видела в просветительстве: это, по мере своих сил и возможностей, она делала в своей педагогической деятельности. Здесь она проявляла мудрость, избегая конфликтов со школьным начальством, если это давало возможность влиять на сознание учеников.
В день оформления брака, 6 июня 1971 года, мы пришли к памятнику Шевченко возложить цветы. Шестое число оказалось пророческим, потому что через год и один месяц, 6 июля, мы расстались надолго. Женившись на Вере, я переселился в её комнату – одну из многих, расположенных в длинном коридоре с общей кухней. В этой «коммуналке» проживали преимущественно учителя киевских школ. Но как раз напротив нашей комнаты жило семейство Роговичей, Мирослав и Надийка, родом со Львовщины. Мирослав, знаток латыни, был сотрудником Института философии, занимался историей философии Украины (уже во время моего пребывания в заключении супруги Роговичи переселились во Львов). Единственное окно нашей комнаты выходило в лес, и из него был виден закат (дом был под лесом, тогда последний на Дарницком бульваре).
* * *
Попытка отстранения. Попытка «отстранения» – это попытка взглянуть на то, как и что сказано в этих воспоминаниях о жизненном пути главного персонажа этого рассказа так, будто автор говорит о другом лице, а не о себе. Замысел этих воспоминаний, если автор руководствовался некоторым замыслом, видимо, состоит в том, чтобы показать на примере одной жизни, как личность, «вброшенная» в реальное пространство и время, стремится к личному самоопределению. Это самоопределение включает также достижение общественно важных целей. Впечатления от внешнего мира, а также внутренние переживания и состояния. подаются в этих воспоминаниях сквозь призму субъективных рефлексий. Мир, предстающий таким образом – то есть сквозь внутренний опыт личности, – в философии принято называть «феноменальным». Попытки понять особенности собственной субъективности и попытки объяснить эти особенности некоторыми объективными обстоятельствами хотя и присутствуют, но основное внимание автора сосредоточено на внутреннем опыте.
Воспоминание – не дневник или иная запись «по свежим следам». Полезность таких записей в том, что они позволяют восстановить первичное осмысление внешних и внутренних событий. Сознание, как указывает его этимология (в частности, его греческие и латинские прообразы, conscientia – со-знание), является сопутствующим знанием: личность не только что-то воспринимает, а одновременно осознаёт сам факт восприятия. Это сопутствующее знание включает «оттенение» субъективностью. «Оттенение» мыслью и чувством имеем особенно в случае событий, важных для личности – тех, которые по каким-то причинам привлекают её внимание. Это «оттенение» субъективностью и названо здесь «первичным толкованием». К нему относится и то сопутствующее знание или «весть», которое мы называем словом «совесть».
Воспоминание, в отличие от записей «по свежим следам», является повторным толкованием. В нём осмысливается то, что уже было однажды в поле нашего сознания. Сверкание утренних рос в ранние детские годы, улыбка дорогого нам человека, благодеяние подруги или друга в любом воспоминании являются нашему сознанию в сопровождении тех смыслов, которые наша субъективность когда-то наложила на них. Преимущество воспоминания, как повторного толкования, состоит в его способности постичь смыслы в их зародышах: ведь их можно заметить, если знаем, что из того «выросло». Кроме того, воспоминание привлекает непредсказуемостью позднейшего движения наших начальных прозрений – тех смыслов, которыми эти прозрения наполняются или которые «нанизывают» на себя, как нити бус.
* * *
В аспирантские годы главному персонажу этих воспоминаний как раз исполнилась треть возраста. Но начало его жизненного пути («плохое» – война, разруха быта и традиций) словно предопределило центральную проблему его философских интересов: попытаться найти теорию, способную направить усилия людей против разрушительного натиска хаоса и абсурда в их жизненной среде. А следовательно, и в их душе. Речь идёт не о тех элементах хаотического или стихийного, которые являются одним из источников обновления жизненных форм. Как «ветер», который у Б.-И. Антонича «веет от веков, крылатый, вольный и неудержимый». В этих воспоминаниях преимущественно речь идёт о хаосе как источнике абсурда. Тема абсурда, потери смысла жизни в XX в. становится предметом внимания психологических исследований (напр., в так называемой «вершинной психологии» Франкла), в западной философии, литературе и искусстве. Но особенности украинской истории ХХ в. придали этой проблеме национальную остроту.
Бесспорно, линия между осмысленным и абсурдным не может быть чёткой и неизменной. Более того, отсутствие готовой, заранее очерченной линии как раз и заставляет личность каждый раз заново переосмысливать уже созданные идеи. Культурная и интеллектуальная традиция и Слово Божье как источник смысла, с одной стороны, и постижение и созидание новых смыслов личностью, с другой, образуют два полюса, которые питают друг друга. Отрыв одного из этих полюсов от другого грозит абсурдом.
Поэтому совершенно очевидно, что осознание проблемы неопределённости (как бесформенности, абсурдности и т. д.), в противоположность определённости, не является личной находкой автора этих воспоминаний. Можно даже заметить, что западная цивилизация и её философская традиция, в противоположность восточной (особенно индийской), высоко ценит как раз определённость. Но даже в русле средиземно-европейской интеллектуальной традиции ответы на проблему определённость-неопределённость отличались в разные исторические периоды и в разных направлениях философского мышления. Ведь наряду с рационализмом, с его ориентацией на определённость, сопутствующими течениями или тенденциями (чаще, правда, периферийными) были интуитивизм и мистицизм. И это во все периоды, включая XX в.
Сугубо индивидуальной особенностью автора этих воспоминаний можно считать разве что острое осознание проблемы определённость-неопределённость в контексте украинской общественно-духовной ситуации. Определённость, представленная рационализмом, универсализмом и объективизмом, в западной философской традиции подверглась в эпоху «модерна» абсолютизации в дисциплинарных идеологиях, с их пренебрежением к интуитивному и субъективному. Итак, если должна быть найдена определённое равновесие между определённостью (рационализмом) и неопределённостью (интуитивизмом, мистицизмом), то это должно побуждать к критической оценке мистических составляющих в восточной патристике, сочетания несочетаемого в «барочном человеке», интуитивизма и спиритуализма в «философии сердца» Сковороды и тому подобного.
* * *
Повышенный вес субъективности в украинской культурной традиции представлен, пожалуй, наиболее выразительно в преобладании воображения, чувства («сердечности»), созерцательности («всё течёт, всё проходит»), в целом эстетичности. Известно, что украинцев легче всего объединяет песня, а не способность к объединению ради успешного коллективного действия. Это существенно отличает украинскую культурную традицию от культур и ментальностей тех европейских народов, которые испытали влияние западной патристики и схоластики. Каким образом, сохранив некоторые положительные элементы этой «эстетичности» и «сердечности», обеспечить приобретение важных признаков современной нации – в этом основная проблема. Если сформулировать её грубо, не вдаваясь в более тонкие различия. В Киево-Могилянской академии была попытка наверстать ослабленность рационального начала, но этот «униатский» проект не был завершён. После Переяславской Рады его осуществление стало невозможным – вследствие политических обстоятельств.
Острота этой проблемы для украинской ситуации последних двух веков обусловлена процессом модернизации. Модернизация, и связанное с ней становление наций, радикально изменили досовременный контекст XVII в., в котором наличие христианских ценностей ещё давало надежду на гармоничное сочетание разнородного в «украинском барочном человеке». В XX в. – по мере уничтожения традиционной сельской культуры – культурная бесформенность украинского человека, в каких бы терминах её ни характеризовали («между Западом и Востоком» и т.п.), вырождается в химерическую ментальность.
Поэзия наиболее чутко реагирует на украинскую общественно-духовную ситуацию. Не только острыми, но даже драматическими являются эти реакции в поэзии 60-х годов: Николай Холодный (стихотворение «Сегодня»), Иван Сокульский («Прёт мёртвый народ с отсутствующим лицом»), Григорий Чубай («Вертеп») и др. Парадигмальным под этим углом зрения является стихотворение Игоря Рымарука «На той земле» (с посвящением Богдану Бойчуку), в котором тема получает спокойно-отстранённое завершение. Эта спокойность имеет своим источником надежду на достижение минимально необходимой гармонизации разнородного в утверждении национально-культурной самобытности. Далее следует гротескно-шаржированное переосмысление этой темы в словесном, визуальном и аудиовизуальном искусстве 90-х.
И сегодня, в начале третьего тысячелетия, слово «самоопределение» – личное, национально-культурное, политическое – чувствительно бьёт в больное место украинской ментальности. Важным компонентом личного самоопределения современного человека является национальное самоопределение, от которого зависит политическое. А украинский человек, как и украинское общество, сохраняет в себе смесь досовременного с современным. При этом из досовременного выживает не лучшее, а худшее: феодальное уважение верноподданничества, предпочтение в политике кланово-семейного, кумовства и регионализма, склонность действовать «по понятиям», а не по закону и т.п. Какие бы термины для характеристики такой ментальности ни использовали – «провансальство», «малороссийство», «кайдашизм», «креольство» и т.д., – в центре внимания оказываются те же признаки бесформенности: бегство от личного и национального самоопределения как выбора позитивной жизненной перспективы. «...Малороссийство означает такую внутренне-ценностную настроенность человека, такие его социально-культурные установки, которые связаны с постоянной готовностью к бегству от собственного Я... Малороссийство является внутренним фактором украинского бытия, который вызывает его многочисленные изломы, неустойчивость и неполноту норм, размытость ценностей и установок, внутреннюю неструктурированность...» . В одном из телевизионных интервью Юрий Андрухович заметил, что он, конечно же, постмодернист, ведь все мы сегодня постмодернисты, потому что живём в постмодернистском обществе. Если оставить в стороне оттенок шутки и воспринять фразу серьёзно, то в ответ можно заметить: чтобы быть «после», надо иметь то, после чего можно поставить слово «после».
* * *
От теории речевых актов к практической философии. Выше сказанное объясняет те общественно-практические мотивации, которые повлияли на выбор мною интеллектуальных предпочтений. Имеется в виду приверженность аналитической философии как направлению XX века, в лексиконе которого слово «значение» является центральным. Речь идёт не о какой-то очередной моде. Уместнее это рассматривать в контексте того более широкого культурно-интеллектуального движения, которое в 60-е годы продолжало предыдущие усилия по преодолению провинциальности украинской культуры, обусловленной политическими обстоятельствами. Речь шла, да и сегодня идёт о нахождении своего естественного места в широком русле европейской культурной традиции, в котором взаимодействуют и перекликаются потоки национально самобытных культур. Изолированность от этого русла вызывает недостаток самопознания – вплоть до непонимания смыслов собственного языка, по крайней мере в его интеллектуальной части. Понятно, что в таком случае движение «в Европу» означает нахождение себя. Лучше, наверное, «нахождение», чем «возвращение к себе», хотя существуют очевидные потери уже когда-то достигнутого. В том числе и в поисках путей национального самоопределения. Это означает утверждение своей национально-культурной идентичности против враждебных сил, заинтересованных в том, чтобы украинская нация не состоялась. Но с чётким осознанием того, что, кроме сил внешних, важным (если не самым важным) является враг внутренний – недостаток ценностных ориентаций, инерция, безразличие и обезьянничанье.
В 60-е годы высокое ценностное отношение к определённости мысли и речи обусловливает острое неприятие мною диалектики. Эта острота в большой степени спровоцирована официальной версией диалектического материализма. В ней я видел продолжение софистической диалектики с её релятивизмом, которую «новый класс» использует как средство оправдания циничной политической практики. И, в конце концов, видел в ней средство растления самого разума. Включая разрушение основополагающих ценностей – важного компонента «мудрости».
Но переход в аспирантские годы к более позднему ответвлению аналитической философии – так называемой философии обыденного языка (Ordinary Language phylosophy) наталкивал меня на новые проблемы, связанные со способом мышления, известным сегодня под названием философского постмодернизма. Ведь критерии смысла в разных «языковых играх» (за которыми стоят разные виды деятельности и даже «формы жизни» – Lebensformen) могут быть разными. А потому говорить о значении или смысле как о чём-то едином неоправданно: в лучшем случае можно говорить о «семейном родстве» разных «языковых игр». Фактически тем самым ставилась под сомнение традиционная направленность философии предлагать целостное мировоззрение путём априорного синтеза выводов различных наук и видов практической деятельности. А это угрожало разрушением традиционных смысловых целостностей – смысла мира, истории, человеческой жизни и т.д. Но эта проблема «распада смысла» скорее «зависает» над моей головой (вхождение в диалог модернизм-постмодернизм становится предметом размышлений только в 90-е годы).
Одна из перспектив выхода за суженные рамки лингвистической философии заключалась в переходе к логике практического рассуждения. А дальше и шире – к практической философии, сердцевину которой составляет философия ценностей и этика. Интерес к логике практического рассуждения относится уже ко времени моей работы в Институте философии. Счастливой находкой для меня стала книга Дэвида Готье «Практическое рассуждение» (David P. Gauthier. Practical Reasoning. Oxford, 1963), которая была (и до сих пор есть) в библиотеке Института философии. Понятно, что книга, которую мы находим или которая случайно попадает к нам в руки, становится важным толчком для нашего мышления преимущественно тогда, когда отвечает на наши уже назревшие вопросы. Любое практическое действие – как индивидуальное, так и коллективное – требует учёта ситуативного контекста. Этот переход от анализа речевых актов к выяснению логики практического рассуждения отвечал также моим гражданским устремлениям: сократовский ответ на сократовский вопрос.
Определённое влияние на понимание философии под углом зрения практической философии оказал экзистенциализм. Но недостатком экзистенциализма было так называемое субъективное понимание истины и ценности. Это в определённой степени касается даже религиозного экзистенциализма. Входить в более детальную оценку экзистенциализма под углом зрения проблемы субъективность-интерсубъективность здесь невозможно. Важно другое: этот аспект экзистенциализма в конце 60-х годов, как будет ясно из дальнейшего рассказа, был осознан, по крайней мере в узком кругу украинских интеллектуалов. Итак, если говорить о влияниях, то на мой переход к проблемам практической философии повлиял не столько экзистенциализм, сколько необходимость расширить и дополнить подход, предложенный логикой практического рассуждения.
Хотя акцент на самопознании и самосовершенствовании является известным мотивом философского и религиозного мышления, но внутреннее совершенство, не реализованное в действиях, имеет очевидный недостаток. Преувеличение роли внутреннего самосовершенствования имеем в стоицизме. В религиях в брахманизме и буддизме имеется явная тенденция рассматривать единение с Богом, достигнутое путём медитации как последнюю инстанцию. Между тем в христианстве Бог отсылает человека, который приходит к нему, снова на Землю: ведь истинная любовь к Богу предполагает любовь к ближнему своему. И это деятельная любовь. Франциск Ассизский после обращения в христианство раздаёт добро и идёт в лепрозории помогать страждущим. Из опыта хорошо известно, что человек, проводящий много времени в молитвах, не обязательно склонен к благодеяниям. Речь идёт не о бездумном активизме, как это мы имеем со словом «борьба» в большевизме. Вспомним Твардовского 60-х: «Борьба – они её обожествляли с утра и до темна, и друг на друга натравляли, чтоб только шла она». Но добродетель во многих случаях требует активности – интеллектуальной, просветительской или проповеднической. А в критических случаях также применения физической силы ради самозащиты.
Образ архангела-змееборца символизирует эту активность как борьбу со злом. В христианском мышлении присутствует тема тираноборчества: некоторые из христианских теологов считали, что народ имеет право свергать силой тиранов, действующих вопреки христианским заповедям. Хотя власть и имеет божественное происхождение, но властители обязаны придерживаться установок христианской этики. И хотя «дела добрых обновятся, дела злых погибнут», но считать христианство лишённым ориентированности на деятельную добродетель, пожалуй (если не очевидно), является ошибочным пониманием духа христианского вероучения. Но наличие доброго намерения должно найти дополнение в виде продумывания предпосылок, обеспечивающих практическую результативность доброго действия. Требуется, следовательно, взвешивание последствий действия, ибо иначе возрастает вероятность растраченных, «пропащих сил».
Мысль окончательно становится определённой в соответствующем способе действия, который требует учёта контекста. Это действительно так, что философы преимущественно ограничиваются тем, что изобретают идеи в тиши кабинетов. Как правило, другие люди используют их идеи в практической деятельности. Однако в особых ситуациях философ не может избежать практического действия. Не может вследствие характера своей философии, которая содержит внимание к выбору ценностных ориентаций и идею собственной ответственности за состояние общества и ход истории. Итак, в своей интеллектуальной эволюции я вижу три основных перехода: от теории речевых актов к логике практического рассуждения, а дальше к практической философии, сердцевину которой составляет философия ценностей как основа для обоснования этики. Но переход к практической философии, которая, кроме философии ценностей, включает также теорию коммуникативного действия и философию понимания (герменевтику) – это уже период 90-х годов. Правда, даже искажённая редактированием статья «Критика сциентистских концепций научно-технического прогресса» указывает на этот переход к философии ценностей. .Но во время своей аспирантуры и в течение полутора лет 70-х годов, я уже был вынужден использовать логику практического рассуждения в своих практических действиях, если говорить с оттенком иронии.
* * *
Общение. Заведующим кафедрой этики, эстетики и логики был Вячеслав Кудин. Ко мне он относился «нормально»: я не чувствовал с его стороны какой-либо недоброжелательности. Но поскольку я занимался логикой, а не эстетикой, то был на периферии его внимания. В студенческие годы я слушал лекции Кудина по эстетике. Большинство студентов воспринимали их с интересом, хотя после лекции трудно было сказать, что она тебе дала. Кудин владел лекторским мастерством, умел подбирать интересные эпизоды из жизни художников, но эстетика и философия искусства – в смысле определённых концепций и идей – почти отсутствовала в его изложениях.
Но в то время, пожалуй, и не было человека в Украине, который мог бы на относительно хорошем уровне читать курс эстетики и философии искусства. Имею в виду преподавателя, который мог бы, с одной стороны, обеспечить соответствующий уровень теоретичности, а, с другой, приблизить теорию к практике художественного творчества. Отсутствие таких людей – следствие погрома. Его размах был значительно большим, чем в России, хотя и там о Бахтине «вспомнили» лишь в 60-е, только с середины 60-х начали печатать его произведения. Итак, внедрить элементы теории и обеспечить практическую ориентированность эстетических исследований стало той задачей, которую должно было выполнить молодое поколение учёных. На кафедре тогда начинали свои эстетические исследования Анатолий Канарский (1936 г. р.) и Лариса Левчук (1940 г. р.), моя однокурсница.
Как подавляющее большинство аспирантов, я работал в читальном зале для учёных на втором этаже жёлтого университетского корпуса на Владимирской. С помощью близких своих друзей постепенно очертил круг тех аспирантов и учёных, которым мог доверять и которые доверяли друг другу – в общении, выходившем за рамки сугубо профессиональных интересов. Это были не только аспиранты, но и учёные, которые постоянно или эпизодически работали в научной библиотеке. Попробую сначала дать краткие характеристики лицам, отношения с которыми тогда определяли пространство моих интеллектуальных общений, включая также оценку тогдашней идеологии и политики. В интеллектуальных общениях, выходивших за рамки моих профессиональных интересов (семантика), первое место принадлежит Вадиму Скуратовскому и Александру Погорелому.
* * *
Вадим Скуратовский. Известной особенностью Вадима Скуратовского является широкий размах интеллектуальных и культурных интересов: от конкретного искусствоведения до философии. Кроме того, характерной его особенностью является исключительная память. Меня он побуждал к культурным впечатлениям, при случае приглашая посмотреть интересный фильм (такой возможности он не упускал; жаль, но я редко пользовался этими его советами). В читальном зале, выискивая что-то для себя, он «подбрасывал» мне то, что, с его точки зрения, должно было бы заинтересовать также меня. Помню, он обратил моё внимание на некоторые номера «Литературно-научного вестника», в частности на номер со статьёй Донцова о Ленине. Кроме того, воспользовавшись его подсказками, я прочитал, помимо произведений Бердяева, некоторые другие произведения из русской философии конца XIX – начала XX веков (Розанов, Сергей Булгаков, Шестов, Мережковский). Он также посоветовал мне прочитать «Слова и вещи» Фуко.
Чтение русской философии в аспирантские годы углубило мои более ранние интересы к Толстому и Достоевскому. Я ценил религиозно-философские искания в русской литературно-философской мысли – страдальческую, иногда даже болезненную совесть, начатую Гоголем. Какой-то части моей души это было и остаётся близким. И всё же русская философия не удовлетворяла меня своим стилем: свободным, а часто небрежным отношением к значению слов, туманностью, символичностью, склонностью к эсхатологическим видениям.
Интеллектуальное влияние Вадима на меня, с моей современной точки зрения, прежде всего заключается в усилении внимания к культурному и общественно-историческому контексту идей. Вадима я воспринимал как человека драматического способа мышления, что перекликалось с особенностями его личности, его экзистенцией – с перепадами настроения, со склонностью скептически оценивать современное и с пессимистическими видениями будущего. С помощью интеллектуальной рефлексии он стремился преодолеть любую разновидность недоброкачественной тенденциозности – суженности взглядов или оценок, источником которых являются преимущественно обстоятельства личной жизни, ограниченность опыта и информированности.
Несмотря на свою широкую эрудицию, Вадиму не был свойственен интеллектуальный снобизм. Он высоко ценил моральную составляющую украинской традиционной (сельской) культуры – в противоположность некоторым современным эрудитам. Вадим не любил тотальностей, тотальных характеристик. Чувствительность к неоднородности, сложности позволяла ему находить что-то положительное в людях, в текстах и явлениях, которые не поддаются однозначной оценке. Отвращение к распространённым упрощённым стереотипам побуждало его подчёркивать что-то, что не укладывалось в стереотип. Несмотря на своё хорошее знание русской литературы, он всегда критически относился к имперским тенденциям в русской культуре и ментальности. Эта критическая настроенность проявилась и в 90-е годы – в частности, в его критике обновлённых версий евразийства. Известны его усилия противодействовать примитивным стереотипам в толковании явлений украинской культуры: показательным примером этого стала его статья «Шевченко в контексте мировой литературы», написанная им, когда он был в составе редколлегии журнала «Всесвит» (после публикации этой статьи был уволен из редколлегии). Относясь с уважением к самобытности любой культуры, он по крайней мере в 60-е – начале 70-х годов (и, видимо, также позже) придерживался позиции, которую я условно обозначал как «либерализм», даже с некоторыми склонностями к анархизму. Это, в частности, объясняет его тогдашнее двуязычие; только со временем он перешёл на принципиальную поддержку украинского языка своим языковым поведением.
Вадим не любил априорно выстроенных конструкций, его больше привлекало разнообразие жизни, её противоречивая и сложная динамика. Эта динамика включает в себя и неосуществлённые возможности, утраченные перспективы: это нашло своё продолжение в 90-е годы — в его книге «История и культура» и в его авторских телерассказах. Осмысление истории становится обеднённым, а значит, в определённом смысле, ложным, если мышление и воображение не держат в поле зрения возможные, но утраченные варианты исторического развития. В осмыслении исторических событий мы должны стремиться рассматривать их в контексте как можно более богатого набора перспектив. Если историк толкует историю под углом зрения единственно возможного её «хода», то такое осмысление истории обедняет не только прошлое, но и настоящее: оно обрекает нас на пассивность, снимая с нас ответственность за выбор будущего. Это не означает полной произвольности исторических интерпретаций: данная историческая ситуация налагает пределы на выбор реально возможных вариантов развития. Но упущенная возможность сужает пространство будущих реальных возможностей.
Мышление Вадима скорее историческое, нарративное, драматическое. Когда я говорил о каком-то принципе или какой-то теории, он предпочитал какой-нибудь факт, который не укладывался в мою теорию. Он противопоставлял моему принципу или конструкции если не факт, то юмор или иронию. Но от некоторых наших современных «постмодернистов» он отличался тем, что его критицизм никогда не был критицизмом некоего чистого Я, которое возвышалось над миром. Напротив, он всегда чувствовал себя погружённым в этот мир, и то, что в нём происходит, становилось источником его личных переживаний. Его не привлекала интеллектуальная риторика, за которой он не чувствовал искренности, работы совести, драматургии жизни. Во время нашего общения в 60-е годы у него хватало мужества не только читать украинский и русский самиздат, но и передавать его другим. Сегодня я общаюсь с Вадимом эпизодически, но, думаю, по крайней мере кое-что из того, что здесь сказано, осталось неизменным в его характере и образе мыслей.
* * *
Александр Погорелый. Сердцевиной интеллектуальных интересов Александра Погорелого — моего однокурсника (уже после моего годичного перерыва в учёбе) была сначала философия Мартина Хайдеггера и Карла Ясперса, а затем «понимающая» социология Макса Вебера (в 90-е годы избранные произведения Вебера были опубликованы в его переводе на украинский язык). В свои аспирантские и институтские годы я часто встречался с Александром, бывал у него дома, испытывал чувство глубокой симпатии к Василине, жене Александра. Она имела филологическое образование (окончила украинское отделение филологического факультета Киевского университета), занималась математической лингвистикой.
Именно в комментировании Александра я впервые и познакомился с идеями Хайдеггера (у Александра была фильмокопия книги Хайдеггера «Sein und Zeit», изготовленная в Москве). Думаю, важными были также наши разговоры о важности культурного контекста в объяснении общественных институтов и общественной динамики, свойственные социологии Вебера. Александр заинтересовался Вебером под влиянием интеллектуальной биографии Вебера, написанной Ясперсом. Учёт культурного контекста накладывал ограничения на достижение универсальных обобщений, которые основывались бы на наличии неких базовых потребностей или экономических структур. Известно, что с этим связана идея «идеальных типов» Макса Вебера.
Александр общался с людьми, близкими по интеллектуальным предпочтениям, в Москве. Рассказывал мне о тенденциях и настроениях в среде московских социологов, философов, культурологов — таких интеллектуалов, как Юрий Давыдов, Пиама Гайденко и др. Он внимательно следил за культурной жизнью в Украине, увлекался поэзией Симоненко, Драча, Лины Костенко, Винграновского. Это было не только увлечение. Он тонко анализировал эстетические особенности каждого поэта, отмечал обновление поэтического стиля и т. п. Высоко ценил гражданский подвиг людей, которые обнародовали в самиздате свои произведения, — Дзюбы, Чорновола, Сверстюка, Мороза. Произведение «Интернационализм или русификация?» мы в своих разговорах оценивали как написанное в жанре ересей, с мастерским использованием способа цитирования. И выявлении противоречий в подходе к национальному вопросу в «марксизме-ленинизме». Вопрос о том, был или не был Иван Дзюба «на самом деле» марксистом-ленинцем, мы даже не обсуждали. Он казался нам неуместным, учитывая интеллектуальный уровень автора. Нельзя было предполагать, что автор не знает различных оценок марксизма или, тем более, ленинизма. Оценка общественных последствий реализации идей Маркса в статье Франко «Что такое прогресс?» (фрагменты, изъятые из этой статьи в официальном издании, распространялись в самиздате) была ценна именно потому, что была сделана до большевистского применения этих идей. И, следовательно, Джилас в книге «Новый класс» (опубликована на русском языке в Нью-Йорке в 1957 году) словно развивает и конкретизирует предвидение Франко.
Во время, когда я уже был сотрудником Института философии, Александр работал в аппарате ЦК КПУ и после суда над Валентином Морозом передал мне копию его письма, адресованного официальным органам и написанного накануне суда (я, в свою очередь, тогда передал этот текст Евгению Сверстюку). После моего ареста у него были проблемы с поиском работы. Александр не только сам читал произведения из самиздата, но и передавал их другим. Но во время наших разговоров в 90-е годы он очень критически оценивал своё тогдашнее поведение, осуждал себя за непоследовательность и недостаток гражданского мужества.
На самом же деле беда украинского общества не в том, что в нём не хватало людей, способных на самопожертвование. А в том, что большой слой украинской интеллигенции, находясь в плену страха и инерции, не способен был делать позитивные шаги хотя бы в пределах возможного. Когда относительно небольшая группа интеллектуалов готова была рисковать своим общественным положением, основная масса интеллигенции не предпринимала ни малейших шагов в гражданском и национальном просвещении народа. По наблюдениям моей жены, которая преподавала украинскую литературу в киевских школах, если хотя бы один учитель или учительница (и чаще как раз учительница) на весь учительский коллектив вели гражданское и национальное просвещение, используя имеющиеся возможности — то есть действуя в рамках почти дозволенного, — то и это уже было хорошо. Примерно такая же ситуация была и в среде вузовских преподавателей.
* * *
Сергей Васильев. С Сергеем Васильевым я дружил со студенческих лет, он был моим однокурсником. Когда я взял академический отпуск, осенью поздно вечером кто-то постучал в окно. Спросонья я подумал, что это мать вернулась из Киева (когда она ездила с ряженками в Киев, то возвращалась поздно вечером). На самом же деле мать была на стационарном лечении в Обухове, я же пребывал в подавленном состоянии. И вдруг — Сергей. Когда я был в заключении, то из сотрудников Института философии именно он навещал мою жену с детьми. В мои аспирантские и институтские годы я передавал ему самиздатовские материалы, нас объединяли также общие профессиональные интересы — семантика. Особенностью его характера являются доброжелательность и открытость — нелицеприятная прямота суждений и оценок. Своё чувство юмора он использовал также, чтобы посмеяться над некоторыми недостатками моего характера и над проявлениями моего романтического идеализма.
Уже после возвращения из заключения наши разговоры часто касались семиотики, значения и смысла, и философии языка. Но мы обсуждали также общественные и политические проблемы. Сергей возглавил институтскую организацию Народного руха: шутили, что «Васильев развалил институтскую партийную организацию». Из Руха он вышел во время преобразования его в партию. После возвращения из заключения я узнал, что Сергей увлёкся фотографией: специализировался на психологическом фотопортрете, особенно любил фотографировать детей. Во время моего пребывания в заключении он сделал очень красивые фотографии дочери Мирославы и сына Оксена. В 90-е годы сделал также снимки моей «парсуны», которые мне нравятся как раз своим «психологизмом». Сегодня на пенсии и занимается воспитанием своих внуков, испытывая свои способности в области семейной педагогики.
* * *
Андрей Катренко. С Андреем я познакомился ещё в студенческие годы. Он учился на историческом отделении историко-философского факультета. Его биография типична для девушек и юношей, родившихся в сельской семье (с. Байбузы Черкасской области), которым свойственны разносторонние интересы и трудолюбие. Окончил с отличием Корсунь-Шевченковское педагогическое училище, овладев игрой на скрипке и ещё нескольких музыкальных инструментах (в университетском оркестре народных инструментов играл на домре). После окончания университета (с отличием) получил назначение на работу в Государственное архивное управление при Совете Министров УССР — это в укромном уголке Софиевской площади (теперь там Центральный государственный архив литературы и искусства). Первые наши разговоры в студенческие годы касались музыки. Как раз следуя примеру Андрея, я начал собирать коллекцию грампластинок с записями классической музыки. Кроме того, он интересовался украинской и мировой литературой. Итак, он обладал ренессансным размахом интересов и этим вписывался в круг людей, охваченных жаждой знаний и духовного пробуждения.
В аспирантские годы наши разговоры касались национальных проблем. Конкретное содержание их мне не восстановить (только люди с исключительной словесной памятью способны воспроизводить содержание разговоров спустя десятки лет). Я встречался с Андреем преимущественно у здания Архивного управления, а позже в корпусе Киевского университета на бульваре Шевченко (с конца 1969-го года Андрей перешёл работать в Киевский университет). Передавал ему некоторые материалы самиздата, которые он возвращал мне во время нашей следующей встречи. В конце концов, я начал его убеждать занять более активную позицию в национально-демократическом движении, которое делало свои первые шаги. Хотя бы активнее распространять самиздатовские материалы в своей среде. Однако он, ввиду своих индивидуальных особенностей, не считал себя способным сделать такой выбор. Я с пониманием отнёсся к его объяснению. Каждый решает индивидуально. Затем Андрей много сделал в области исследований по истории Украины. С 1996 года возглавил кафедру истории Украины в Киевском университете, принимал активное участие в общественной жизни. Теперь ушёл на пенсию.
* * *
Алла Климаш. Аллу я знал ещё со времени моей учёбы на историко-философском факультете. Общался с ней также во время своего пребывания на курсах повышения квалификации. И уже тогда мы достигли взаимопонимания относительно необходимости участия в национально-демократическом движении хотя бы путём просвещения, в частности распространения самиздата. Время нашего пребывания в аспирантуре частично совпало (срок её аспирантуры приходился на 1964–1967). Диссертацию она писала по истории КПСС. Но она знала эту историю с другой стороны. В частности, видимо, и потому, что ей повезло с научным руководителем: им был уже упоминавшийся ранее Шевченко Иван Иванович, доктор исторических наук, профессор, национально сознательный человек. Этот «бородач», как его называли студенты, кроме своей бороды а-ля Грушевский и своей неизменной вышиванки, был известен тем, что умел читать историю КПСС так, что студенты на его лекциях не дремали. Тем и был среди них известен и уважаем. В конце концов, был отстранён от заведования кафедрой (его заменил на этом посту «солдафон» — тогда только кандидат наук, зато «свой», «правильный» человек — О. А. Бородин).
После окончания аспирантуры Алла получила назначение на работу в Киевский инженерно-строительный институт или, иначе, «КИСИ» (теперь Киевский национальный университет строительства и архитектуры). Для преподавания «научного коммунизма». В нём проработала 30 лет. В этом институте, по её выражению, она была «белой вороной» — была единственной на весь педагогический коллектив, кто читал лекции на украинском языке. Хочу обратить внимание на это поведение как наставника, так и его ученицы, как на примеры того, что и в тогдашних условиях можно было всё-таки расширять имеющееся пространство свободы, а не сужать его. Оправдывая недостаток элементарного мужества фразой, что, мол, «такая система». Когда сегодня мы жалуемся, что украинская нация всё ещё «недооформлена», то причина этого в значительной степени заключается в том, что широкий слой украинской интеллигенции проявлял чрезмерную трусость и инертность.
У Аллы хватало мужества не только читать или передавать другим самиздатовские материалы, а, в случае необходимости, прятать тогдашнюю технику размножения — пишущую машинку. В одном недавнем разговоре она вспомнила о наших беседах относительно преподавания научного коммунизма. Думаю, что речь шла о «насыщении» положительным содержанием этой очень неблагодарной с этой точки зрения «дисциплины». Тогдашний способ насыщения заключался в подчёркивании роли научного подхода к решению общественно-политических проблем. Но это подчёркивание научности несло в себе угрозу крайних форм сциентизма и технократизма. Одним из примеров технократизма была известная тогда идея Глушкова о возможности управлять экономикой из одного «мозгового» центра. Я ещё вспомню об этой угрозе в связи с публикацией своей статьи «Критика сциентистских концепций научно-технического прогресса».
К дружескому кругу Аллы — из личностей, с которыми я благодаря ей тогда познакомился, — принадлежали Раиса Иванченко, Зоряна Ромовская и Елена Овсиенко. Раису Иванченко моему читателю представлять не надо: она известный историк, романист, поэт, публицист. Уже тогда она была известной личностью. В аспирантские годы, благодаря Алле, я лишь познакомился с ней. Наше постоянное общение приходится на 90-е годы — на время моего преподавания философии в Киевском международном институте лингвистики и права (теперь Киевский международный университет).
* * *
Зоряна Ромовская. Зоряна Ромовская, тогда аспирантка кафедры гражданского права (заведовал кафедрой Мунтян В.Л.), работала над кандидатской диссертацией под руководством известного правоведа Матвеева Геннадия Константиновича. Матвеев высоко ценил её способности, называл её своей «дочерью». Как штрих к портрету этого симпатичного, тогда уже пожилого человека, стоит упомянуть его поступок, вызвавший в университете скандал. Он посмел пригласить священника для отпевания на похоронах своей тёщи: это стало причиной для «оргвыводов» по партийной линии. Стоит упомянуть также историю с отстранением декана юридического факультета Заворотько П. П. Общение с Зоряной немного смягчило моё предубеждение в отношении юристов, которых я считал самыми конъюнктурными среди гуманитариев. К сожалению, недавние экспертизы, направленные в Конституционный суд, проведённые юристами Киевского университета и Института государства и права НАН Украины (касающиеся права Леонида Кучмы выставлять свою кандидатуру на выборах президента), вызвали у меня чувство глубокого стыда за такие их действия и возобновили мои прежние предубеждения. Возобновили ещё и потому, что я не прочитал заявления ни одного из юристов, принадлежащих к названным здесь институциям, о своём несогласии с таким экспертным заключением (убеждён, что такие люди есть).
С Зоряной я общался часто: в течение некоторого времени мы жили в одном общежитии на Ломоносова. Опять-таки, я уже не смогу передать конкретное содержание наших разговоров, но думаю, что они были для меня важны. В частности, в связи с проработкой литературы, касающейся эволюции советского конституционного права и проблем федерализма. Известно, что, став депутатом Верховной Рады Украины, Зоряна, благодаря своей чрезвычайной работоспособности, внесла важный вклад в законодательство Украины. Напомню самое важное из её трудов: она является соавтором Гражданского кодекса и автором проекта Семейного кодекса. Сегодня она тратит много усилий, чтобы защитить этот свой проект.
* * *
Елена Овсиенко. Елена Овсиенко, тогда аспирантка кафедры истории Украины, имела особую судьбу. Её отец — Овсиенко Григорий Парфеньевич, командир партизанского отряда им. Щорса (отряд действовал в лесах Переяславского и Бориспольского районов), был ранен в результате участия отряда в форсировании Днепра. Самолётом отправлен в один из госпиталей Москвы, где умер от ран. Мать и дядя (брат отца) были расстреляны немцами во время одной из акций, направленных против партизан. Елена воспитывалась в детском доме и проживала в однокомнатной квартире на Печерске со своим малолетним сыном. Она была одной из тех, с кем можно было свободно обсуждать не только темы из истории Украины, но и тогдашние проявления гражданского и национального движения. В течение какого-то времени она прятала пишущую машинку у себя на квартире. Недавно, вспоминая этот свой поступок, она сказала, что решилась на это действие, осознавая возможные последствия — малолетний сын! Но добавила, что моральные мотивы побудили её преодолеть тревогу и страх. Думаю, отвага и жертвенность отца и матери служили Елене моральным образцом. Я уже говорил, что жертвенная борьба против немецкого фашизма служила примером для тех, кто не поддавался лживой риторике о различии между двумя тоталитаризмами. Для Елены, которая хорошо знала историю большевистских преступлений в Украине, лживость этой риторики была очевидна.
* * *
Владимир Костырко. О Владимире я уже попутно упоминал. Он был моим однокурсником на первом курсе философского отделения, затем перешёл на механико-математический факультет Киевского университета. Окончил математическое отделение факультета, специализировался по математической логике и программированию, окончил аспирантуру при Институте кибернетики (1962–1965), стал сотрудником этого же института, работал в отделе Глушкова. С 1987-го года работал в Институте философии, затем в Институте социологии, в отделе, возглавляемом Юрием Каныгиным, известным широкому кругу интеллектуалов своей книгой «Путь ариев» (критикуемой за подражание идеям Рериха).
Владимир достиг серьёзных успехов в математической логике. Достаточно здесь упомянуть факт, что его доклад «Ошибка в алгебре Жегалкина» (на который есть ссылка в «Энциклопедии кибернетики» — статья «Алгебра Жегалкина») был мгновенно перепечатан в Journal of Symbolic Logic, что не соответствовало обычной практике публикации статей в этом журнале. Когда я уже был сотрудником Института философии, он инициировал мою встречу с сотрудниками отдела Глушкова, на которой я попытался объяснить основополагающие идеи лингвистической прагматики. На основе своей кандидатской диссертации.
Первая жена Владимира (Леся), специализировавшаяся по геометрии, в мои аспирантские годы была также аспиранткой. Владимир приходил в университетский читальный зал, чтобы с ней увидеться, и это давало повод для нашего эпизодического общения. Наши разговоры касались не столько математической логики (которую я уже рассматривал как сугубо специальную область, приспособленную прежде всего для нужд математики), сколько национальной проблемы. Владимир в недавнем нашем разговоре вспомнил о большом впечатлении, которое произвело на него чтение книги Чорновола «Портреты двадцати преступников». Он не только сам читал произведения из самиздата, но и давал их читать другим людям. Курьёзный случай произошёл с одной женщиной, которой он передавал самиздатовские материалы. К ней стал проявлять внимание один мужчина, которого на первых порах интересовала не она сама, а сведения о самиздате. Между тем он действительно влюбился, она приложила усилия, чтобы его национально просветить, в конце концов они поженились. Если даже предположить, что в данном случае подозрения в сотрудничестве были безосновательными и что мы имеем дело только с «легендой», то она симпатична. Слишком мало у нас рассказов о том, как складывались отношения «внештатных сотрудников» с их вербовщиками («Письма к следователю» Бориса Ковгара являются, кажется, единственным исключением из общего замалчивания этой темы). Владимир принимал активное участие в общественно-политической жизни конца 80-х, начала 90-х годов, в начале 90-х был депутатом районного совета.
К этим кратким портретам-очеркам следовало бы добавить ещё упоминания о многих людях, с которыми я общался в свои аспирантские годы. Я ещё дальше упомяну о Михаиле Григорьевиче и о других лицах, принимавших участие в изготовлении (размножении) и распространении самиздата. Вспомню далее также о своём общении с Вениамином Сикорой, важным для меня с точки зрения понимания соотношения экономики и политики и т. п.
* * *
Лингвистическая философия. Термины «семантика», «значение» и «сенс» или «смысл» («денотат» — «коннотат») постепенно входили в язык философии. Начали появляться некоторые русскоязычные переводы (преимущественно с грифом «для научных библиотек»). В русском переводе вышла книга Р. Карнапа «Значение и необходимость». Среди украинских философов проблемы семантики (в разрезе анализа языка науки) одним из первых, если не первым, стал обсуждать в тогдашних своих лекциях и публикациях Мирослав Попович.
С середины 60-х годов начали появляться также первые русскоязычные публикации о лингвистической философии. Но начальный толчок и решающую роль в моём переходе к лингвистической философии сыграли публикации на иностранных языках. Особенно полезной для меня оказалась антология переводов на польский под названием «Логика и язык», составленная Ежи Пельцем. Эту книгу мне подарил Сергей Васильев. Начального изучения польского языка в студенческие годы оказалось достаточно, чтобы читать эти тексты. Кроме того, в научной библиотеке Киевского университета была также книга на английском языке — сборник статей, составленный Г. Райлом под названием «Обыденный язык». Эта моя интеллектуальная эволюция соответствовала, пусть и с некоторым опозданием, кризису логического позитивизма на Западе в 40-е – 50-е годы. В 60-е годы логический позитивизм подвергается критике в двух своих составляющих: как абсолютизация научных подходов (сциентизм) и как эмпирический фундаментализм — продолжение британского эмпиризма и позитивизма. С точки зрения критики того варианта эмпирического фундаментализма, который отстаивал логический позитивизм, большое впечатление на меня произвела статья Куайна «Две догмы эмпиризма».
Итак, в конце концов, я отказался от концепции значения, развитой в русле логического позитивизма, и принял концепцию значения, которая основывалась на идеях «позднего» Витгенштейна, — то есть стал сторонником лингвистической философии. В соответствии с концепцией значения, развитой в лингвистической философии, значение стали понимать как способ использования выражения, а не на основе отношения именования (референции) — через отношение к некоторому объекту, физическому или ментальному. Во-вторых, как уже было сказано выше, принималось, что критерий значения или смысла не является универсальным, а различен в разных «языковых играх» — в разных способах речи. Поскольку сами эти способы речи рассматривались как проявления различных видов деятельности и даже образов жизни, то это, в конечном счёте, открывало путь к рассмотрению тех смыслов, источником которых является данная конкретная культура с её системой ценностей.
Это означало освобождение философии от строгих ограничений, связанных с ориентацией на так называемую «научную философию» (где понятие научности означало ориентацию на математику и естественные науки). Первым и непосредственным следствием этого освобождения было оправдание различных стилей философского письма, включая также интуитивный и метафорический стиль речи. Направленность научного познания на поиск технологий требует преимущественно терминологического (однозначного) языка. В противоположность этому, язык поэзии (и искусства вообще) обращён к субъективному миру человека: такой язык должен обеспечить пространство для субъективных интерпретаций.
Это был значительно более радикальный подход, чем различие так называемых экстенсиональных и интенсиональных контекстов в логическом позитивизме. Логический позитивизм всё-таки был ориентирован на нахождение «идеального языка» науки. Повседневный язык с этой точки зрения рассматривался как несовершенный. В лингвистической философии тезис о несовершенстве обыденного языка был отменён: вопрос сводился к учёту его особенностей и к объяснению различных способов его использования. Метафорический способ речи, с этой точки зрения, также обладал своими преимуществами. Использование слова, скажем, в поэтическом контексте является столь же точным, как и использование научного термина, но эта точность различна. Точность терминологического языка основывается на независимости значения термина от контекста, на использовании значения термина в соответствии с принятым определением. В то время как точность использования слова в поэтическом контексте зависит от того, какие смысловые оттенки приобретает слово в контексте (при этом фонетика слова или даже его графика часто участвуют в порождении соответствующих смысловых оттенков).
Поскольку использование высказывания является определённой разновидностью практического действия (в противоположность действию интеллектуальному), то учёт контекста — лингвистического и внелингвистического (ситуативного) — является важной предпосылкой успешности такого действия. В своей кандидатской диссертации я собственно и поставил себе цель разработать терминологию и классификацию того, что я называл лингвистической прагматикой. Фактически речь шла об исследовании различных видов применения высказываний. Позже это было названо теорией речевых актов (Остин и Сёрл). Пропонент, адресат, высказывание (текст), который использует пропонент, тип использования, контекст, в котором осуществляется это использование, — вот основные понятия лингвистической прагматики.
Как и следовало ожидать, я почти забросил свои занятия математической логикой, которой тогда с энтузиазмом занимался В. Павлов. С сочувствием я потом вспоминал его разочарование моими ответами на кандидатском экзамене по математической логике. Но я благодарен В. Павлову, что он, выяснив мои интересы, отказался от руководства моим диссертационным исследованием и отослал меня к Мирославу Поповичу. Это был счастливый «случай», поскольку участие Мирослава и в зачислении меня на должность сотрудника Института философии, и в успешной защите диссертации было решающим.
Тем не менее, занятия символической логикой повлияли — и, думаю, в сторону ухудшения — на мои исследования по лингвистической прагматике, поскольку я пытался искусственно приспособить символические средства для описания различных способов использования высказываний (сообщение, приказ, вопрос и т. д.). Влияние формально-логического подхода очевидно и в моей статье, опубликованной в журнале «Мовознавство», посвящённой выяснению понятия контекста. Позже я считал, что сам способ рассмотрения понятия контекста в этой статье малопродуктивен, если не ошибочен вообще.
* * *
Политическое мышление. Потребность в написании какого-то документа, который бы не столько содержал критику политической системы, сколько предлагал конкретную программу действий, была очевидна. В разговорах с Евгением Пронюком мы каждый раз касались этой темы. Как и темы идеологии тогдашнего национально-демократического движения. Речь шла именно об идеологии — то есть о некой системе идей и принципов, способной успешно работать — расширять число сторонников и участников национально-демократического движения. С этой точки зрения она не должна была быть радикальной, что, учитывая состояние массового сознания и психики, неизбежно отталкивало бы людей (далее, в рассказе о распространении самиздата, скажу об уровне страха, который препятствовал распространению даже довольно умеренных текстов из самиздата). С другой стороны, простая декларация требования выхода из состава СССР не могла получить поддержку из-за низкого уровня массового национального и гражданского сознания. Эта проблема возникла ещё раньше перед группой Лукьяненко — Кандыбы. Я об этом ещё дальше вспомню в связи с написанием Евгением Пронюком более радикальной программы под названием «Состояние и задачи Украинского освободительного движения».
Так что наряду со своими сугубо философскими изысканиями и довольно значительными усилиями, связанными с размножением и распространением самиздата, я начал прорабатывать соответствующую литературу, в частности по советскому конституционному праву, чтобы написать такую программную вещь. В конце концов, статья была написана в виде «Открытого письма к депутатам Советов УССР» (подписанного псевдонимом Антон Коваль). Как потом оказалось, её редактировал Юрий Бадзё (ему передал эту статью для редактирования Пронюк), он предложил изъять один или два пункта из этой моей программы, с чем я согласился. Статья была впоследствии опубликована в журнале «Сучаснисть» (№10, 1969). Хотя сам текст небольшой, но требовал значительной подготовительной работы. Я не читал книгу Джиласа «Новый класс» (она, кажется, не распространялась в самиздате). В самиздате зато распространялась книга Авторханова «Технология власти». Но для меня была важна также официально опубликованная литература по эволюции советского конституционного законодательства в разрезе сужения автономии республик (по крайней мере некоторые из подготовительных выписок сохранились в моём архиве). Этот документ опубликован в книге Анатолия Русначенко «Национально-освободительное движение в Украине» (Киев, 1998), без ошибок (в противоположность моему «Открытому письму в ЦК КПСС», помещённому в той же книге, которое содержит разного рода стилистические и грамматические ошибки, отсутствующие в оригинале). Доступность текста для современного читателя избавляет от необходимости комментировать здесь его содержание.
2. Преподавание в Киевском университете. Институт философии.
Преподавание логики. В. Павлов перед началом 1967–1968-го учебного года предложил мне, в виде практики, чтение лекций по логике на украинском отделении филологического факультета и на факультете журналистики. Я согласился. Разработанного заранее курса лекций по логике у меня не было. Решил, что для филологов и журналистов, прежде чем излагать элементы классической логики, было бы полезно начать с семантики — показать язык в его действии, в его использовании. То есть воспользоваться своими разработками по лингвистической прагматике: ознакомить студентов со своей классификацией речевых актов — с использованием высказываний и текстов для построения утверждений, для передачи сообщений, для побуждения к действиям, для вызывания в воображении образов, для внушения настроений (суггестия) и т. д. Это бы дополнило и в каких-то моментах поправило традиционное структурно-грамматическое описание языка. Думал обратить внимание студентов на использование разного рода ярлыков и выражений, предназначенных для манипулирования сознанием.
Свои успехи в осуществлении этого замысла я потом оценивал скептически. Неудача в преподавании преимущественно является следствием способа преподавания. Но, видимо, какую-то роль сыграла ориентированность моей аудитории не столько на теорию языка, сколько на словесное искусство. Студенты, филологи и журналисты, наверное, с большим интересом слушали бы лекции по семиотике словесного и визуального искусства. Тем не менее, доброжелательное отношение студентов к моим усилиям было стимулом, который поддерживал мой преподавательский энтузиазм. Некоторые из студентов угадывали во мне «оппозиционера», выказывая доверие во время общения на переменах. Один студент заинтересовался, не имею ли я доступа к самиздату. Я это отрицал.
Тем временем я присматривался к студентам, чтобы найти одного-двух, способных, учитывая морально-психологические качества, распространять самиздат. Один показался мне таким. Наверное, я не ошибся в его нравственности, но его напугало моё предложение: после нашего разговора он обходил меня стороной при случайной встрече на улице. Это не единственный случай такого рода. Одна из аспиранток, которая в кругу нашего дружеского общения, казалось, разделяла цели оппозиционного движения, в ответ на мою просьбу подержать у себя тексты, взглянула на меня взглядом, полным ужаса. Наверное, не ожидала, что окажется в ситуации выбора. А потому не имела готового решения, чтобы спокойно отказать.
Но с одним мне повезло. Это был Василий Овсиенко. Ко времени нашего сближения он уже прошёл путь самоопределения — доставал и распространял самиздат. По словам Овсиенко, среди студентов были и другие, у которых хватало отваги это делать. С тех пор я передавал самиздатовские тексты только ему. Он лучше знал студенческую среду и мог решать, кому больше доверять.
* * *
Василий Овсиенко. Овсиенко свойственны некоторые типичные черты «шестидесятников», если этим словом обозначать людей с определённым типом ментальности: чувство личной ответственности за состояние общества, неприятие разрыва между мыслью и действием, жертвенное исполнение гражданского долга. Достаточно было пообщаться несколько раз, и появлялось ощущение морально-духовного родства. Возможно, этому способствовало одинаковое общественное происхождение: родители Овсиенко крестьяне (село Ставки на Житомирщине). Но важнее тип человека, который слова об ответственности за мир, в котором каждый из нас живёт, способен воспринимать как вызов, требующий деятельного ответа. Мне нравилось в нём сочетание этического идеализма, укоренённого, как мне казалось, в романтическом умонастроении, с практической мудростью. Наше постоянное общение с Василием подвергало его опасности — с последствиями, хорошо ему известными (на примерах других). Но он ещё до встречи со мной сделал свой выбор; его просветительский энтузиазм не мог не вызывать восхищения. Он был организованным и аккуратным. Это позволило ему избежать провалов: масштаб этой его деятельности и её продолжительность (наше сотрудничество в распространении самиздата длилось с 1968-го до весны 1972-го), являются лучшим подтверждением этих характеристик. Дальше я ещё буду вспоминать о нём в разных ситуациях.
Сошёлся ближе также с некоторыми другими студентами, общался с ними, хотя бы попутно, не только во время лекций: Ольга Кобец, Галина Паламарчук, Михаил Сорока (в 90-е годы — главный редактор газеты «Урядовый курьер»), Иван Гайдук. Помню, о чём-то говорил с Богданом Жолдаком. Во время случайных встреч-разговоров с моими бывшими учениками в 90-х удивлялся тому, какие фразы или эпизоды они запомнили из нашего тогдашнего общения. Славко Чернилевский во время одной нашей встречи вспомнил, что я похвалил его способности, но посоветовал больше работать. Если так, то моей установке в этом случае повезло: она адресовалась юноше, которому будут свойственны творческое беспокойство и трудолюбие (поэзия, кино).
За распространение самиздата из числа студентов, преимущественно филологов и журналистов, из университета были исключены во второй половине 60-х и в начале 70-х Надежда Кирьян, Николай Воробьёв, Николай Холодный, Николай Рачук, Станислав Чернилевский, Иван Гайдук, Михаил Якубивский, если ограничиться теми, о ком знаю. Из названных больше всего унижений и издевательств испытал Михаил Якубивский, потому что стал объектом преступной психиатрии (из университета был исключён за чтение «Интернационализма или русификации?»). Вне круга тех студентов, которым преподавал, вспоминаю отдельные случайные общения с Николаем Воробьёвым, Николаем Холодным, Виктором Кордуном. Запомнил фразу Николая Воробьёва: «Древние греки сказали всё, что можно сказать в философии». Стиль поведения Николая напоминал мне Сковороду. Однажды, не помню уже по какому поводу, зашёл в одну из комнат студенческого общежития, там была только одна девушка: был несколько удивлён, когда, в результате нашего знакомства, узнал, что эта девушка Валентина Чорновил, сестра Вячеслава.
* * *
Трудоустройство. Время моей учёбы в аспирантуре закончилось в конце января 69-го. В рабочем варианте я закончил свою диссертацию, собираясь потом окончательно доработать её. Это было важно ввиду того, что Мирослав Попович предложил мне оформить назначение в Институт философии — в отдел логики и методологии науки, который он возглавлял. Такое назначение после окончания аспирантуры можно было получить только после того, как Президиум Академии наук даст соответствующее представление в Министерство образования, в котором подтвердит согласие на зачисление в один из академических институтов. Для этого аспирант, если он не успел защитить диссертацию, должен был подать в Президиум по крайней мере заключение кафедры о завершённой диссертации. Я представил текст своей диссертации на кафедру с положительным отзывом своего научного руководителя и получил соответствующую бумагу. Она была передана в Президиум АН, который переслал соответствующий запрос в Министерство образования. Но зачисление в Институт философии по каким-то причинам затягивалось, хотя все соответствующие бумаги были уже в Институте философии.
Проходил месяц за месяцем. Видимо, «наверху» решали. Можно предполагать, что КГБ способен был заблокировать решение в мою пользу. Но в отношении меня он мог это делать только на основе «оперативных данных»: моя оппозиционность не была публичной, в самиздате материалов, подписанных собственной фамилией, не имел, был членом КПСС. Я не сомневался в том, что КГБ «что-то» знает. В своих частных общениях многое я говорил открыто, главное же, в случае разговоров-провокаций, не опровергал подозрений. Отмалчивался, в таких ситуациях «красноречиво». Важнее другое: хотя чтение самиздата стало распространённым явлением в узком кругу интеллигенции, не могло быть сомнения, что выявление активистов распространения самиздата принадлежало к приоритетным задачам в работе КГБ.
Подтверждением этих моих предположений было предостережение, высказанное мне тет-а-тет Павловым. Где-то в конце моего аспирантского срока в разговоре, состоявшемся в коридоре перед читальным залом для научных работников, он сказал примерно так: «Василий Семёнович, смотрите, занимайтесь своими научными исследованиями». Мне показалось, что он говорил это с чувством тревоги за меня и с намерением предостеречь. Такие предостережения я слышал ещё в студенческие годы. Иван Зязюн, который подписал очень хорошую комсомольскую характеристику на меня по окончании университета (такая тогда была практика), во время одного из наших разговоров в коридоре общежития (на Ломоносова) дружески предостерегал меня от «лишних» разговоров. В общем, я следовал этому его совету, но избирательно.
Тогда я принадлежал к «осторожным», потому и закончил аспирантуру. В то время как другие действовали открыто, писали тексты для самиздата, подписывая собственными фамилиями, подвергались преследованиям, их исключали из вузов или аспирантур (Стус и др.), я же предпочитал подполье. Осторожность, правда, имеет много степеней — вплоть до полного приспособленчества. Моя осторожность была рискованной. К тому же она имела признаки сознательного выбора. Организация размножения и распространения самиздата была общественно важной деятельностью. Деятельность тех, кто действовал открыто, нуждалась в своём необходимом дополнении. Наличии среды, в которой бы циркулировали самиздатовские тексты и которая брала бы на себя нелёгкое дело размножения материалов, передачи их на Запад и т. п. Осознание разделения труда было налицо среди тех, кто действовал открыто. Основные усилия некоторых участников тогдашнего национально-демократического движения (Лёля и Наденька Светличные, Зиновий Антонюк, Евгений Пронюк и др.) уходили на то, чтобы обеспечить соответствующую «инфраструктуру». Нужна была также отвага, чтобы поддерживать общение с заключёнными, рисковать, чтобы получить и передать на Запад слово из-за решётки. А также поддерживать морально и, если была возможность, материально их семьи здесь, в «большой зоне».
Второе. Философия, пожалуй, является самой требовательной к предпосылкам деятельности. Она больше всего пострадала вследствие изоляции от Запада и потому, что была превращена в служанку идеологии. Но, даже при наличии хороших общественных предпосылок, философское мышление требует больше времени для обдумывания собственной концепции. Важно было не просто отрицать идеологию и практику тоталитаризма, а придать этому отрицанию соответствующее обоснование. С наметкой положительной перспективы. Кроме уже «Письма избирателя» (которое распространялось под псевдонимом), у меня были заготовки некоторых других такого рода статей, предназначенных для обнародования в самиздате. Вероятно, если бы ситуация радикально не изменилась, я бы подавал их под псевдонимами. Произведение, обнародованное под собственным именем, должно быть достойно тех «неудобств», которые станут следствием такого действия.
И всё же большинство активистов распространения самиздата (которые по тем или иным мотивам не действовали открыто) были согласны с установкой, высказанной Евгением Сверстюком («Собор в лесах») так: «Проходим негероическую полосу в истории, где подвиг совершает уже тот, кто вырвался из состояния пассивного конформизма и идёт за голосом совести. Осторожные — самые безответственные. Они знают единственную науку — не совать пальцы в колёса». Здесь речь идёт о необходимости массового «героизма» — массового гражданского поведения. Действительно, в условиях тоталитаризма гражданское поведение неизбежно становилось героическим. С возникновением массового гражданского поведения должна была бы закончиться потребность в героизме одиночек. Если пренебречь тем, что такая потребность будет всегда (даже в хорошо устроенных демократических обществах). В тогдашней ситуации образцы открытого протеста имели особую важность. Когда, при общей пассивности, «колёса» бодро мчатся навстречу духовному, а значит, в конечном итоге, и физическому Чернобылю, единственным спасительным действием (рассчитанным хотя бы на перспективу) является фигура героя-одиночки, который всовывает руку в сумасшедшее колесо.
* * *
Владимир Шинкарук. Прошло больше полугода после окончания аспирантуры (с февраля по сентябрь 1969-го), когда, наконец, директор Института философии Владимир Шинкарук отдал приказ о зачислении меня на должность исполняющего обязанности «эменэса» (младшего научного сотрудника). В «отдел Поповича». Не исключено, что какую-то роль сыграл мой разговор с Шинкаруком, который состоялся во время случайной встречи в лифте (тогда Институт философии был в здании на улице Кирова, теперь Грушевского). Это был короткий разговор: я упрекал Шинкарука в промедлении с принятием решения. Если действительно решение моего вопроса зависло между «да» и «нет», и слово Шинкарука оказалось решающим, то моя благодарность ему пусть ляжет на чашу весов его добрых дел.
Хотя большинство моих непосредственных общений с Владимиром Шинкаруком приходится на 90-е годы, было бы целесообразно высказать несколько кратких характеристик его как личности и философа именно здесь. Его назначение директором Института философии в 1968 году, с точки зрения тогдашних возможных претендентов и «проходных» кандидатур, сотрудники Института оценивали положительно. Он был способным, обладал хорошей, по тем временам, философской культурой и не принадлежал к «марксистским ортодоксам». Имею в виду специфическое значение слова «ортодокс», которое, откровенно говоря, не совсем соответствовало западному понятию «ортодоксального марксизма»: в СССР в 60–70-е годы к «ортодоксам» относили партийных идеологов в философии (Константинов и т. п.).
То, что Шинкарук привлекал внимание студентов к «молодому» Марксу, я склонен был оценивать как скрытую «ревизионистскую» тенденцию в его мышлении. Он проявлял также приверженность украинской культуре и языку. Но в очень умеренной форме. Эта умеренность была очевидна в дискуссии о положении украинского языка, которая состоялась в Киевском университете в 1965 году (жёлтый корпус). Я присутствовал на той дискуссии. После первого дня она была запрещена, позиция Шинкарука вызвала реакцию неприятия со стороны аудитории. Но он придерживался установки, чтобы преподавание в Киевском университете велось на украинском языке. В одном из наших разговоров в 90-е годы вспоминал, что ему самому это далось нелегко. Речь шла о разработке украинской историко-философской терминологии. Участвуя в деятельности комиссии, созданной для разработки закона о статусе украинского языка в начале 90-х годов, он отстаивал государственность украинского языка.
И всё же, если мы имеем в виду Шинкарука как официальное лицо, то не существует оснований говорить о его оппозиционности по отношению к тоталитарной политической системе и официальной идеологии. Он принадлежал к номенклатуре и вполне сознательно принимал это. Такой вывод кажется очевидным, учитывая фактические взаимоотношения В. Шинкарука с властью: он делегат XXVI съезда КПСС, член Ревизионного комитета ЦК КПУ, награждён многими высокими наградами, включая орден Ленина. Возможно, какое-то влияние имели сугубо личные обстоятельства жизни — социальное происхождение (отец был секретарём райкома партии). Никто из его коллег из Института философии не отрицает конъюнктурного стиля его поведения. И не вспоминает случаев его противодействия партийной или академической бюрократии (Президиум АН).
Я уже упоминал, что Шинкарук не обладал хотя бы таким запасом сопротивляемости давлению со стороны бюрократии, которая была свойственна П. Копнину. Смелость Копнина, правда, тоже была дозированной. Достаточно просмотреть его статью «В. И. Ленин и проблема практики», написанную за год до смерти, и становится понятна граница, за которую он не отваживался выходить в «творческом развитии марксизма». Но Копнин психологически был личностью, способной сопротивляться или хотя бы пренебрегать «указаниями». Такой способностью Шинкарук не обладал. Некоторые из моих коллег считают, что у него не было для этого характера. Другие замечают, что у Копнина был «тыл» в центре: он чувствовал себя значительно свободнее в Украине, а, соответственно, и отношение к нему со стороны украинских партийных бюрократов было иное. Его личность выходила за пределы их полномочий.
На основе собственных впечатлений, с большой долей вероятности, могу предполагать, что основным мотивом поведения Шинкарука была сознательно выбранная позиция: делать что-то позитивное только в пределах возможного. То есть, не рискуя, чтобы и тебя не убрали и не заменили худшим. Перспектива такой замены была реальной. В любом случае от Шинкарука нельзя было ожидать каких-либо проявлений непослушания в отношении принятых «наверху» решений. Но, видимо, было бы ошибочно также утверждать, что такая покорность в любом случае означала согласие. Согласие на уровне собственной совести. Убеждён, что Шинкарук не мог одобрять аресты среди интеллигенции — в частности аресты 72-го. Он действовал под давлением сверху и из соображений перестраховки. Это подтверждали и мои разговоры с ним в 90-х. Он не скрывал, что выбирал именно такую стратегию поведения. В его объяснениях не было лишней претенциозности — попытки приукрасить это поведение. Он его оправдывал тем, что его снятие с должности означало бы плохую перспективу для Института философии. (Об оценке некоторых кадровых решений Шинкарука, в частности связанных с арестами 72 года, скажу в воспоминаниях о 90-х годах).
Но, несмотря на сказанное, директорство В. Шинкарука способствовало сохранению в Институте атмосферы свободного общения, по крайней мере среди какой-то части сотрудников. Утверждению этой атмосферы в наибольшей степени поспособствовал Копнин. Не стоит преувеличивать меру этого «вольнодумства»: людей «в футляре» и тех, кто «прислушивался», хватало — приходилось менять тему разговора в их присутствии.
Но когда мы стремимся оценить Шинкарука как философа, характеристики его как официального лица не должны играть решающей роли. Такой подход может вести к ошибкам; примеры известны (Хайдеггер и др.). Стоит, очевидно, также учитывать объяснение им своей интеллектуальной эволюции в публикациях 90-х. Я здесь не хотел бы входить в обсуждение тех интерпретаций философии Канта и Гегеля, которые находим в его публикациях. Это тема отдельного разговора. Стоит учитывать, что эти интерпретации были осуществлены без использования всего массива публикаций на иностранных языках. Но во всех случаях, когда мы оцениваем подневольную мысль, стоит исходить из предварительной доброжелательной установки — из подозрения, что под поверхностным, идеологически-защитным слоем текстов может существовать более глубокий слой. Тот, что содержит собственные идеи автора. Хотя бы в виде некоторых тенденций или намёков.
Итак, существует основание для ожидания, что на том более глубоком уровне в философии Шинкарука нам удастся обнаружить тенденцию сместить марксизм в сторону «младомарксизма». В сторону взаимоотношений человека и мира, осмысленных с точки зрения человека как деятельного, творческого существа — Существа, которое одновременно и творит свой мир, и является продуктом созданного им мира (культуры). Этого можно ожидать от любого философа, испытавшего влияние философии Гегеля. И этим можно объяснить внимание к ранним произведениям Маркса («младомарксизм») и попытку толковать марксизм с учётом «Феноменологии духа» Гегеля и т. п. Шинкарук указывает на важность этого произведения Гегеля в своей интеллектуальной эволюции. Не буду здесь предвосхищать работу историка философии, который, в результате конкретного текстологического исследования, даст взвешенную оценку текстов и педагогической деятельности Шинкарука в разные периоды.
Но даже если бы эти наши ожидания относительно подтекстов в творчестве Шинкарука нашли подтверждение, это не даёт основания называть Шинкарука «шестидесятником». Если мы хотим, чтобы это слово имело какое-то значение. Ведь это слово используют для обозначения людей определённого типа. Людей, творчество и поведение которых имели признаки вызывающего характера, а сами они подвергались различного рода притеснениям и преследованиям (включая заключение).
* * *
Киевская философская школа? Выражение «киевская философская школа», по свидетельству П. Йолана, впервые начал использовать П. Копнин в конце 60-х годов (когда уже был в Москве). Но не в академическом значении — когда «школу» характеризуют наличием особой методологии или проблематики, а часто даже основателя школы. Копнин употреблял это выражение для того, чтобы указать, что в Киеве появился центр философского мышления, которому свойственны проявления творчества. Это были осторожные, очень осторожные проявления «ревизионизма».
Об этой слишком большой мере осторожности свидетельствует тот факт, что на протяжении 60-х — 70-х годов прошлого века в академической философии не наблюдаем появления ни одного «скандального» философского произведения — произведения, которое бы означало вызов, бунт. Здесь мы не имеем аналогов с литературным творчеством. Из историков вызывающее произведение написал М. Брайчевский («Воссоединение или присоединение?»). Смелыми были также его публичные лекции, собиравшие переполненные аудитории. К вызывающим произведениям относится текст И. Дзюбы «Интернационализм или русификация?». Всё же его автор был известен прежде всего как литературный критик, а не профессиональный философ. Существуют формальные основания отнести к лицам из академической среды Евгения Сверстюка (сотрудник Института психологии). Очевидно, что его произведения написаны на грани литературоведения и философии. И это была очень заметная и выразительная оппозиция официальной академической философии.
Использовать выражение «киевская философская школа» в более серьёзном, академическом значении нет оснований. Потому что не существовало какого-либо кружка людей, объединённых общностью подходов (методологий) или хотя бы проблематики. Никаких отчётливых ревизионистских концепций в СССР не сложилось. Отчётливых настолько, чтобы можно было говорить о наличии особого ревизионистского течения или «школы». Что же касается тенденций, которые означают привнесение элементов творческого философского мышления в русле официального марксизма-ленинизма, то они существенно не отличались в Украине по сравнению, скажем, с Россией.
Сказанное в значительной степени относится к ярлыку «киевская мировоззренческо-антропологическая школа», основателем которой некоторые авторы стали считать Шинкарука. Этот вопрос был бы вообще не достоин дискуссии, если бы не был связан с оценкой прошлого, которая влияет на осознание современного состояния философии в Украине (в частности той же философской антропологии). По-видимому, именно этим можно объяснить, почему это стало предметом дискуссии на страницах журнала «Критика».
Замечу, что проблема выделения чего-то положительного в текстах философов 60-х — 80-х годов — пусть даже определённых акцентов, намёков и тенденций — решается текстологически. Здесь не существует особой специфики в случае философии по сравнению с другими гуманитарными науками. Каждый из гуманитариев легко может назвать публикации 60-х — 80-х годов, которые он считает положительным достижением и которые относятся к необходимым источникам в его современной профессиональной деятельности. Список этих положительных достижений был бы слишком длинным. Тем практически и получаем ответ на вопрос, в какой области или в каком отношении 60-е — 80-е годы были «потерянным» или «непотерянным» временем.
Действительно — часто приходится отделять важный информативный материал или некоторые интересные идеи, которые содержит какой-то текст, от защитной идеологической, а то и вполне искренней «диаматовской» риторики. Итак, вопрос, в каких темах или областях (и насколько!) 60-е — 80-е годы являются «потерянными» или «непотерянными», решается не путём общих рассуждений, а путём обращения к реальным достижениям — текстам, произведениям искусства и т. п. В оценке прошлого в равной степени неприемлемо как пренебрежительное отсечение этого прошлого, так и недостаток критической оценки. Потому что такое отношение к прошлому угрожает поверхностным пониманием современного и самих нас в этой современности. Что касается философии, то было бы явным упрощением представлять, что использование новой риторики (даже постмодернистской) уже свидетельствует о подлинном обновлении мышления. Известно, что поверхностная критика ментальности гомо советикуса прекрасно уживается с выживанием некоторых стереотипов той же ментальности в мышлении самого критика.
Это действительно так, что отдельные философы стремились найти какие-то «ниши», чтобы делать что-то позитивное. Преимущественно логика, семиотика, философия науки, даже эстетика и искусствоведение (хотя это уже труднее) выполняли роль таких «ниш». Одним из направлений позитивной работы была публикация источников и их описание (не интерпретация!) — в том числе и публикация источников по истории украинской философии. Ссылки на «классиков», на диалектику и т. п. часто служили в те времена прикрытием для обнародования содержательной части текстов в различных гуманитарных науках. В поэтических сборниках эту роль выполнял стих-«паровоз». Однако ясно, что в конкретных гуманитарных науках эти «защитные» вставки в текст можно было легче отделить от его содержательной части: этому способствовала их чужеродность. В случае же философских текстов — особенно тех, в которых и защитная фразеология, и более глубокий слой были стилистически родственными (потому что принадлежали к одному направлению мышления — диалектика, марксизм), такую операцию осуществлять труднее. Если вообще возможно.
Никто не станет отрицать, что Институт философии и философский факультет Киевского университета были центрами философского образования, несмотря на заидеологизированность этого образования. И определёнными центрами общения. Если эти центры образования и общения называть «школой», то это другое значение слова. В любом случае, чем меньше требований связывают со значением слова «школа», тем меньше вес утверждения о существовании «школы». И тем меньше оснований для споров о её существовании. Это опять-таки общая ситуация с использованием терминов. Если словом «школа» называть какой-то центр образования и общения, то исчезает основание для дискуссии.
* * *
Мирослав Попович. Сотрудниками отдела логики и методологии науки, заведующим которого был Мирослав Попович, были Сергей Крымский, Пётр Йолон, Сергей Васильев, Анатолий Артюх, Евгений Ледников, Виктор Косолапов. Из них Васильев, Артюх и Ледников были моими университетскими однокурсниками. Мирославу была свойственна высокая степень открытости. Он не боялся дискуссий. И не только на философские темы — с теми, кому доверял, обсуждал также политические события. В своих более поздних публикациях последовательно избегал использования идеологической фразеологии и критики «буржуазной» философии. Неприятие «диамата» было свойственно большинству его «воспитанников». Тем молодым учёным, которые писали и защищали диссертации под его руководством. В отделе Поповича царило умонастроение аналитического подхода, а, соответственно, преобладало критическое отношение к софистической диалектике. С её злоупотреблением неопределённостью понятий. Понятно, что сама проблема соотношения между определённостью и неопределённостью неизбежно становилась предметом обсуждения. Поповичу свойственен широкий диапазон интеллектуальных интересов — от логики, семантики, философии естественных наук — до культурологии, этнологии и политической философии. Об интересе к культурологии свидетельствуют его публикации. Важным показателем его гуманитарной направленности является знание языков: читает и говорит на многих европейских языках (свободно на польском, чешском, французском, английском, немецком).
Иногда Мирослав приглашал нескольких из нас — Йолона, Васильева, Крымского и меня — домой. Используя своё кулинарное искусство, он в нашем присутствии готовил блюда, а мы тем временем начинали свои дискуссии на интеллектуальные и политические темы. Делали это даже без опасений, что нас подслушивают. Помню, Мирослав говорил в угол — то есть в «микрофоны» — какую-то фразу, которая должна была засвидетельствовать, что мы думаем именно так.
Думаю, что его диссидентские настроения были известны «органам». У него был «подозрительный» круг общения — он был в дружеских отношениях с Михаилом Брайчевским, с Александром Зиновьевым (из Института философии в Москве, известным в узком кругу как «антимарксист») и другими «подозрительными» лицами. Его тогдашнюю идеологическую ориентацию можно назвать «общедемократической» — термин, который был тогда в употреблении среди украинских «диссидентов». Тем не менее, в отличие от многих российских демократов, он негативно относился к стереотипам российского шовинизма. В 60-е годы солидаризировался с «украинскими буржуазными националистами». Но сознательно выбрал для себя позицию «тихой» оппозиции. Не считал, что должен позволить бессмысленной тоталитарной машине репрессировать себя. Я не считал, что было бы правильно непосредственно передавать самиздатовские материалы Мирославу. Это было бы нарушением «техники безопасности». Потом я узнал от Мирослава, что он читал некоторые из текстов, которые я распространял (попадали к нему через других лиц). После моего возвращения из заключения Мирослав пригласил меня и Сергея Васильева домой. Это было сделано в ситуации, когда даже некоторые из бывших «единомышленников» пытались избегать общения (при встречах не замечали).
Укажу на некоторые моменты, которые, на мой взгляд, проясняют способ мышления Поповича, который не претерпел радикальных изменений в его интеллектуальной эволюции. Попович на время моего сотрудничества в отделе не был сторонником позитивизма. Имею в виду логический позитивизм. Он скорее был тогда и является сегодня сторонником критического рационализма. Или, точнее, рациональной рефлексии, когда средства рассуждения и научного познания сами становятся объектом анализа и оценки — оценки их оправданности (обоснованности) и эффективности.
Тем не менее, сердцевину его интересов составляет семантика и культурология. Теоретической основой его культурологии является структурализм. С одной важной поправкой: он придаёт большое значение преобразованию структур — то есть действию, процессу, а это аспект диахронии (временности). Ведущая методологическая роль структурализма не случайна, если учесть, что это направление открывало перспективу сделать теоретическими лингвистику, культурологию, а вместе с тем этнологию и антропологию. Тем самым возобновлялось методологическое единство естественных и гуманитарных наук, поскольку структуры могли описываться рационально.
На мой взгляд, лучшим ключом к пониманию способа мышления Поповича может служить книга «Рациональность и измерения человеческого бытия» (Киев, 1997). На мой взгляд, она может выполнять роль того текста-«топоса», который позволяет лучше понять тенденции, имевшиеся в предыдущие периоды интеллектуальной эволюции. В контексте моего повествования важно указать на центральное место в этой книге таких проблем, как смысл и абсурд, определённость и неопределённость, порядок и хаос. Опорными понятиями при рассмотрении смысла и абсурда, порядка и хаоса является оппозиция структура — антиструктура. Все речевые действия Автор сводит к трём основным — констативы (утверждения и системы утверждений), экспрессивы (выражения), суггестивы (внушение определённых состояний и образов). Последнее речевое действие у Автора включает также не только внушение определённых образов и эмоциональных состояний, но и побуждение к действию — то есть, включает также побудительные (промотивные) действия. Этой типологии использования знаков (не только языковых, но и визуальных, и аудиовизуальных) соответствует выделение основополагающих способностей человека — разума, чувства и воли. Эта триадность, несмотря на предостережения самого автора относительно неизбежных упрощений, имеет преимущество простоты.
Названные виды действий используются как важнейшие измерения общения или, иначе, дискурсов. При этом понятия истины и свободы определяются в зависимости от того, с каким из этих измерений или дискурсов мы имеем дело. Истина в когнитивном измерении является оценкой утверждений или систем утверждений с точки зрения их соответствия реальности. «Свобода в когнитивном измерении есть принятие решений на основе лучшего знания дела, то есть „осознанная необходимость“». Истина в суггестивном дискурсе — это либо вопрос о достижимости определённой цели в данной реальной ситуации, либо соответствие способа действия (и средств действия) конечной цели, либо же соответствие цели принятым ценностям и нормам. Свобода в суггестивном измерении есть возможность осуществления определённых целей — это «свобода для». Экспрессивное измерение общения заключается в выражении отношения субъекта к «чему-либо» (к «теме»). Истина в экспрессивном измерении — это оценка с точки зрения соответствия между замыслом (интенцией) и выражением (тем, что сказано) — то есть, с точки зрения искренности и фальши.
В культурной антропологии и этнологии Автор использует определённые типологии, которые определяют тип данной культуры, а, следовательно, и тип человека, которого она создаёт. Впрочем, самое ценное, на мой взгляд, касается понятия пространства культуры и его преобразования. Речь идёт об изменении парадигм данной культуры — той структуры, которая определяет способы понимания и основополагающие ценности. В этих преобразованиях решающую роль играет функция, действие. В обществе — действие человека, его выбор. Преобразование культурных пространств может привести к упадку (распаду) данной культуры — исчезновению этноса или цивилизации. Культурное разнообразие мира является безусловной ценностью для Автора, поскольку унификация жизненной среды означает нарастание энтропии.
Как по мне, лучшие находки Поповича заключаются в нахождении связанности или общего в том, что принято рассматривать как противоположное, чужеродное, изолированное. Такие сочетания неожиданны, и в этом заключается их ценность. Как раз неожиданное несёт в себе информацию (потому что уменьшает неопределённость, степень энтропии). Такое мышление можно условно назвать «ассоциативным». Эта «ассоциативность», граничащая с парадоксальностью, мне запомнилась из общений конца 60-х — нач. 70-х. И именно эта ассоциативность мышления подвергается упрёкам в отсутствии «систематичности», в эклектичности и т. п.
Наши дискуссии с Мирославом в 90-е годы выявили расхождения в понимании определяющих признаков украинской национально-культурной идентичности и роли украинского языка в этой идентичности. Я склонен был оценивать позицию Мирослава как слишком либеральную. И попытался сместить позицию Мирослава вправо — к отказу от слишком либеральной версии мультикультурности. Слишком, по крайней мере, с учётом современного положения украинской нации — как этнической, так и политической. Эта проблема стала острой в 90-е годы, а потому я здесь не буду входить в её обсуждение.
Но наши дискуссии или расхождения в подходах к каким-либо философским или идеологическим проблемам, в том числе высказанные публично, не влияли на наши взаимоотношения, которые всегда оставались дружескими. Мирославу свойственно понимание дискуссии как средства выяснить проблему. Часто, к сожалению, критику воспринимают как личное оскорбление. Насколько он симпатичен и доброжелателен в общении, общеизвестно. Сегодня, когда Мирослав стал директором Института философии, его толерантное отношение к различным философским ориентациям и идеологическим позициям демократического направления способствует атмосфере свободного общения в институтском философском «сообществе».
* * *
Поскольку способ мышления Поповича мне импонирует, так как лежит в русле аналитической традиции, я хотел бы указать на некоторые различия или нюансы, важные с точки зрения некоторых акцентов в моей собственной классификации речевых действий в 60-е годы. Особенно это касается различия суггестивного (внушающего) и промотивного (побудительного) использования знаков. Только некоторые виды суггестии (вызывающие определённые образы в воображении, настроения, чувства и отношения) являются побуждением к действиям и способам поведения. Таковыми являются, например, внушение определённых отношений и связанных с ними ценностных ориентаций. То же самое можно сказать об экспрессивном (выразительном) использовании знаков. В словесном искусстве выражение определённых симпатий или антипатий может не только внушать определённые состояния, но и побуждать к определённым способам поведения. Это требует при анализе текстов использования более широкого репертуара аналитических средств. Думаю, что сказанное мной только усиливает вес предостережения, высказанного Поповичем в упомянутой книге.
Второе моё замечание заключается в том, что чувственность (как основополагающая характеристика всего живого) в человеческом сознании представлена двумя своими ветвями — сенсорной деятельностью (восприятиями) и чувствами (эмоциями). Как свидетельствует интроспекция, играющая важную роль в любых воспоминаниях, разного рода впечатления (восприятия) входят в наше сознание, оттенённые эмоциональностью.
С этим моим замечанием связано также использование терминов «смысл» и «осмысление» в этих воспоминаниях. Если термин «смысл» использовать в самом общем значении (противопоставляя смыслу абсурдное), то «осмысление» не может сводиться к мышлению, а должно включать также «сенс» — смысл, который появляется на уровне сенсорного. А потому в выяснении понятия смысла, с моей точки зрения, мы должны опираться на понятие сознания (самосознания). Смыслы, которые появляются ещё на уровне сенсорного, преимущественно содержат в себе и эмоциональную, и рациональную, и ценностную составляющие. Это даёт возможность подхватить одну из этих составляющих: воплотить смысл в художественном образе, в мыслительной идее или в каком-то отношении (в акцентировании ценности).
Впрочем, думаю, что эти акценты являются лишь попыткой исправить возможные недоразумения в связи с упомянутой триадической схемой. Надеюсь, что они, в свою очередь, не содержат признаков недопонимания.
* * *
Спор логиков и диалектиков. В кругу моего ближайшего общения оппозиция между диалектиками и сторонниками аналитической философии была персонифицирована в спорах между мной и Сергеем Васильевым, с одной стороны, и Михаилом Булатовым, с другой. Поскольку мы все трое были в дружеских отношениях (и эти отношения сохранились до сих пор), то каждый раз, когда случай нас сводил, начиналась дискуссия. Михаил считал диалектический материализм в его официальной версии лишь примитивизацией диалектики. Однако придерживался мнения, что творческое развитие диалектического подхода вполне плодотворно и перспективно. Этого мнения он придерживается и теперь. Но в любом случае важно, что именно обозначают термином «диалектика».
Известно, что в общефилософском значении этим термином обозначают взаимосвязанность понятий и явлений — части и целого, внешнего — внутреннего, субъективного — объективного и т. п. А также изменчивость («развитие»), недоверие к чему-либо, что претендует на абсолютность, акцент на ограниченности любых рациональных конструкций. В этом своём значении слово «диалектика» не только входит в лексикон многих интеллектуалов (независимо от приверженности определённому направлению), но и вошло в словарь повседневной речи.
В истории философии слово «диалектика» претерпевало радикальные изменения в своём значении. Если оставить без внимания положительные достижения в деятельности софистов, то именно они в наибольшей степени скомпрометировали логику-диалектику — превратив её в средство убеждения, сблизив её с риторикой. Они учили побеждать в спорах (в частности, в судах), руководствуясь правилом: кто в споре победил, тот и прав. Составляли для политиков речи, подчинённые той же цели — достижению успеха в политической борьбе. И в этом смысле напоминают современных политтехнологов. Некоторых из политиков, прошедших их школу, стали презирать за их политический цинизм: олицетворением такого политика-циника считают Крития. В связи с утверждением об относительности истины, добра, справедливости преимущественно вспоминают Протагора и Кратила — одного из последователей Гераклита.
Если оставить в стороне Канта, то на современное понимание диалектики как особого способа мышления основное влияние оказала философия Гегеля. Чтобы спасти метафизику (после её критики со стороны Канта), Гегель создал диалектическую метафизику. Если оставить в стороне вопрос о том, как философия Гегеля была интерпретирована левогегельянцами и Марксом, то очевидно, что диалектический материализм (в его марксистско-ленинской версии) воспользовался диалектикой Гегеля так, как софисты воспользовались «антитетикой» Гераклита. Такая диалектика вполне справедливо была названа студентами словом «диамуть». Что «дорога вверх и вниз — одна и та же», получило своё практическое воплощение в том, что в царство свободы и справедливости (дорога вверх), как оказывается, можно добраться, идя вниз — путём диктатуры и насилия. Это неизбежно должно было привести к уничтожению основополагающих ценностей — человеческой жизни, свободы, справедливости и т. д. Уловки, заключающиеся в использовании интеллектуальной риторики, которая паразитирует на взаимосвязанности понятий и явлений, на текучести и неопределённости, опасны тем, что способны соблазнять глубиной своей туманности. Такая диалектика только усилила её зловещесть: «хитрый разум» приобрёл черты циничного. Он стал средством оправдания любой политической практики, включая геноцид.
Сегодня с Михаилом Булатовым (с которым я часто встречаюсь, поскольку мы работаем вместе — в Институте философии) у меня уже нет оснований для острых споров. Ведь использование слова «диалектика» для обозначения только что названных и некоторых не названных здесь акцентов в философском мышлении я не считаю таким, что обязательно несёт в себе угрозу релятивизма. И всё же меня настораживает наличие в современном способе мышления и речи некоторых украинских интеллектуалов скрытых (неотрефлексированных) наследий, сформированных софистической диалектикой. Проявления этой «диалектики» находим в склонности к некритическому использованию разного рода риторик. К сожалению, в современном гуманитарном и даже философском образовании мы имеем лишь начальные шаги в усвоении положительных уроков аналитической философии. Хотя при этом нужно учитывать критику аналитической философии, осознавать её возможности.
* * *
Защита диссертации. Чтобы выйти на защиту диссертации, нужно было опубликовать не менее трёх статей по теме диссертации в академических журналах и сборниках. Я смог это сделать, опубликовав три необходимые статьи. Не буду здесь оценивать качество этих публикаций, но упомяну случай, связанный с публикацией единственной статьи, которая выходила за пределы проблематики диссертации и касалась гуманитарных проблем. Замечу, что в своих философских текстах, предназначенных для публикации, я хотел оставлять текст свободным от неуместного использования марксистской фразеологии. И если уж был вынужден делать «защитную» вставку, то старался, чтобы она была чётко локализованной, чтобы её можно было легко «изъять».
Но моя попытка выйти за пределы своей логико-аналитической «ниши» и перейти к обсуждению гуманитарных проблем дала очень негативный опыт. Речь идёт о публикации статьи «Критика сциентистских концепций научно-технического прогресса». Одним из непосредственных побуждений к написанию статьи была идея Глушкова о создании кибернетического центра, способного на научной основе управлять всей экономикой СССР. Но шире речь шла о перерастании коммунистического тоталитаризма в технократический, чтобы формирование нового типа человека осуществлять с использованием научно обоснованных технологий. Это была попытка написать что-то в жанре философской публицистики.
Но Фёдор Канак, мой однокурсник, с которым я был в дружеских отношениях (был заместителем главного редактора журнала «Філософська думка» Шинкарука) сказал, что в моём варианте она «не проходит». Я внёс какую-то ссылку на «классиков», он снова советовался, видимо, с Шинкаруком, и снова вывод тот же. Я сказал, что отказываюсь публиковать. Фёдор в ответ сказал, что и в этом своём виде она «страшная». В конце концов, я согласился, что-то, видимо, было «смягчено» ещё во время её редактирования. Самый простой способ смягчения заключался во вставке прилагательного «буржуазный», чтобы этим подчеркнуть правильную, классовую позицию автора. Был очень недоволен своей податливостью. Такие статьи нужно пускать в самиздат: перестраховка ещё на уровне редакционной «доводки» искажает текст. Ф. Канак отчасти был прав: пророчества о неминуемой катастрофе закрытого общества были выражением моего тревожного предчувствия будущих реальных катастроф. Как раз эти места из статьи были потом отмечены Надеждой Светличной в статье «Из живучего племени дон-кихотов». На эту статью также обратил внимание Богдан Витвицкий в своём Обзоре философской мысли за 1979–1979 годы (под заголовком: «Философия, политика и политика в философии».
Перед защитой у меня было ещё три коротких доклада по результатам своей диссертации. О встрече с кибернетиками в отделе Глушкова я уже упоминал. Прохладное отношение кибернетиков к моей концепции было понятным. Предлагаемая концепция значения была контекстуальной: она не открывала перспективы для её формализации и математизации. Можно было ожидать более благосклонного отношения со стороны лингвистов. А потому я согласился встретиться с языковедами из Института языкознания АН. Но был разочарован: дискуссии не получилось. До понимания и признания семантики, основанной на описании речевых актов, был ещё долгий путь (статьи Остина, Стросона и Сёрла были опубликованы в «Новом в зарубежной лингвистике» только в 1986 г.). В дискуссию вступил лишь молодой учёный, который мою концепцию охарактеризовал в идеологических терминах («семантический идеализм» или что-то в этом духе). В ответ я сказал, что в данном случае речь не идёт о какой-то идеологии, а лишь о значении выражений естественного языка. Его я не убедил, потому что и после моего объяснения он настаивал на том, что я таки являюсь рупором «буржуазной семантической философии».
Зато я нашёл доброжелательное восприятие своей концепции группой философов из Одесского университета, собранных для встречи со мной Авениром Уёмовым. Мирослав Попович договорился, что кафедра философии Одесского университета сделает внешний отзыв на мою диссертацию. Меня встретил на вокзале кто-то из научных сотрудников. На мой украинский язык он заметил, что у них в университете только один человек пользуется украинским языком публично. Но потом дал понять, что этот человек очень примитивен. Я подумал, что, видимо, как раз потому ему и разрешено представлять украиноязычных в университете. И подумал также, что мой доклад может быть как-то оттенён тем прообразом. И действительно, в начале моего доклада, как мне показалось, был момент реакции на язык. Но через несколько минут я уже почувствовал внимание и интерес моей аудитории. Потом атмосфера доброжелательности сохранялась на протяжении всей нашей встречи. Это было единственное коллективное обсуждение, участники которого понимали суть моей концепции. Спустя время выражаю свою благодарность Авениру Ивановичу и его коллегам за тогдашнюю поддержку.
Ещё должен был поехать в Москву, чтобы передать диссертацию и автореферат Александру Зиновьеву, который согласился быть оппонентом на защите диссертации. Для меня это была ответственная поездка, я переживал. Зиновьев занимался многозначной логикой. Я опасался, что моя семантика покажется ему неконструктивной. Беспокоило меня и то, что моя диссертация была написана на украинском. Впрочем, автореферат диссертации был сделан на русском языке, и для текста по логике количества страниц в автореферате было достаточно, если есть что сказать.
Я поехал в Москву, чтобы передать Зиновьеву текст диссертации и автореферат. Он оказался человеком, с которым было легко общаться. По крайней мере, я не почувствовал и тени какого-то превосходства. Но его откровенность была колючей. Когда я передавал ему текст диссертации и автореферат, он спросил остро: «А у вас здесь много марксизма?». На это я ответил: «Какой там марксизм в логике». Я переночевал на вокзале и встретился с ним на следующий день. Потом в своей речи на защите диссертации Зиновьев достаточно высоко оценил мою работу — выше, чем я сам её оценивал. Видимо, хотел поддержать меня в моих начинаниях. Вторым оппонентом был Авенир Иванович, который положительно оценил диссертацию, хотя и высказал несколько критических замечаний; с одним из них я не согласился.
Позже, когда я уже получил диплом кандидата наук, в план издательства была внесена публикация книги на основе диссертации. Но я считал текст своей диссертации для публикации в виде монографии «сырым» и собирался его серьёзно доработать. Но аресты 72-го сделали мой замысел невыполненным.
* * *
Через некоторое время после получения диплома кандидата наук Валерия Ничик предложила мне перейти в отдел истории философии Украины. Это было неожиданное предложение, учитывая мою приверженность аналитической философии. Но я согласился. Мне казалось, что я уже владею определённой методологией, которую можно использовать в какой-нибудь прикладной области философского мышления. И история украинской философии лучше всего соответствовала этому замыслу. Ещё во время преподавания в Тернопольском медицинском институте, по требованию заведующего кафедрой «определиться» с темами своих диссертационных исследований, я выбрал для себя тему «Этика прометеизма в творчестве Шевченко, Франко и Леси Украинки». Декларативное название. Тем не менее тогда (по крайней мере на уровне мединститута) она была официально утверждена. Оказалось, однако, что Валерия Ничик как раз ценила мой аналитический способ мышления (скажу об этом больше в воспоминаниях о 90-х годах). Теперь я выбрал для себя тему по философии украинской истории. Видимо, речь шла об осмыслении украинской истории прежде всего на источниках XIX — нач. XX вв. Очевидно, выполнить запланированную тему официально было невозможно. Не прибегая в публикациях к фальсификациям. Выбрав такую тему (ведь можно было взять что-то из истории логики), я тем самым сознательно оставлял свою логико-семантическую «нишу». Со всеми будущими последствиями.
* * *
Аналитическая философия и экзистенциализм. Лингвистическая философия как ответвление аналитической философии относительно легко сочеталась с логикой практического рассуждения и, в конечном счёте, с практической философией вообще. Речевое действие является разновидностью практического действия, объяснение которого требует учёта контекста. Расширив подход, можно перейти к рассмотрению любого практического действия. Его объяснение так же требует учёта контекста, но уже не лингвистического, а ситуативного — той ситуации, в которой находится деятель (личность или коллектив людей). Но поскольку в конкретной ситуации действует личность (даже если она стремится сочетать своё действие с коллективным действием), то аналитическое обоснование действия будет неполным без философии личности и философии ценностей. Иначе говоря, речь шла о понимании взаимодополняемости двух древних направлений мышления — рационализма и «философии сердца» (Августин, Паскаль. Кьеркегор и др.).
Что касается экзистенциализма, то его влияние на украинских интеллектуалов 60-х общеизвестно. Но это влияние шло преимущественно через художественно-литературные тексты. Философские тексты Сартра («Бытие и ничто»), Камю («Миф о Сизифе») и Ясперса, за отдельными исключениями, были известны лишь в комментариях и цитатах (я уже упоминал, что из моих друзей Погорелый занимался Ясперсом). Полезной с информативной точки зрения была книга Игоря Бычко конца 60-х годов, опубликованная в Москве («Познание и свобода». – М., 1969). В ней, в частности, давались в переводе некоторые важные цитаты из произведений Сартра, Камю и др. Предметом обсуждения становились некоторые статьи российских философов — Эрика Соловьёва, Юрия Карякина, Пиамы Гайденко и т. п. Помню обсуждение с Александром Погорелым книги Юрия Давыдова (Москва) «Этика любви и метафизика своеволия» (теперь уже переиздана). Если оставить в стороне славянофильские тенденции этого текста, то он содержал и вполне оправданные моменты. Имею в виду критику индивидуалистического субъективизма — в виде культа моих желаний, или в виде экзистенциалистской ориентации на собственный выбор.
Вопрос о том, находится ли экзистенциализм, по крайней мере в версии Сартра, всё ещё в русле традиционной философии сознания (так называемая «эгология») и содержит ли угрозу субъективизма, стал предметом обсуждения в западной философии. В частности, важно было выяснить, как экзистенциализм отвечает на спор между сторонниками субъективного и объективного понимания ценностей. То есть, ответить на вопрос, не предлагает ли экзистенциализм исключительно субъективное понимание ценностей. В моём архиве сохранились выдержки конца 60-х годов из статьи Веслава Громчиньского, опубликованной в журнале Studia filozoficzna, где автор, отвечая критикам, так объясняет позицию Сартра по проблеме личность-ценность: «Целью Сартра является не отрицание всяческих ценностей и норм, а выяснение субъектно-онтологических условий их существования. Распространённые ценности являются внешними для индивида, но эта внешность требует непрерывного их воспроизведения в моём сознании через акт свободного выбора. Сартр выступает против деления ценностей на общепринятые — «надындивидуальные» и ценности «субъективно-индивидуальные». Никогда ни одна ценность не может появиться «для меня» и существовать «для меня» вне конституирующей активности моего сознания».
Хайдеггер мог считать экзистенциализм поверхностным как раз вследствие его субъективизма. Он расширил критику «субъективизма» до критики интеллектуальных традиций и коллективных мировоззрений, виновных в «забвении бытия». Однако «поздний» Хайдеггер, исходя из тезиса о принципиальной неопределённости и временности бытия, даёт нам лишь ориентацию на открытость сознания, которая позволила бы бытию явиться «в его истине». Это важное предостережение против умозрительных конструкций, нацеленных на надёжное представление бытия — с целью расширения власти над познанными объектами! Но такая установка, в конечном счёте, означает упование на интуицию. Фактически его философия вообще не предлагает какой-то «установки». Мы видим сходство с даосизмом. Это возобновляет образ фаустовского человека: странника по чёрным тропам, без каких-либо вех на горизонте, которые бы обозначили направление движения. Одним из выводов из такой философии была деконструкция любых определённостей, что и стало одним из источников радикальной герменевтики Деррида.
В европейском общественно-политическом контексте критика просветительской «эгологии» (напр., в «негативной диалектике Адорно»), ставшая источником рациональных дискурсов дисциплинарных бюрократических практик, стимулировала студенческие движения конца 60-х годов. С явными анархистскими включениями. Европейские нации хорошо консолидированы, культурно и политически определены, а потому философия «неидентичности» (Адорно), инаковости, разнородности могла разве что смягчить дисциплинарные идеологии, не угрожая радикально подорвать «разумный» порядок. Украинская общественно-политическая и идеологическая ситуация 60-х годов (да и нынешняя тоже) принципиально иная. Бесспорно, что коммунистический тоталитаризм можно рассматривать как крайнюю форму той же «эгологии». Но лишённую даже тех элементов разумности, которые требовали лишь смягчения.
Аналитическая философия действия сосредоточена на анализе практического рассуждения — исследовании мотивов действия, средств успешного достижения цели и последствий действия. В аналитической философии выбор действия или образа жизни оценивается прежде всего с точки зрения последствий. Но при оценке этих последствий требуется учёт не только биологического выживания человеческого рода, но и обеспечения соответствующего качества жизни. Между тем значение термина «качество жизни» ценностно нагружено: оценка доброкачественной жизни зависит от жизненных идеалов. Являются ли такие идеалы вполне равноценными (этический релятивизм), или должны существовать универсальные основополагающие ценности? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно опираться на некую философию ценностей — как основу этики и сердцевину любой практической философии.
Итак, та логика личного и коллективного действия, о важности которой я упоминал ввиду выбора способа практического действия, должна была опираться на философию ценностей и философию личности, духовность которой должна рассматриваться в культурном контексте. Ситуативный контекст, в котором должно рассматриваться личное действие (а, следовательно, и коллективное), требует выяснения того, какой тип человека культивирует данная общественная среда. Учёт историко-общественного контекста позволяет найти ответ на вопрос, почему реальный человек, «обречённый на свободу», совершает выбор в пользу бегства от свободы.
* * *
Евгений Сверстюк: личность и абсолютные ценности. Мои эпизодические общения с Евгением Сверстюком приходятся на начало 70-х годов. Тогда он работал ответственным секретарём «Украинского ботанического журнала». Это было хоть какое-то пристанище, предоставленное ему благодаря академику Дмитрию Зерову после увольнения с должности научного сотрудника в Институте психологии в 1965-м. Очевидны совпадения наших философских предпочтений. Если оценивать их с точки зрения выбора философских дисциплин — логика и психология (Евгений в 1952-м году окончил отделение логики и психологии Львовского университета). Но от психологии Сверстюк перешёл к литературоведению и литературной критике. Сделав эту критику философской.
Очевидна принадлежность философской эссеистики Сверстюка к направлению, которое обозначают выражением «философия сердца». Из ранних произведений об этом Сверстюк отчётливо сказал в «Последней слезе». Отвечая на вопрос, какое «литературоведение» способно обеспечить понимание поэзии Шевченко, он отрицал плодотворность «сухого рационализма» и эмпирического реализма («правды фактов») в достижении этой цели. С точки зрения семантики текстов философская эссеистика Сверстюка явно лежит в русле «ментализма», который в XX в. получил поддержку со стороны феноменологии Гуссерля.
При этом носителем «эйдосов» или даже «гештальтов» в его текстах преимущественно выступает метафора. Она позволяет избегать обеднённой конструктивной семантики — в пользу «глубинной», укоренённой в «генеалогии» явления, исторической или психологической. Всё же в оценке стиля Сверстюка важно учитывать также прагматический аспект. Автору было важно сказать вовремя, на языке, понятном как можно более широкому кругу читателей и таком, который повлиял бы на мотивации — побудил людей к деятельному ответу. На уровне поступка. Его тексты написаны в ситуации, когда появилась возможность сказать спасительное слово. Важно было чётко обозначить важнейшие ориентиры.
Исключительная важность философской эссеистики Евгения Сверстюка как раз и заключается в очерчивании таких ориентиров. С моей точки зрения, сердцевиной философского мышления Сверстюка является философия ценностей (Сверстюк предпочитает термин «вартість» [стоимость, ценность — прим.]). С акцентом на проблеме человек — ценность. Его эссеистика даёт нам определённую концепцию моральной философии (в меньшей степени «философии морали»). Поскольку же Библия признаётся им как важнейший источник основополагающих моральных ценностей, то имеем дело с морально-религиозной философией.
Вертикальной иерархии ценностей соответствует философия человека Сверстюка, пусть и вкратце очерченная. В ней бытие ценностей рассматривается в пространстве души. Здесь мы видим попытки указать на источники духовности человека в виде его врождённой установки вслушиваться в «весть», сопровождающую наш поступок и называемую «совестью». Эту врождённую установку можно понимать теософски — как дар Творца слышать и понимать такую «весть». Или же рационалистически как нацеленность человека — как существа «эксцентричного», «обречённого на свободу» (Сартр) — на слово (Хомский), а, шире, на культуру (Гелнер). Потребность в ценности, по мнению Сартра, обусловлена «обречённостью на свободу». «Собор в лесах» начинается разговором о человеке, который «хватается за клочок тёплой земли и высокого неба, чтобы ощутить точку опоры».
Но сам по себе акцент на свободе (как возможности выбора), и даже на ответственности за выбор, ещё не отвечает на вопрос, как сделать лучший выбор. Отказ от свободы и ответственности — это тоже возможный выбор. Человеку открыты любые пути — и к добру, и к злу, в том числе к самоуничтожению, духовному и физическому. Биологически и психически человек содержит также предпосылки своей духовной деградации. С этой точки зрения понятно, почему автор «Собора» ставит под вопрос значение этого человека: «значит ли он хотя бы столько, чтобы усилием собственного разума и воли остановиться перед пропастью?».
Врождённая установка человека на «весть», на слово, на культуру является лишь предпосылкой доброго выбора. И в этом контексте понятен акцент Сверстюка на культуре как носителе смыслов (пониманий) и ценностей. На культуре со всеми её составляющими — этнокультуре, религии, профессиональной и интеллектуальной культуре. Передача культурных достижений от поколения к поколению (традиция) является основой сохранения качества жизни. В этом акценте на традиции Сверстюк выходит за рамки экзистенциализма и индивидуалистического либерализма. Это важно иметь в виду. Ибо это побуждает Сверстюка рассматривать бытие культуры в реальной общественной среде. А это направление социальной и культурной антропологии.
Герменевтический аспект отношения личности к традиции, без явной ссылки на герменевтику, важен в мышлении Сверстюка. Личность способна опираться на традицию, осуществляя интерпретацию культурных достижений. Но субъективный акт понимания и принятия переданных смыслов и ценностей заключается в открытости человека к их «зову». Духовные ценности в самом своём содержании несут основу для их признания. Они являются объективными или «внутренними» потому, что субъективность, чувствительная к их «зову», принимает одновременно их объективность. И даже абсолютность. После цитаты из Экзюпери, который говорит о «восстановлении» ЧЕЛОВЕКА, на поставленный Автором вопрос, с чего начать, следует ответ: «Начать нужно с правды». «Дух истины» является важной предпосылкой постижения любых пониманий и ценностей — в противовес их ложным заменителям.
Реальная общественная среда может культивировать человека, субъективность которого оказывается в плену инстинктов, личных и групповых интересов и разного рода стереотипов. То есть склеротических образований, которые делают человека закрытым, «глухим» к смыслам и ценностям. Объяснение природы идеологий и психоанализ в XX в. осветил власть над людьми таких образований. Закрытость к смыслам, которые несёт в себе слово, Сверстюк в наибольшей степени подчеркнул на примере понимания поэзии Шевченко. Неудивительно, следовательно, что он сосредотачивается на том, какой тип человека создаёт данная общественная среда. Он подчёркивает это со ссылкой на Сент-Экзюпери: «важнее всего знать, какой тип человека создаётся тем строем».
В любом обществе — а особенно в обществе, где государство культивирует человека, нечувствительного к подлинным смыслам и ценностям, — основное бремя обязанности сохранять эту «чувствительность» ложится на культурную элиту, на «писателя». Именно поэтому государство, живущее во зле, стремится уничтожить свободное слово как важнейшую предпосылку бытия правды в обществе. В ситуации 60-х – 80-х годов становится важной роль личности («Дон Кихота»), которая Гамлетово «быть или не быть» держит на кончике своей шпаги. Этой шпагой являются слово и поступок. Невозможно сохранять открытость человека к пониманиям и ценностям без демонтажа тех фальшивых заменителей, которые продуцирует данная общественная среда. В «Соборе» Сверстюка одним из создателей таких заменителей является Лобода — человек-функция, который «ни перед чем не останавливается: перед чем останавливаться, когда всё можно свести на нет лживым словом?» Попутно Сверстюк указывает на утрату той мудрости, которая содержала опыт распознавания «ненастоящих» людей в традиционной сельской культуре.
Особая важность его эссеистики 60-х годов заключается в том, что в то время он предложил перспективную философию сочетания партикулярного (личной и национально-культурной идентичности) со всечеловеческим (универсальным). Избегая конкретизаций и уточнений, этот взгляд можно выразить так: абсолютизация универсального, противопоставленного партикулярному (личному, национальному), является, как правило, скрытой формой партикуляризма; а абсолютизация партикулярного, противопоставленного универсальному, ослабляет партикулярное.
Что вызвало ту духовную ситуацию, которая побуждает называть украинского человека «потерянным» или «растерянным» — прежде всего в самом себе, а уже потом в мирах, не только географически обозначенных? Каков затаённый и самый важный источник того блуждания, что побуждает миллионы украинцев к отречению от своей культурной самобытности? Какая сила стоит за этой лёгкостью самоотречения, за этим безволием, которое провоцирует сильного соседа удерживать украинцев в «братских» объятиях? Сверстюк не пренебрегает геополитическими факторами в объяснении этого порабощения. Но роль этих факторов не является решающей: любая нация утверждала себя не по воле соседей, а собственной волей и действием. На поиски внутренних первопричин порабощённости и сосредоточено его мышление. Найти первоисточники духовной болезни труднее всего: «Создать картину духовности в современной Украине трудно не только из-за недостатка её ярких выражений, но и из-за недостатка информации. Сам образ духовной жизни тускл и невыразителен: почти нигде она не выступает в полноте и развитых формах — даже в первой колыбели духовности». При таких предпосылках топография украинской духовности должна включать выделение знаковых явлений из того потока, который затеняет их смысл.
Источник украинской культурно-национальной идентичности Сверстюк видит в сочетании трёх важнейших составляющих — народной культуры, христианства и профессиональной культуры. В профессиональной культуре особое значение в этом отношении он придаёт Сковороде и Шевченко. Сверстюк отрицает лишь поверхностные заимствования из чужих культур – «великих слів велику силу». Между тем его философия только подтверждает принадлежность украинской культурной идентичности к семейству культур, объединённых в широком русле западной цивилизации. Акцент на самобытности украинской культурной традиции и на христианстве как важной составляющей этой самобытности не приобретает у Сверстюка черт религиозного или национального фундаментализма. Если слово «фундаментализм» не использовать как идеологическое средство, направленное на подрыв культурной самобытности. Ведь личность и нация у Евгения Сверстюка — не закрытые в себе монады, а имеющие множество окон, благодаря которым они перекликаются между собой и потому способны в этой перекличке создавать одновременно и национальную, и всечеловеческую соборность.
Этот сжатый и неизбежно упрощённый очерк можно завершить замечанием о том, что из трёх опорных терминов в философии Сверстюка — ценность-личность-социальная среда — вокруг личности сосредоточено поле напряжения. Ведь сознание личности (субъективность) и её действие являются залогом бытия основополагающих ценностей в данном обществе. Метафора, являющаяся ключом для понимания философии и личности Сверстюка, — это фигура, которая одной рукой указывает на «небо», а в другой держит шпагу. Шпагу, нацеленную на те чучела, которые претендуют заменить подлинные понимания и ценности. Сверстюк всегда держит наготове свой обоюдоострый меч — слово и поступок.
Но помимо того, перспектива продолжения этого направления мышления заключается в сосредоточении внимания как раз на участках напряжений: личность-ценность-Бог; личность и сообщество (общество). Один из вспомогательных подходов к пониманию творчества Евгения Сверстюка — сопоставление его философских интенций с западным философским неоконсерватизмом. Речь идёт не о заимствовании, а о перекличках: западный общественно-политический и культурный контекст существенно отличен от украинского. Фактически Сверстюк разработал версию украинского либерального консерватизма, в котором ценность личности (личного самоопределения) находится в драматическом взаимодействии с общественной средой, в большой мере утратившей духовную основу своей жизни. Полезным в этом может быть сравнение его акцента на ценностях и традициях со статьёй Фрэнка Мейера «Свобода, традиция, консерватизм», опубликованной в конце 60-х.
* * *
Философия и поэзия. Пожалуй, только после отказа от идеи о единственно возможном научном стиле философской речи у меня мог появиться замысел написать ряд эссе о горизонтах мировосприятия и миропонимания украинской поэзии XX в. Я не планировал писать их, используя аналитический подход, а хотел предложить субъективно-личное «прочтение» стихов. Начал с Богдана-Игоря Антонича, хотя какие-то предварительные заметки набрасывал также о поэзии шестидесятников. Когда, как мне казалось, я закончил статью, то попросил Ивана Светличного, чтобы он прочёл её и высказал своё впечатление. Для меня много значил его отзыв.
Со Светличным я общался только от случая к случаю. Передал ему свою статью, видимо, в конце 1971-го года. Помню, что он устно высказал свои замечания. В обычной для него очень толерантной манере. Таким был стиль его работы с литературной молодёжью — лелеять, поддерживать, проявляя терпение, чтобы не подорвать веру автора в свои силы. Оказалось, что он усеял мой текст замечаниями (надписями над строками), но я увидел их более чем через десяток лет. Когда произошли аресты в январе 72-го года, было не до поэзии. Лёля Светличная передала мне этот текст уже после возвращения из заключения.
Я его доработал (был опубликован в альманахе «Генеза» за 94-й год). Думаю, что статья содержит совпадения с некоторыми мировоззренческими ориентациями, очерченными Сверстюком («Собор в лесах») — в частности, в понимании таких проблем, как личность и ценность, соборность всечеловеческая и национальная и т. д.
Глава VII. Распространение самиздата. Выход из «подполья»
1. Размножение и распространение самиздата
К тому, что до сих пор говорил при случае о распространении самиздата, делаю это существенное добавление. Не буду давать общего списка самиздатовских произведений, которые распространялись в 60-е годы (см., например, книгу Георгия Касьянова «Несогласные…» и другие исследования). В Приговоре по «Уголовному делу Пронюка, Лисового, Овсиенко» перечислена большая часть тех текстов, которые мы распространяли. Что касается меня, то без внимания КГБ осталась значительная часть моей деятельности, связанной с размножением самиздата. Это касается перепечатки на машинке текстов во время своего пребывания на Курсах повышения квалификации в КГУ в 1965 году, а также перепечатки различных сообщений и заявлений из лагерей, которые передавала мне Надия Светличная, размножения текстов Николаем Хоменко в виде фотоотпечатков и т. п. Среди читателей самиздата наибольшим спросом тогда пользовались «Интернационализм или русификация?» Ивана Дзюбы, «Воссоединение или присоединение?» Михаила Брайчевского, «Горе от ума» Вячеслава Черновола, произведения «Собор в лесах», «Иван Котляревский смеётся» Евгения Сверстюка, «Бельмо» Михаила Осадчего, статьи Валентина Мороза. Особое место принадлежит пяти номерам «Украинского вестника». И разного рода небольшим текстам — «По поводу процесса над Погружальским» и т. д. Из диаспорных изданий распространялись в оригинале (без копирования, насколько мне известно) «Современная украинская литература» Ивана Кошеливца и книга Богдана Кравцива «На багряном коне революции». По крайней мере эти две книги я читал (вторая из названных дала мне первое систематизированное представление об уничтожении целых направлений украинской культурной и литературной жизни). Из российского самиздата — «Размышления о прогрессе» Сахарова, «Технология власти» Авторханова, роман Солженицына «Раковый корпус» (позже — «В круге первом»), отдельные статьи, например, «Письмо Раскольникова к Сталину» и т. п.
Я имел существенные преимущества для организации размножения и распространения самиздата в Киеве. Прежде всего потому, что окончил именно Киевский университет, который так или иначе притягивал к себе моих студенческих друзей и знакомых. Это был важный источник контактов в мои аспирантские годы и на протяжении нескольких лет моего сотрудничества в Институте философии. Кроме того, и это не менее важно: у меня были родственники и знакомые вследствие переселения в Киев людей из ближних сёл. После женитьбы на Вере Грищенко много значила её поддержка и её друзей-земляков. Здесь не буду описывать все эпизоды, в которых родные и друзья-земляки помогали (о некоторых упомяну далее).
Попутно замечу следующее. Когда я был старшеклассником, моя двоюродная сестра Галина, дочь дяди Антона, вышла замуж за бойца УПА, которому после заключения не позволили вернуться в Западную Украину. Валерий в мои студенческие годы не заговаривал со мной о национальных вопросах. Но когда я уже был сотрудником Института философии, то легко нашёл общий язык с его старшим сыном, который в то время работал в Киеве: в одной из ситуаций он хранил какие-то самиздатовские материалы. Валерий умер в 80-е годы, когда я вернулся из заключения. Незадолго до смерти я навестил его. И мне запомнилось, с какой выстраданностью он сказал: «Да, мы же боролись за то же самое, что и вы». Я его заверил, что это бесспорно так. Думаю, ему важен был этот знак солидарности — ввиду насмешек со стороны тех моих односельчан, которым слово «бандеровец» уже не напоминало ярлыка «петлюровец», применявшегося к их дедам и отцам.
* * *
К сожалению, хороших технических средств для копирования материалов не было. Та же многострадальная пишущая машинка и изготовление фотокопий. Мечтали о более мощных технических средствах. С Евгением Пронюком обсуждали идею создания небольшой типографии. Начали думать и искать что-то нужное для этого. Евгений как-то сообщил, что есть возможность достать шрифт: его должен был передать мне Андрей Коробань. Здесь я должен сделать уточнение: в документе, отрывок из которого привожу ниже, сказано, что шрифт мне передал не Коробань, с которым у меня была встреча по этому делу, а Василий Семенюк по поручению Коробаня. Однако, когда позже я осмотрел свой свинцовый груз, был разочарован: это были какие-то отходы типографского шрифта. Но мне нужно было его временно спрятать. Согласился Александр Погорелый, который тогда преподавал философию в Институте гражданской авиации («ГВФ»). Когда я заходил в дом (на ул. Гарматной), то меня случайно увидел его коллега, заведующий кафедрой философии этого Института Е. Жариков; заодно он заметил человека, который следил за мной. По словам Погорелого, Жариков сообщил ему об этом, так что мне нужно было немедленно забирать свой «груз». Не помню, куда я, в конце концов, его сбыл, потому что убедился, что из этого ничего не сделаешь. В информационном сообщении В. Федорчука в адрес В. Щербицкого от 19 июня 1972 года, в котором говорится о том, что «отдельные сотрудники Института философии АН УССР допускают враждебные и идеологически вредные действия», об этом эпизоде сказано так: «ЛИСОВОЙ в поле зрения органов КГБ попал в марте 1969 года, когда он с соблюдением конспирации встретился с СЕМЕНЮКОМ Василием Яковлевичем, 1936 года рождения, уроженцем Житомирской области, украинцем, беспартийным, ст. инженером завода "Радиоприбор", взял у него предмет, по внешнему виду похожий на пишущую машинку, и отнес его на квартиру ПОГОРЕЛОГО А.И., работающего в настоящее время в аппарате ЦК КП Украины. В ходе проверки ПРОНЮКА и ЛИСОВОГО получены оперативные данные о том, что они периодически встречаются с ПОГОРЕЛЫМ. Характер этих встреч неизвестен.
О СЕМЕНЮКЕ известно, что он в 1965 году по месту работы допускал националистические высказывания, размножал и распространял документы "самиздата", в связи с чем в 1966 году был профилактирован. Оставаясь на прежних позициях, СЕМЕНЮК в 1967 году установил связь с КОРОБАНЕМ и оказывал ему содействие в оборудовании кустарной типографии для размножения антисоветских и идейно вредных документов».
Были и другие попытки. Евгений Пронюк как-то сказал, что у него есть знакомые галичане, которые (после окончания Львовского полиграфического института) работали в Киеве на каком-то из предприятий. Я встретился с двумя юношами, чтобы узнать, как они видят практическую сторону этого дела. Они отвергли вариант изготовления станка со шрифтом (это непрактично), говорили о принципиально новых средствах размножения. Речь шла, по-видимому, об аппарате типа ксерокса. Замысел так и не был осуществлён — помешали аресты 1972 года.
Но помимо того немало мороки доставляло перемещение машинок и замена шрифта, который, как мы предполагали, может быть идентифицирован КГБ (поскольку изготовленные тексты могли уже попасть в их руки). Однажды я попробовал сам заменить шрифт, предполагая, что операция простая. Из этого у меня ничего не вышло: новый шрифт не вставлялся как следует. Перемещение машинок было делом ответственным и трудоёмким. С этим связаны отдельные интересные эпизоды нашего «подполья». Часто, по договорённости с Евгением, должен был встречаться с незнакомыми людьми, договариваться о каком-то пароле. Помню одну из таких встреч в аспирантские годы в саду Политехнического института с Сергеем Кудрей (тогда его не знал, теперь сотрудник Института философии).
* * *
Надия Светличная. Во время последней встречи с Надей в Киеве (так мы её все называли в более узком кругу) мы уточнили время нашего сотрудничества в перепечатке материалов, которые удавалось доставать из лагерей (сошлись на том, что это был 1967-й год). Помню, что это было летом. Надю я хоть и знал, но сознательно избегал с ней общаться, приберегая это для особых случаев. Ко мне обратился Пронюк с просьбой, чтобы я помог ей в перепечатке таких текстов — обращений, заявлений, писем и т. п. (от Лукьяненко, Кандыбы, Горыней и др.). Предварительно я переговорил со своими родственниками (с сыном тёти Василисы Иваном и его женой Тамарой), чтобы поработать на их квартире (на уже упоминавшейся ул. Немировича-Данченко). Машинку для этого мне передали.
Встречался с Надей так, чтобы исключить возможность «хвоста». Забирал у неё листы самого разнообразного формата, написанные в лагерях: мне до сих пор памятны и дороги те листы, написанные впопыхах, карандашами, иногда мелко и неразборчиво, на клочках бумаги разного формата. Нелегко было им преодолеть препятствия, чтобы оказаться здесь, в одной из киевских квартир. При перепечатке материалов соблюдал технику безопасности: надевал резиновые перчатки, чтобы не оставить отпечатков пальцев (копирка!). Мне запомнились из числа разных заявлений и сообщений об условиях жизни в лагерях жалобы на вероятное применение психотропных средств. Речь шла об особых физических и психических состояниях, которые в некоторых из писем объяснялись как наступающие после употребления пищи. Я ещё вернусь к этому со своим собственным опытом пребывания в заключении и в связи с обсуждением этого вопроса с некоторыми из бывших политзаключённых.
* * *
Николай Хоменко. Достойный особого внимания человек, который, благодаря своему жертвенному труду, изготовил десятки фотокопий книг «Интернационализм или русификация?», «Воссоединение или присоединение?», «Портреты двадцати преступников» и других менее объёмных материалов. Это был Николай Хоменко, родом из села Зеленьки на Киевщине (Кагарлыкский район). История его семьи типична. Семеро сестёр и братьев отца Николая умерли во время голодовки 33 года (один из братьев умер, съев свежего хлеба нового урожая). Отец Николая погиб «смертью храбрых» на войне. Николай окончил Белоцерковское медучилище. После его окончания работал в течение некоторого времени в Старобезрадичевском медпункте. Тогда я с ним и познакомился, потому что обращался к нему в связи с болезнью своей матери. Во время моей учёбы в аспирантуре он работал рентгенологом в Кагарлыке. Тогда он и согласился изготавливать фотокопии. Работал преимущественно поздно вечером и ночью, в помещении больницы, когда все расходились. Имел среди врачей друзей, которым мог доверять. Василий Овсиенко вспоминает, что встречался с кем-то из его врачей-друзей в Кагарлыке.
В моей памяти сотрудничество с Николаем в наибольшей степени напоминает мне подпольную деятельность. Работая в университетской библиотеке для научных работников, я держал самиздатовские материалы в портфеле под столом. Старался никогда не оставлять портфель с материалами, когда выходил из читального зала. На столе оставались мои книги и тетради. Когда нужно было передать кому-то материалы, брал портфель или свёрток и передавал тексты в коридорах корпуса или же выходил на улицу.
Встречи с Николаем всегда происходили по одному и тому же сценарию. В соответствии с договорённостью во время предыдущей встречи, я должен был рассчитать время так, чтобы, оставив на столе в читальном зале свои бумаги, проехать на троллейбусе до Владимиро-Лыбедской (до старого Владимирского рынка) и, свернув с Красноармейской направо (по Лыбедской вниз), сесть на автобус, идущий в направлении Обухова. Выходил преимущественно на первой остановке в Козине; там редко кто выходил. Николай либо уже ждал меня у дороги в лесу, либо же, наоборот, я ждал его. Потом каждый из нас возвращался очередным обратным автобусом. Через некоторое время я появлялся в читальном зале и садился за свой стол. Так продолжалось, пожалуй, где-то в течение 1968 — 1971 годов. Николаю я должен был покупать только фотобумагу.
Потом он женился на Нине, удивительно добром человеке, ставшем его верным другом (он познакомился с ней в нашей тогдашней однокомнатной квартире на Дарницком бульваре). У них родилось две дочери — Мирослава и Роксолана. Николай страдал сердечной болезнью, умер молодым, уже после моего возвращения из ссылки в Киев.
* * *
С распространением самиздата связано много эпизодов, иногда комических. Особенностью моего поведения — свойственной вообще людям, сосредоточенным на идеях и образах — было и есть «выпадение» из окружения вследствие самоуглубления. Пока не возникает потребность сосредоточить внимание на среде, в которой нахожусь. Едучи в транспорте, я переключаюсь на свои мысли, а потому и до сих пор нередко пропускаю свою остановку. Если у меня в каких-то случаях был «хвост», то это могло производить впечатление сознательного «плутания». Но поскольку я не всегда вовремя переключал своё внимание, это могло обернуться нежелательными последствиями.
Однажды я договорился с Аллой Климаш, что на одной из автобусных остановок она передаст мне сумку с самиздатовскими материалами (которые хранились в течение некоторого времени у её знакомых). Перед встречей у меня с собой был только мой вместительный («профессорский») кожаный жёлтый портфель. Мой трудяга. Когда я забрал у Аллы сумку и мы распрощались, то остановил случайный автобус с надписью «Аэрофлот». Но «память мышц» вместе, видимо, с перемещением подсознательного внимания на более опасный груз, сработали так, что я оставил свой портфель в автобусе. В портфеле не было самиздата, но в нём была одна или две записки, которые заменяли тогда устную речь, чтобы избежать подслушивания. Почему я их не уничтожил сразу, не помню. Всё же через неделю или две мне удалось разыскать тот автобус и вернуть портфель. Записки были на месте. Перечитав их, я успокоился — из них было трудно что-либо понять.
Другой случай произошёл в междугородном переговорном телефонном пункте на тогдашней ул. Ленина, вблизи Оперного театра. Я зашёл с кем-то из друзей с портфелем, наполненным самиздатовскими материалами. Зайдя в кабину, положил его на скамью так, чтобы видеть его. Перед этим заметил мужчину, высокого, худого, лет за тридцать, который ничего «не замечал», заглядывал в верхние углы помещения. Это было уже слишком, его «рассеянность» была подозрительной. Так что я уже не спускал глаз со своего портфеля. Когда же тот мужчина схватил его, произнёс «уже». Успел схватить за ручку портфеля, когда мужик уже был в первых дверях, пристроенных у входных. Это был самый рискованный эпизод в уличных приключениях с самиздатом.
* * *
Иван Драч. Одна из проблем, связанная с распространением самиздата, была наша бедность: нехватка средств на самое необходимое — хотя бы на ту же фотобумагу. Зарплаты молодых научных сотрудников были низкими. Думая над тем, кто бы мог помочь, решил обратиться к Ивану Драчу. Между тем мне было интересно поговорить с ним, поскольку размышлял тогда над его поэзией в связи с написанием своих эссе. Позвонил ему, договорились о встрече. Помню свой разговор с ним в Мариинском парке, делился своими планами по распространению самиздата. Он благосклонно отнёсся к моему энтузиазму. А между тем выразил сожаление, что я не захватил с собой какие-нибудь самиздатовские тексты. Это было неожиданностью для меня: думал, что в писательской среде должны быть активисты его распространения. Пожалуй, я преувеличивал размах распространения. Драч без колебаний согласился помочь, дал 100 руб. — почти целую мою зарплату. Но этот случай относится к исключениям: к тем, у кого были большие зарплаты, обращаться было безнадёжно. Было у меня, помню, ещё два визита на квартиру Драча (в доме напротив пл. Славы), видимо, уже по какому-то другому поводу.
* * *
Нестор Бучак, Борис Попруга, Михаил Григорович. Названные здесь лица были регулярными «потребителями» самиздата. И брали его не для того, чтобы прочитать и вернуть, а для распространения. Нестор Бучак был студентом Тернопольского медицинского института, когда я преподавал в нём. Запомнился мне своей утончённой интеллигентностью и тактичностью. Тогдашнее общение положило начало нашим дружеским отношениям. После окончания института поступил в аспирантуру Киевского медицинского института, проживал в общежитии на Владимирской горке. Я встречался с ним регулярно, часто у арки (которая вела во двор, где было расположено общежитие). Он брал у меня и распространял самиздатовскую литературу где-то, пожалуй, в течение двух лет.
Борис Попруга, родом с Полтавщины. Окончил философский факультет Киевского университета (мой однокурсник), аспирантуру при Киевском университете (1964 — 1967), работал преподавателем философии во Львовском политехническом институте (1967 — 1988). Был мэром города Кобеляки (1994 — 1998). Один из тех, кто в 60-е годы имел склонность к острым спорам в городской толпе: не мог удержаться, чтобы не ввязаться в спор на улицах со случайными прохожими или в транспорте. Поскольку в разговоре не соблюдал никаких предосторожностей (говорил то, что думал), то шокировал своих случайных слушателей своими необычными оценками. В частности, высокой оценкой борьбы УПА и заявлениями, что Бандера является героем Украины. Я говорил ему, что такие эпизодические и скандальные споры легко могут обернуться для него тем, что он вообще ничего не сможет делать. И советовал направить энергию на определённый круг людей, распространяя среди них самиздатовскую литературу. Может, мои слова на него и вправду подействовали. Во всяком случае, он стал одним из постоянных «потребителей» самиздата. Заходил в читальный зал для научных работников, я брал из-под стола свой портфель, мы садились на какую-нибудь из скамеек в сквере бульвара Шевченко; во время разговора, выбирая какой-то момент, я перекладывал материалы в его портфель.
Михаил Григорович, географ по образованию, работал в Совете по изучению производительных сил Украины, занимался экономической географией — размещением хозяйственных объектов в Украине. Болезненные проблемы, если учесть роль политических факторов в этом размещении. Теперь они общеизвестны (из истории экономики). Михаил регулярно брал и распространял самиздатовские материалы.
Замечу, что в каждом случае я не расспрашивал и не знал (за отдельными исключениями), кому именно передавались материалы. Большинство из них не возвращались ко мне.
2. Аресты 72-го: выход из «подполья».
Вера. После защиты кандидатской диссертации и женитьбы моя личная жизнь, казалось, могла наконец войти в более спокойное и устоявшееся русло. Как и жизнь Веры. Её студенческие годы были труднее, чем мои. Она, как и я, принадлежала к сельской молодёжи, которая прибывала в города в поисках храма образования и культуры. Но, окончив школу в 1954 году, она не смогла поступить на стационар, а только на заочное отделение филологического факультета Киевского университета (отделение украинского языка и литературы). А потому вынуждена была работать, жить по «углам», иногда в подвалах, питаться и одеваться как можно скромнее. Но посещала лекции-концерты в филармонии, музеи и театры, покупала книги. Работала сначала (1954 – 57) на Киевском мотоциклетном заводе (более двух лет токарем, затем табельщицей), далее год пионервожатой (в школе №24), наконец, счётчиком и бухгалтером (в строительно-монтажном управлении (1958-62). Совмещать труд и учёбу, особенно для старательных студентов, нелегко, но она окончила Киевский университет в 1961 году.
В 1962 году ей представился случай устроиться лаборанткой в УНИИП (Научно-исследовательский институт педагогики УССР). Это было, может быть, лучшее начало – для неё, считавшей преподавание своим призванием. К тому же можно было совмещать работу в Институте с преподаванием. В том же 1962-м она начала преподавать украинскую литературу в вечерней Школе рабочей молодёжи (№40, по ул. Строителей): тогда в таких школах были только 8 – 10 классы. А с 1965 по 1969 год преподавала украинскую литературу в дневной русской школе (№168, расположенной на улице Тампере). Но, по её словам, именно в УНИИП она смогла наверстать своё университетское образование, чтобы достичь должного уровня в своей преподавательской работе. Прежде всего благодаря литературе, ставшей ей доступной, включая и некоторые тексты, хранившиеся только в «спецхранах» (так она прочитала недоступные тогда произведения Кулиша и др.). Кроме того, много значило общение, в частности с Тамарой Ивановной Цвелых – одной из самых образованных учёных-гуманитариев того времени.
УНИИП тогда имел богатую библиотеку, которая, к сожалению, уже в независимой Украине была распылена вследствие ликвидации Института. Это почти стандартная ситуация: когда сегодня слышу разговоры о реформировании НАН Украины, в частности гуманитарных институтов Академии, то с опаской думаю, чтобы этими разговорами не воспользовались «реформаторы» из когорты «политиков»-бизнесменов. Чтобы не только захватить помещения институтов НАН Украины, но и уничтожить основной элемент унаследованной инфраструктуры – архивы и библиотеки. Чтобы обновлённым способом продолжить дело, которое символизирует с этой точки зрения основное событие того времени, о котором повествую, – сожжение библиотеки АН.
Над УНИИП, этажом выше, располагались помещения Института психологии, сотрудником которого тогда был Евгений Сверстюк. К нему приходили тогдашние литераторы и интеллектуалы – Иван Драч, Иван Дзюба, Роман Корогодский и др. Евгений иногда заходил в УНИИП, чтобы взять какую-то литературу, так Вера и познакомилась с ним. Благодаря Евгению круг её общения расширился, а потому она смогла прочитать некоторые из произведений, распространявшихся тогда в самиздате. Вторым центром её общения и получения произведений самиздата был самодеятельный хор «Жаворонок»: им сначала руководил Молдаван (еврей по национальности), а затем Вадим Смогитель. Здесь, на собраниях хора, она познакомилась с живописцем Василием Парахиным, за которого впоследствии вышла замуж, но супружеская жизнь оказалась неудачной и завершилась разводом.
Из текстов самиздата, которые Вере посчастливилось прочитать, особенно большое впечатление на неё произвела неопубликованная часть статьи «Что такое прогресс» Франко, что, как она сегодня вспоминает, «перевернуло» её мировоззрение. Как-никак, предсказание Франко подтвердилось! Оно и до сих пор возвышается над заигрыванием интеллектуалов послевоенной Европы с марксизмом и даже коммунизмом, которое продолжалось ещё в 60-е (хотя публикация «Закрытого письма» Хрущёва подействовала на некоторых как холодный душ). Кроме того, для понимания тогдашнего состояния украинской культуры и литературы были важными для неё книги «На багряном коне революции» Богдана Кравцива и «Современная украинская литература» Ивана Кошеливца, которые также распространялись в самиздате.
Однажды, уже поздно вечером, когда она читала «Возрождение нации» Винниченко (книгу ей дал Сверстюк), в помещение отдела зашло начальство – директор, заместитель директора и О. Дзеверин – заведующий отделом истории педагогики, в котором она тогда работала. Заместитель директора Чепелев подошёл к Вере и, положив руку на раскрытую книгу, шутливо спросил: «А что Вера читает?». Но, к счастью, Вера не растерялась и, вытащив книгу из-под его руки, так же шутливо произнесла: «Тайна». Так избежала опасности. Но именно заместитель директора проявил внимание, спросив её попутно, где она живёт. Услышав в ответ «нигде», сказал, что она же преподаёт в школе, а для учителей есть общежития и что он напишет отношение, чтобы ей предоставили общежитие. Так и сделал, она поселилась в общежитие уже незадолго до его закрытия. Её уже не прописывали, но именно вследствие расселения она получила комнату в «коммуналке», на Дарницком бульваре, в которой мы с ней жили после нашей женитьбы. Ещё до нашей женитьбы Шинкарук предложил мне написать заявление на получение комнаты для научных работников. Но поскольку вопрос с женитьбой уже был решён, я отказался. Вместо того, чтобы воспользоваться случаем для улучшения наших жилищных условий (одна комната на нас двоих с маленьким ребёнком).
По словам Веры, в институте отношение к ней было доброжелательным: её не очень перегружали технической работой, ведь видели её в окружении книг, а потому надеялись, что из неё вырастет будущий учёный. Да она и вправду старалась оправдать такие надежды, уже сдала два кандидатских экзамена (из трёх необходимых) – иностранный язык и философию. Была согласована, хотя ещё и не утверждена, тема её будущей кандидатской диссертации – «Педагогические взгляды Б. Гринченко». Так что она составляла картотеку библиографии и начитывала литературу.
Но её перспектива будущего учёного была перечёркнута. Как и многих других творчески настроенных и духовно ориентированных девушек и юношей, подхваченных волной национального и гражданского пробуждения. Первой её «ошибкой», с точки зрения «системы», был взгляд на учителя не только как передатчика накопленных знаний, а как духовного наставника, обязанного, следовательно, пробуждать также уничтоженное режимом личное и национальное достоинство. Не хотел бы здесь предвосхищать, как это принято сегодня делать, что воспитание национального сознания в данном случае не означало культивирования враждебности к другим нациям или национальным меньшинствам. Ведь как раз те, кого тогда именовали «буржуазными националистами», и были защитниками прав национальных меньшинств и их культурной самобытности.
Это известный факт, который можно было бы и не упоминать, если бы современные проводники бывшего «интернационализма» (в новом риторическом его облачении) не «предпочитали» умалчивать об этом. Как и о том, что именно их идейные предшественники-«интернационалисты» уничтожали культурную самобытность украинского народа и национальных меньшинств. Они и сегодня стараются действовать в том же направлении, к тому же хорошо кем-то финансируются: одним из массы фактов является недавно начатое бесплатное распространение в Киеве (путём вбрасывания в почтовые ящики) – украинофобской газеты «Киевский вестник». Но нынешние политические изменения под прикрытием политической реформы могут подлить старого вина в новые мехи, найдя надёжную поддержку на уровне политической верхушки: об этом недвусмысленно сигнализируют украинофобские заявления всем известного Дмитрия Табачника, которые уже вызвали справедливые протесты.
Всё же и в тогдашних условиях, как я уже упоминал, можно было что-то делать, если не принадлежишь к совсем перепуганным и не соглашаешься затаиться, как мышонок в норе. Так что Вера в вечерней школе не только на уроках литературы стремилась пробудить в своих взрослых учениках чувство человеческого достоинства и национального сознания, но и организовывала литературные вечера. Они проводились в школьном зале, куда собирались все классы, как тогда было заведено. Как она сегодня вспоминает, Пётр Бойко, известный диктор и лектор по культуре речи, после своего выступления на одном из таких вечеров был окружён учениками, которые долго не отпускали его, засыпая вопросами. Вечера, посвящённые творчеству Шевченко, проводила по сценарию, написанному Сверстюком. В том же зале Евгений Сверстюк прочитал лекцию о творчестве Павла Грабовского.
Такого учительского стиля Вера придерживалась и в дневной русской школе. К тому же привлекала учеников посещать литературно-художественные вечера, которые организовывали шестидесятники. А также разного рода лекции и экскурсии: одну экскурсию по Киеву для группы её учеников провёл М. Брайчевский. Известно, что он был энтузиастом просветительской деятельности в 60-е годы: его публичные лекции и экскурсии были основным способом такой деятельности. Обучая учеников писать сочинения, Вера отвергла общепринятые трафареты, навязанные образовательной бюрократией; ввела вместо этого свободный способ изложения. Это позволяло школьникам дать волю своей творческой мысли и выражать своё собственное понимание. Иногда они выходили «за рамки», и нужно было оберегать их и себя от обвинений в идеологических извращениях.
Так что Вера жила интенсивной жизнью: работа в УНИИП, преподавание в школе, дважды в неделю посещение хора «Жаворонок», но помимо того самым интересным было для неё её участие в культурно-художественных мероприятиях, организованных шестидесятниками. Посещала некоторые из собраний Клуба творческой молодёжи (хотя и не была его членом). Запомнила вечер украинской молодой поэзии, который был, вследствие отказа предоставить заранее оговоренное помещение, проведён в парке на Нивках. На вечер пришло много людей. Вера пришла с двумя своими ученицами. Вёл вечер Василий Стус, его «кагэбисты» пробовали уговорить, чтобы прекратил предоставлять слово, он не поддавался. Прозвучал возглас о «бандеровском языке», но Дзюба призвал не поддаваться на провокации. Запомнился также литературный вечер, посвящённый Лесе Украинке, проведённый в тогдашнем Первомайском парке (напротив здания Верховной Рады). В её воображении и сейчас возникает картина людей с факелами, страстное чтение стихов Николаем Винграновским и Татьяной Цимбал. Запомнился также вечер, посвящённый годовщине смерти Василия Симоненко. Посетила Вера также одно из собраний-дискуссий украинских интеллектуалов у Аллы Горской (на ул. Терещенковской), а также собрание в мастерской Аллы.
Впрочем, непосредственной причиной её увольнения из УНИИП, приказом директора академика Русько в июле 64-го года, было присутствие Веры, в составе хора «Жаворонок», у памятника Шевченко 22 мая. Когда Русько вызвал Веру на «разговор» и она сказала об отсутствии каких-либо претензий к её работе, он ей сообщил, что основанием для увольнения является отсутствие у неё киевской прописки (была прописана в Броварах). Увольнение вызвало удивление или даже возмущение среди сотрудников отдела истории педагогики. Они пошли к директору, чтобы объяснил им ситуацию. Вернулись подавленные, потому что директор не изменил своего решения. Тем временем Дзеверин подошёл к Вере и сказал, что хочет выйти с ней из Института и, провожая её, объяснил, что дело не в прописке: всех руководителей учреждений вызывали «на ковёр», дали им список присутствовавших у памятника Шевченко, чтобы искали своих и увольняли их. Когда Вера сказала, что она по крайней мере останется работать в школе, Дзеверин в ответ заметил, что, в связи с этой ситуацией, и это для неё может быть закрыто. Русько сказал, что не хочет из-за Веры «положить свой партбилет».
Всё же её не уволили с должности учителя в вечерней школе, а также в упомянутой русской школе, в которой она проработала до конца лета 1969-го года. Но в этой школе предыдущая история повторилась в другом варианте. Летом, во время отпуска, она была вызвана на разговор с «треугольником» (парторг и профорг школы и второй секретарь Дарницкого райкома партии). Вторым секретарём Дарницкого райкома партии была Калиничева Людмила Ивановна, которая, как впоследствии Вера убедилась, была человеком умным и доброжелательным. Но в разговоре ей были высказаны обвинения, что она на уроках позволяет себе «националистические уклоны». А в августе накануне обычной районной конференции учителей было ожидание (говорили в кулуарах), что второй секретарь райкома в своём выступлении затронет вопрос идеологических «отклонений» в 168-й школе: имели в виду «украинский буржуазный национализм» и сионизм.
Было ясно, что объектом критики станет Вера и еврейка Белла Биндер, которая прекрасно преподавала русскую литературу. Поскольку они были подругами, то это могло служить наглядным подтверждением союза украинского буржуазного национализма с сионизмом. Белла была национально сознательной еврейкой, имела хорошее образование, занималась психологией, хотела окончить аспирантуру, но двери в аспирантуру ей надёжно закрыли навсегда. Так что на конференции, в ожидании обвинений, Вера и Белла советовались, как им защищаться. Белла настаивала, что она будет говорить в защиту Веры, потому что «ты так о себе не скажешь, как я могу сказать». Но Калиничева в своём выступлении обошла идеологические вопросы. Всё же общая атмосфера в школе изменилась: было ясно, что грядут различные проверки. К тому же Вера чувствовала себя нервно истощённой. Поэтому она написала заявление на увольнение. Это увольнение подавленно восприняли национально сознательные ученики, в том числе евреи. Такие ученики потом не забывали свою учительницу, чтобы её хотя бы при случае поддержать на нелёгкой жизненной дороге.
Около года работала корректором в издательстве «Искусство», а затем устроилась младшим редактором в издательстве «Наукова думка». Но здесь снова столкнулась с конфликтом, сначала вследствие написания критической рецензии на книгу «Казак Мамарыга» (рецензия была опубликована в «Литературной газете», тогдашнее название «Литературной Украины») и после отправки рецензии в Комитет по делам печати (эта книга теперь переиздана с некоторыми редакционными поправками). Но далее к этому эпизоду добавилось ещё написание Верой отрицательного редвывода на сборник юбилейных речей, посвящённых Лесе Украинке. Так что в октябре 71-го года ей предложили написать заявление на увольнение: не тот образ мыслей. Например, отрицает, что Леся Украинка «вторила» своими «Предрассветными огнями» «Песне о Буревестнике» Горького. И тому подобное.
Но на этот раз ей снова улыбнулась судьба, подбросив возможность осуществить свою прежнюю мечту: она во второй раз оказывается в стенах УНИИП, ей даже пообещали перевести на должность младшего научного сотрудника, как только появится возможность. Временно же зачислили лаборанткой. Она снова могла общаться с Тамарой Ивановной Цвелых. Можно всё наверстать. Но мой протест против арестов подсекает эту новую возможность. И это уже окончательно.
Перед вами типичная биография, если пренебречь подробностями, участницы тогдашнего движения сопротивления, которая не принадлежала к числу ведущих деятельниц этого движения, но без которых не было бы самого движения. К тому же активность Веры в защите меня после заключения, её важная роль в деятельности Фонда Солженицына в Украине и, наконец, её решение переехать с детьми ко мне в ссылку, чтобы отбыть её до «истечения срока», являются важными дополнениями к сказанному здесь.
* * *
Всё же, если шире взглянуть на период середины 60-х годов, то, как я уже отмечал, партийная бюрократия в процессе осуществления так называемой «десталинизации» столкнулась с альтернативой. Эта альтернатива остро встала перед российской империей во второй половине 19 – нач. 20 в.: речь идёт о выборе между демократией, с одной стороны, и сохранением большого и могущественного российского государства, с другой. Либо демократия – и в таком случае неминуемый распад «социалистического лагеря», а за ним и СССР. Либо же ориентация на великое государство (это понятие включало большую территорию), а это означало ставку на силу, на репрессии – то есть возвращение к традиционным средствам российской политики.
Российские интеллектуалы, способные мыслить в понятиях культурно-политических идентичностей, по крайней мере в конце 19 в. стали перед историческим выбором ввиду формирования национальных и одновременно демократических государств в Европе. Было три исторических пути России в будущее: (а) путь самоограничения – отказ от создания территориально большого государства и создание национального государства на основе российской этнонациональной сердцевины; (б) славянофильский проект – расширить границы российской этнонациональной сердцевины за счёт обрусения белорусов и украинцев; (в) евразийский проект или проект «плавильного котла» – создать политическую идентичность, границы которой определятся, в конечном счёте, в зависимости от того, какие из этносов бывшей Российской империи (и её наследника СССР) удастся переплавить. В варианте (б) и (в) этнические русские обречены со временем раствориться, исчезнуть как этническая нация. Но во втором варианте была надежда в конце концов «убедить» белорусов и украинцев, что все три народа, включая русских – это только субэтносы (точнее, субнациональные образования, а не отдельные этнические нации). При этом объединение этих субэтносов мыслилось как такое, которое должно происходить на русской основе – русский язык и «истинное» русское православие. В СССР, как показал Бердяев в книге «Истоки и смысл русского коммунизма», эта миссионерская роль русского народа, религиозно истолкованная в славянофильстве, стала одним из скрытых истоков «интернационализма». К тому же коммунизм, как квази-религия, имел существенное преимущество, ведь миссия России приобрела всемирное значение – как авангарда в освобождении всех народов от зла капитализма.
В период «брежневизма» партийная верхушка откровенно взяла курс на «плавильный котёл» – создание «единого советского народа». Успешную работу этого «котла» должен был обеспечивать пояс «дружественных» государств, послушных правительств «социалистического лагеря». Если же оценивать названные здесь проекты в современном контексте, то отказ от идеи плавильного котла затруднён выбором границ: этнические русские (или те, кто считает себя русскими), лоскутами разбросаны на больших пространствах бывшей империи. Сегодня есть надежда на другую перспективу – на современный процесс интеграции и глобализации. С надеждой, что культурно-национальные идентичности будут терять свою важность. Как было сказано кем-то на сеголетнем Форуме в Давосе, «культура следует за экономикой». Обновлённый вариант «экономического детерминизма».
Итак, с точки зрения партийной верхушки, можно было ещё как-то терпеть подконтрольное пространство свободомыслия в России (по крайней мере в Москве и Ленинграде), но направление мышления на утверждение национального самосознания в республиках, особенно в Украине, нужно задушить в зародыше. И решительно. В зародыше, пока движение не стало массовым. Это вылилось в репрессии второй половины 60-х- начала 70-х. С двумя волнами более масштабных арестов – 65-го и 72-го годов. Внешние действия включали подавление Пражской весны 68-го. Так что Украина двигалась навстречу запланированным арестам. И судьбы отдельных людей в осуществлении этой стратегии ничего не значили.
* * *
«Подполье» в Институте философии. Я не распространял тексты самиздата (для чтения!) в Институте философии (может быть, за отдельными исключениями, которых не помню). Лично раздавал тексты для чтения (то есть, с возвратом) только среди аспирантов, научных работников и преподавателей Киевского университета. Иногда это были единичные действия. Так, ещё во время аспирантуры, ко мне обратилась моя бывшая однокурсница Лариса Левчук (дочь тогдашнего директора киностудии Тимофея Левчука) с просьбой, если у меня есть возможность, достать ей текст «Интернационализма или русификации». Из её слов я понял, что отец хочет его прочитать. Поскольку я не сомневался в этичности Ларисы, то без колебаний принёс ей текст, который она впоследствии вернула. Но из разговора с Ларисой мне было ясно, что она не намерена регулярно получать тексты самиздата, так что этим эпизодом наше общение и ограничилось.
Основную задачу я видел в том, чтобы передавать тексты посредникам, которым уже доверял и которые бы дальше распространяли тексты в своих средах (Василий Овсиенко, Михаил Григорович, Борис Попруга, Нестор Бучак и др.). Старался быть осторожным, заботясь прежде всего о том, чтобы схема распространения действовала. Самым же трудным из моих заданий – обеспечение размножения текстов. Но, как я уже упоминал, возможности были крайне ограничены. Если бы не жертвенный труд Николая Хоменко над изготовлением фотокопий, то «удовлетворять потребности» было бы вообще нечем. Но, критически оценивая себя, думаю, что на моём месте человек с выдающимися организационными способностями мог бы, пожалуй, лучше это организовать. В моём случае имело значение также то, что я смотрел на размножение и распространение самиздата как на побочное и второстепенное занятие, в сравнении со своими интеллектуальными интересами.
В Институте философии тексты для чтения определённому кругу лиц давал Евгений Пронюк. Я уже упоминал, что общение с Евгением играло ведущую роль в моей деятельности, связанной с размножением и распространением самиздата. Деятельность Евгения в Институте философии охватывает десять лет (1962 – 1972). Написал кандидатскую диссертацию («Идейная борьба в Галичине 1870-х годов. Остап Терлецкий»), была рекомендована в 1965 г. Учёным советом Института философии к защите. Но поскольку Евгений попал в поле зрения КГБ в середине 60-х (его вызывали на допросы в процессах 1965-го года), то, по указанию КГБ, защита диссертации была заблокирована. В 1966 был переведён с должности научного сотрудника на должность библиографа, где и работал до ареста 1972 года.
Евгений для моей «подпольной» деятельности был звеном, связывавшим меня с «засвеченными». Таким образом сам я мог оставаться в «серой» зоне. Был для меня основным поставщиком материалов самиздата. И источником информации, которая циркулировала в более узком кругу активистов тогдашнего движения. Кроме истории украинской философии, Евгений интересовался философией гандизма: считал, что опыт этого движения может быть полезным для украинского национально-освободительного движения. В 1964 году написал программную статью в виде тезисов под названием «Состояние и задачи украинского освободительного движения». Радикальный, по тем временам, документ: нацеливал на замену тоталитарного государства демократическим, на утверждение украинского суверенного государства. Текст, без подписи, стараниями Ивана Светличного, был отпечатан линотипным способом и распространён в узком кругу лиц. Пронюк, перепечатав документ через 35 лет, отмечает в примечании, что тезисы распространялись ещё под двумя названиями. Чтобы не отпугивать более широкий круг читателей, в один из вариантов были включены фразы в духе «гуманистического коммунизма» и дано название «Мысли коммуниста о настоящем и будущем украинского народа». Идеология документа типично национально-демократическая: личность и её права, и нация, политически определённая в форме независимого государства. Распространяя тексты в пределах Института философии, иногда действовал рискованно. Мы даже посмеивались, потому что однажды он сказал: «Может, он и кагэбист, да пусть читает». В противоположность мне, Евгений, по своему характеру, имел черты лидера: был инициативным, проявлял организаторские способности и настойчивость, был общительным и внимательным к другим.
В помещениях Института философии я поддерживал связь с Евгением через Викторию Цымбал. Выше я уже упоминал о её матери, Татьяне Цымбал, хорошо известной в кругу тогдашней интеллигенции, участнице протестных акций 60-х. О дяде Виктории, родном брате матери, Викторе Цымбале, живописце и общественном деятеле, у нас есть только что опубликованная основательная и хорошо изданная книга Богдана Горыня, с предисловием Валерия Шевчука. Во время моего сотрудничества в Институте Виктория работала в библиотеке Института на должности младшего научного сотрудника, занималась переводческой работой. С расстояния почти в полвека моё воображение хранит образ женщины симпатичной в общении, с юмором и оптимизмом – вопреки всему! Она и сегодня, несмотря на нелёгкие жизненные испытания, сохранила этот тонус жизненного воодушевления и активности. В нашем тогдашнем общении, связанном с распространением самиздата, важны были её немногословие и точность, аккуратность в словах и движениях; не терялась, говорила только фразы, которые бы не вызвали подозрения, – в случае подслушивания. Мы выискивали какой-нибудь повод, чтобы встретиться без свидетелей, и обменивались бумагами и записками, которые содержали только то, что нужно было сообщить.
* * *
Поправки и уточнения. К этому тексту, последнему из опубликованных в журнале «Современность» (№7, 2007), делаю задним числом некоторые вставки, а также вношу определённые уточнения и исправления вследствие ознакомления с архивными документами, касающимися дела «Блок», рассекреченными Службой безопасности Украины. В течение января-февраля 2010 года я работал в Архиве Службы безопасности, просматривая рассекреченные документы, а также «Уголовное дело №58 Пронюка, Лисового и Овсиенко». Что касается рассекреченных документов, касающихся дела «Блок», то речь идёт о широком круге лиц, которые «изготавливали», размножали и распространяли самиздат. Это побудило КГБ прибегнуть к массовым арестам начала 1972 года. Эти документы, которые должны были бы храниться и отчасти таки хранятся в архивах Службы безопасности Украины, можно разделить на три группы: (а) оперативно-следственные дела; (б) «уголовные» дела (досудебное и судебное следствие); (в) разного рода справки и информации, которые изготавливали сотрудники КГБ: большинство из них адресовались ЦК КПУ и ЦК КПСС. Замечу, что большинство оперативно-следственных дел, в том числе тех, что касаются дела «Блок», были уничтожены в 1990 году или в начале 1991-го. Об этом В. Вятрович сообщил во время встречи с бывшими политзаключёнными, ставшими «объектами» дела «Блок», которая состоялась 17 февраля 2010 года. Или вывезены в Москву?
Из оперативно-следственных дел, которые касаются дела «Блок», случайно сохранились только некоторые. Сохранилось моё в трёх томах, а также Веры в девяти томах. Разницу в количестве томов можно объяснить тем, что я после ареста оказался в зоне полного контроля, а потому уменьшился вес наблюдения и т.п. «Уголовные дела диссидентов» (на самом деле политические – «в СССР нет политических заключённых») не были уничтожены: они хранятся в архиве Службы безопасности и с ними может ознакомиться каждый. Уголовное дело Пронюка, Лисового, Овсиенко составляет 27 томов. Исхожу из предположения, что «уголовные дела» диссидентов умышленно раздувались, чтобы затруднить их просмотр. Когда на следствии я замечал, что какие-то факты или показания не относятся к обвинению, то в ответ мне говорили: мы стремимся исследовать всесторонне, собирая не только отрицательные, но и положительные характеристики обвиняемых. С точки зрения интересов историка, это действительно даёт ему сегодня более богатый фактический материал. Но я не думаю, что, раздувая дела, кагэбисты думали об этой перспективе будущего исторического исследования.
В отличие от уголовных дел, оперативно-следственные дела дают значительно больше конкретной информации. Документы из оперативно-следственных дел и упомянутые сообщения КГБ в адрес ЦК я подаю ниже на языке оригинала – русском, сохраняя орфографию, структуру и некоторые особенности графики. В конце текста даётся официальная ссылка, принятая архивным отделом Службы безопасности Украины. Чтобы понимать документы оперативно-следственных дел, читатель должен знать значение аббревиатур, которые использовало КГБ. Привожу здесь список основных аббревиатур: ДОП – дело оперативной проверки (предварительная стадия, которая касалась тех, кто попал в поле зрения КГБ); ДОН – дело оперативного наблюдения (следующий шаг – наблюдение за теми, в отношении которых существует подозрение); ДОР – дело оперативной разработки (активное расследование, включая вызовы для дачи объяснений, следствие и заключение); его разновидностью является ДГОР – дело оперативной групповой разработки. Дело «Блок» относится к таким. К аббревиатуре добавлялся номер на каждого человека. Это наиболее употребительные аббревиатуры из значительно более длинного списка, которые касаются определённых видов следственных действий – наблюдения, подслушивания и записывания разговоров, тайного обыска жилья, просмотра почтовой корреспонденции и т. п.: «Нн» (наружное наблюдение), «т» – подслушивание и запись разговоров, «ПК» – описание всего, что проходит через почту, и т. п. В документах оперативно-следственных дел агенты КГБ преимущественно упоминаются не под собственными фамилиями, а под псевдонимами. Напр., псевдоним Раисы Полицыной «Валя». «Объекты» дела «Блок» также наделялись псевдонимами: в противовес агентам, их псевдонимы часто имеют уничижительный или иронический смысловой оттенок. Оксана Мешко – «Лиса», Леонида Светличная – «Кобра», Николай Руденко – «Радикал», Михайлина Коцюбинская – «Фарисейка», Вера Чередниченко – «Крыса», Евгений Чередниченко – «Ярема», Светлана Кириченко – «Фанатичка», Николай Матусевич – «Подстрекатель», Мирослав Маринович – «Беглец», Людмила Стогнота – «Художник», Екатерина Высоцкая – «Хористка», Галина Дидковская – «Дора». Мой псевдоним – «Слуга» (видимо потому, что я сначала был зафиксирован в предоставлении «услуг», связанных с размножением и распространением самиздата), псевдоним Веры – «Тихая». Исследователь архивных материалов должен знать эти псевдонимы, потому что фамилии «объектов» наблюдения, подслушивания и т. п. преимущественно не ставятся в документах рядом с псевдонимами. В цитируемых далее документах мои собственные примечания в тексте взяты в квадратные скобки – [], пропуски обозначены значком , как и во всём тексте моих Воспоминаний.
В первом томе моего оперативно-следственного дела (листы 6-11) есть Справка на меня как одного из «объектов» дела «Блок»:
СПРАВКА
на объекта дела групповой оперативной разработки
ЛИСОВОГО Василия Семеновича, 1937 г. рождения, уроженца села Старые Безрадичи Обуховского района Киевской области, украинца, беспартийного /исключен из КПСС в 1972 г. в связи с арестом/, кандидата философских наук, до ареста работавшего младшим научным сотрудником Института философии АН УССР, проживавшего в г. Киеве, по Дарницкому бульвару, 1, кв. 52.
ЛИСОВОЙ происходит из семьи колхозников. Его отец – участник Великой Отечественной войны, погиб на фронте. Мать умерла в 1968 году. Окончив в 1962 году историко-философский факультет Киевского госуниверситета, ЛИСОВОЙ работал преподавателем философии Тернопольского мединститута, где в 1965 г. был принят в члены КПСС. В 1966 году поступил в аспирантуру при кафедре этики, эстетики и логики КГУ. За время учебы в аспирантуре защитил кандидатскую диссертацию. После окончания аспирантуры в 1969 году поступил работать младшим научным сотрудником в Институт философии АН УССР, арестован в июле 1972 г.
Ближайшие родственные связи ЛИСОВОГО:
- жена – ЛИСОВАЯ /ГРИЦЕНКО/ Вера Павловна, 1936 г. рождения, уроженка г. Кагарлыка Киевской области, временно не работает /имеет 2-х малолетних детей/, проживает в г. Киеве. Националистически настроена;
- брат – ЛИСОВОЙ Петр Семенович, 1924 г. рождения, колхозник, проживает в с. Старые Безрадичи Обуховского района Киевской области;
- брат – ЛИСОВОЙ Павел Семенович, 1926 г. рождения, водитель такси, проживает в г. Киеве;
- сестра – СТЕПАНОВА /ЛИСОВАЯ/ ЛЮБОВЬ Семеновна, 1942 года рождения, служащая, проживает в г. Киеве.
В поле зрения органов КГБ Лисовой попал как связь объектов дела групповой оперативной разработки "Печатники", которое велось Управлением КГБ при СМ УССР по Киевской области в 1968-1970 гг. Объекты этого дела занимались изготовлением и распространением антисоветской националистической литературы. 12 марта 1969 г. осуществлявшимся "Нн" [наружное наблюдение] за объектом дела "Печатники" Семенюком В. была зафиксирована его встреча с ЛИСОВЫМ, которому разрабатываемый передал какой-то тяжелый предмет, завернутый в плотную бумагу, по внешнему виду напоминавший пишущую машинку. Характер поведения ЛИСОВОГО и СЕМЕНЮКА во время этой встречи свидетельствовал о том, что они стремились провести ее конспиративно: оба делали вид, что не знакомы друг с другом, после встречи тщательно проверялись, пытаясь обнаружить за собой слежку. Полученный от Семенюка предмет ЛИСОВОЙ отвез на квартиру одной из своих связей.
Других компрометирующих данных на ЛИСОВОГО в то время не имелось. В апреле 1970 года, после реализации дела "Печатники" с Лисовым в УКГБ Киевской области была проведена беседа профилактического характера, во время которой он вел себя неискренне, своей связи с СЕМЕНЮКОМ не признал. После профилактики ЛИСОВОЙ некоторое время находился под агентурным наблюдением, однако данных о проведении им враждебной деятельности получено не было.
В 1970-71 гг. от агента 2 отдела 5 Управления КГБ при СМ УССР "Вали" были получены данные, что к ЛИСОВОМУ проявляет повышенный интерес объект дела "Блок" СВЕРСТЮК, который через агента пытался выяснить политические настроения ЛИСОВОГО, уровень его развития, увлечения, круг знакомых. Видно было, что СВЕРСТЮК намерен вовлечь ЛИСОВОГО в националистическую деятельность. О ЛИСОВОМ, как националистически настроенной личности, СВЕРСТЮКУ, очевидно, стало известно от его единомышленника ПРОНЮКА /СВЕРСТЮК с ЛИСОВЫМ в этот период времени знакомы не были/, с которым ЛИСОВОЙ вместе учился в КГУ, а затем работал в Институте философии и находился в дружеских отношениях.
ПРОНЮК Евгений Васильевич, 1935 г. рождения, в составе семьи участника банды ОУН выселялся на спецпоселение в Карагандинскую область. Скрыв свое прошлое, вступил в комсомол, поступил на учебу в Киевский госуниверситет, стал членом КПСС. Органам КГБ стал известен с 1965 г. как связь арестованных в то время УКГБ Львовской и Киевской областей украинских националистов ОСАДЧЕГО, ГОРЫНЯ М., ГЕВРИЧА и других, которые на допросах показали, что он среди своего окружения распространял националистическую литературу. В 1969 г. допрашивался по делу арестованного КОРОБАНЯ как соучастник его антисоветской националистической деятельности. Оба раза (в 1965 и 1969) профилактировался в органах КГБ и через общественность Института философии, однако антисоветской деятельности не прекратил. С февраля 1970 г. разрабатывался по ДОР.
В процессе разработки СВЕРСТЮКА и ПРОНЮКА было установлено, что ЛИСОВОЙ разделяет их взгляды. Он поддерживал тесные контакты с ПРОНЮКОМ, а также националистически настроенными сотрудниками Института философии АН УССР БЫШОВЦОМ, ЦЫМБАЛ В. и другими, в кругу близких связей допускал националистические суждения. На основании изложенного в марте 1972 года на ЛИСОВОГО было заведено дело оперативной разработки.
Полученные в результате разработки ПРОНЮКА и ЛИСОВОГО материалы свидетельствовали, что они знакомятся с документами т.н. «самиздата», антисоветского и клеветнического содержания, размножают и распространяют их.
Реализуя свои преступные замыслы, ПРОНЮК и ЛИСОВОЙ в марте 1972 года организовали изготовление т.н. "экстренного" выпуска "Украинского вестника". Для его размножения на пишущей машинке и последующего распространения они привлекли выпускника Киевского госуниверситета ОВСИЕНКО Василия, студентов ГАЙДУКА Ивана, СИДОРЕНКО Раису и других.
После частичной реализации дела «Блок» и ареста ряда объектов этого дела ПРОНЮК и ЛИСОВОЙ предприняли попытки активизировать антисоветскую деятельность. Агенту «Валя» ими были переданы для размножения на пишущей машинке несколько документов клеветнического содержания, которые они впоследствии намеревались распространить путём помещения в нелегальном антисоветском журнале «Украинский вестник».
В июне 1972 года ЛИСОВОЙ изготовил документ антисоветского клеветнического содержания под названием "Открытое письмо членам ЦК КПСС и ЦК КП Украины", в котором утверждал, что в СССР якобы имеют место нарушения социалистической законности и основ Советской конституции, попираются права человека, проводится политика геноцида по отношению к передовой украинской интеллигенции и т.п., брал под защиту арестованных объектов дела "Блок", заявлял, что полностью разделяет их убеждения и просил его также арестовать и судить.
По одному экземпляру указанного документа ЛИСОВОЙ направил в ЦК КПСС и ЦК КП Украины, один вручил секретарю парторганизации Института философии АН УССР и один передал ПРОНЮКУ. Они намеревались изготовить сто экземпляров "письма" и распространить его путем засылки в различные партийные и советские инстанции, в писательские организации, в адреса отдельных общественных деятелей. Указанными действиями они преследовали цель – вызвать отрицательный резонанс в широких кругах общественности по поводу арестов органами КГБ лиц, проводивших националистическую деятельность.
За совершенные преступления ПРОНЮК и ЛИСОВОЙ 8 июля 1972 г. были подвергнуты аресту.
В ходе следствия было установлено, что кроме участия в изготовлении "экстренного" выпуска "Украинского вестника" и написания "Открытого письма" ЛИСОВОЙ на протяжении 1971-1972 гг. систематически хранил у себя на квартире и у своих связей нелегальную литературу антисоветского и клеветнического характера, которую получал у ПРОНЮКА, размножал и распространял ее. Это подтверждено вещественными доказательствами, показаниями свидетелей СТОГНОТЫ Людмилы, ВЫСОЦКОЙ Екатерины, арестованного в марте 1973 г. ОВСИЕНКО и других.
В период судебного разбирательства по его делу ЛИСОВОЙ в предъявленных обвинениях виновным себя не признал. Признавая фактическую сторону совершенных им действий, категорически отрицал наличие в них антисоветского умысла, пытался доказать, что СВЕТЛИЧНЫЙ, ЧЕРНОВОЛ, СВЕРСТЮК и другие объекты дела "Блок" осуждены несправедливо, а приведенные в его "Открытом письме" факты "геноцида", "русификации" и т. п. соответствуют действительности. Внутрикамерному агенту заявил, что от своих убеждений не откажется и после отбытия наказания будет продолжать заниматься националистической деятельностью.
Изложенное свидетельствует о том, что ЛИСОВОЙ является убежденным украинским националистом, после осуждения идейно не разоружился и намерен продолжать враждебную деятельность. С учетом этого дальнейшую его разработку следует вести в плане выявления и пресечения возможных с его стороны попыток проводить враждебную деятельность в местах лишения свободы в форме группирования вокруг себя единомышленников, идейной обработки окружения с националистических позиций, изготовления и переправки на волю различных клеветнических документов.
При этом следует учитывать личные качества ЛИСОВОГО: достаточно высокий уровень образования, умение логически и последовательно излагать свои мысли, конспиративность в проведении враждебной деятельности (о чем свидетельствуют материалы его разработки на воле). По складу характера ЛИСОВОЙ несколько замкнут, малообщителен, очень разборчив в выборе связей. В своих решениях настойчив до упрямства. Любит внешний эффект, в связи с чем способен на открытое враждебное проявление.
В ходе разработки ЛИСОВОГО и его сообщников, а также следствия по их делу осталось невыясненным у кого они брали пишущую машинку для размножения "экстренного" выпуска "Украинского вестника", вручался ли этот выпуск "Вестника" кому-либо для передачи за границу, кто из сослуживцев ЛИСОВОГО и ПРОНЮКА был осведомлен об изготовлении ими указанного журнала. Это также следует учитывать при разработке ЛИСОВОГО в местах заключения.
Из числа оставшихся на свободе связей ЛИСОВОГО заслуживают оперативного внимания:
- Бадзьо Георгий Васильевич, 1936 г. рождения, литератор, проживает г. Киеве, объект дела "Блок";
- Бышовец Василий Елисеевич, 1936 г.рождения, служащий, проживает в г. Киеве, объект ДОР;
- Мешко Оксана Яковлевна, 1905 г. рождения, пенсионерка, проживает в г. Киеве, объект дела "Блок", поддерживает тесную связь с женой ЛИСОВОГО;
- Роженко Николай Маркович, 1936 г. рождения, преподаватель вуза, проживает в г. Хмельницком, объект ДОР УКГБ Хмельницкой области;
- Стогнота Людмила Климовна, 1939 г. рождения, инженер, про-живает в г. Киеве, объект ДОР 2 Управления КГБ УССР.
Не исключено, что указанные лица будут поддерживать с ЛИСОВЫМ письменную связь, в связи с чем о полученных в отношении них материалах просим информировать заинтересованные органы.
Оперуполномоченный
2 отдела 5 Управления КГБ при СМ УССР
ст. л-нт /Канивец/
«Согласен» Начальник 2 отдела 5 Управления КГБ при СМ УССР – подполковник /Высоцкий /
24 января 1974 года
Итак, в этой Справке говорится, что «профилактическая беседа» со мной была проведена в апреле 1970-го (а не в 1971 году, как я считал, полагаясь на свою память). Из этой Справки видно также, что только благодаря своей осторожности, мне удалось окончить аспирантуру и защитить диссертацию. Замечу, что кагэбист слишком упрощает нашу практику размножения и распространения самиздата, когда предполагает, что передачи машинок или текстов происходили лишь между знакомыми: на момент встречи с Семенюком, я действительно не знал его. Было бы лишним сообщать, с кем ты идёшь на одноразовую встречу, если о ней договорились через посредника. Помню, что разговор с кагэбистом происходил в помещении Областного отделения КГБ, расположенном на ул. Розы Люксембург. Когда шёл на «встречу», настраивал себя, что не буду входить в споры. Мужчина, ещё относительно молодой, около 40 лет, выполнял, как я понял, обязанности «куратора» Института философии и, возможно, также других гуманитарных институтов АН. Его интересовала моя реакция на «антисоветскую» деятельность в Институте философии, назвал при этом Евгения Протока «и других». Я отрицал, что мне что-либо известно о такой деятельности. Из всего им сказанного запомнилась фраза, произнесённая примерно так: «И почему эти антисоветские элементы проникают именно в институты Академии наук?».
Конфликт критического мышления с тотальным контролем за мышлением не казался ему несовместимым. Надежды небольшого слоя интеллигентов, рождённые «оттепелью», он, видимо, считал следствием временной снисходительности, если не чудачеством партийного «аппарата». В конце «беседы» высказал просьбу никому не рассказывать о нашей «встрече». Предостережение-тест: не расскажет – боится. Это и было целью «профилактики». Идеология и политика брежневизма – попытка бюрократии стабилизировать систему, уже давшую трещину. Стабилизировать с помощью превентивных и ограниченных репрессий. Потому что позже будет поздно.
Я рассказал о нашем «разговоре» Евгению Пронюку и Виктории Цымбал.
* * *
Репрессии в Институте философии. Опережая время, замечу, что после ареста Евгения Пронюка и меня из Института были «уволены» от скромной зарплаты и возможности заниматься интеллектуальным трудом Виктория Цымбал (была уволена после возвращения из декретного отпуска), Николай Роженко, Сергей Кудра, Василий Бышевец, Фёдор Канак, Владимир Жмир. У уволенных из Института, как и следовало ожидать, начались проблемы с поисками работы: к этому и сводилась «кара». Система использовала испытанные методы «перевоспитания»: заключение, психбольница, запугивание, лишение куска хлеба, подкуп – основные «аргументы». Некоторым из уволенных пришлось пройти трудный путь. Сергей Кудра работал грузчиком, шофёром и т. п. И это на протяжении почти двух десятков лет.
Из сотрудников Института только Николай Роженко, тогда кандидат философских наук, старший научный сотрудник, член КПСС, осмелился, хотя и в умеренной форме, выразить несогласие с арестом меня и Пронюка. Он занимался философией науки, был национально сознательным, общался с Евгением, читал самиздат. Своё несогласие с арестами он выразил в виде Письма, отправленного на имя Щербицкого.
Бюро Президиума АН УССР приняло постановление № 294 «О дальнейшем совершенствовании тематической направленности научно-исследовательской работы, структуры и кадрового состава учреждений Секции общественных наук АН УССР» от 31 июля 1972 года. Как потом говорилось в постановлении Бюро Президиума НАН Украины от 21. 12. 1994 года (№281-Б), в связи с этим постановлением «был сокращён бюджетный фонд заработной платы учреждений Секции общественных наук АН УССР на 4 процента. Это в свою очередь стало формальным основанием для увольнения из учреждений секции «по сокращению штата» ряда работников, которым ставилось в вину близость к лицам, арестованным в 1972 году по политическим обвинениям.
Из названных здесь лиц наиболее «невинными» мне казались Владимир Жмир и Фёдор Канак. Некоторые из моих коллег по Институту уже в 90-е годы посмеивались, что Владимира уволили за то, что принципиально разговаривал по-украински, носил казацкие усы и курил трубку. И всё это демонстративно! Или даже вызывающе – чтобы подразнить призраком национализма. Но в недавнем разговоре со мной Владимир развеял этот красивый «миф». Потому что общался с Юрием Хорунжим, а тот с Иваном Дзюбой. И поэтому имел независимый от нас «канал» получения самиздата. Кроме того, вместе с Юрием Смирным организовывал работу культурно-интеллектуального Клуба им. Петра Запорожца. С Владимиром я тесно сотрудничал в 90-е годы, он был заместителем главных редакторов «Философской мысли» и «Политологических чтений»: принадлежал к «заместителям», которые фактически делают журнал. Кроме того, опубликовал ряд философских и литературных произведений, из философских – книгу «Возвращение к себе».
Что касается Фёдора Канака, моего однокурсника, с которым я жил в одной комнате общежития на Ломоносова, ныне уже покойного (с этим трудно смириться, как и со смертью Александра Погорелого и Сергея Васильева), то, по словам Владимира, одним из обвинений было его содействие публикации моих статей в «Философской мысли» (как я уже упоминал, был заместителем главного редактора этого журнала – В. Шинкарука). Собственно говоря, его уволили за дружеское отношение к Евгению Пронюку и ко мне.
Кроме Института философии, «почистили» от непослушных другие институты Академии наук.
* * *
Творческие замыслы. Всё же в то время у меня была надежда на возможность научно-исследовательской работы. После перехода в отдел истории философии Украины я задумал сочетать исследования по украинской и западной философии. Как я мыслил тогда свою интеллектуальную перспективу, сегодня могу судить, просматривая свой запас фильмокопий книг с того времени. Ретроспективно для меня показателен выбор текстов, которые я считал тогда важными для себя. А это около двадцати книг по аналитической философии на немецком и английском (Фреге, Карнап, Айер, Мур, Райл, Стросон, Фейгл, Селларс, Куайн, Райт), почти весь Гуссерль на языке оригинала (только «Идеи чистой феноменологии» в польском переводе), Ясперс «Философская вера» на немецком, малые работы Фрейда в рус. переводах. Ряд книг на англ. и нем. языках по социальной философии, этике и философии культуры. Среди них Уильямс «Культура», Маркузе «Культура и общество» и «Философия счастья», Ле Бон «Психология масс». Крон «Нормативная и ценностная этика», Дьюи «Теория морали», Осборн «Гуманизм и моральная теория», Ортега-и-Гассет «Человек и люди», Парсонс «Социальная структура и личность». Социология Парсонса интересовала меня своим акцентом на системе ценностей как основе для объяснения человеческих действий и социальных структур. Из русской философии – произведения Бердяева, Шестова, Розанова.
Изготовление этих фильмокопий было проявлением беспокойства, что обстоятельства могут измениться и тексты, которые я считал важными для себя, станут труднодоступными. Гуманитарии в Украине всегда жили в тревоге, что элементарнейшие условия для работы (не столько бытовые, ибо привыкли жить в бедности, сколько политические) — нечто очень ненадёжное. Однако с современной точки зрения очевидна узость тогдашних интеллектуальных контактов с Западом. Часто приходилось довольствоваться тем, что становилось доступным по воле случая.
И всё-таки для научных библиотек, по крайней мере центральных, в те времена выделялась валюта на закупку книг на иностранных языках. Немецкий многотомный историко-философский словарь библиотека Института философии перестала получать уже в независимой Украине на букве «О». И это О! звучит иронично, если не издевательски: дождались, мол, независимого государства. Того, которое наконец сделает одним из своих приоритетов содействие развитию украинской культуры, в частности интеллектуальной.
Во второй половине 60-х годов, выйдя на Крещатик из метро, тут же в газетном киоске можно было купить европейские газеты хотя бы стран «социалистического лагеря» и газеты коммунистических партий «капиталистических» стран. Мы могли тогда читать польские, чешские, словацкие газеты (теперь их надо искать по «закоулкам»). Современные же газетные киоски и книжные раскладки (на станциях метро и т. п.) не свидетельствуют ни о том, что «Киев — европейская столица», ни о том, что Киев — столица Украины. А о том, что это город в какой-то из российских провинций. У иностранца, который только что прибыл в Украину и начинает знакомство с ней с Крещатика, от этих раскладок прессы на каждой станции метро и даже газетных киосков (где украиноязычная газета боязливо выглядывает из-под русскоязычной прессы) иное впечатление и не может сложиться. В 60-е годы мне всё-таки удавалось найти какую-нибудь интересную книгу польских или немецких издательств в магазине «Дружба». Когда год или два назад я спросил у продавцов этого магазина, почему отсутствуют книги европейских издательств, ответили что-то в том смысле, что в Украине не существует такого бизнеса, что это невыгодно. А как же быть с европейским лицом Киева? Да что говорить, наблюдая, как книжные магазины и другие культурные учреждения исчезают под натиском жадного прибыльного бизнеса. Бюрократия тоже не прочь участвовать в этом походе против культуры, захватывая привлекательные помещения, как это было в случае с переселением Музея истории Киева.
В 60-е легче проникали сквозь «железный занавес» литературные произведения XX в. Преобладали русские переводы, но, думаю, по публикациям на национальном языке Украина среди «республик» занимала второе место после России. Журнал «Всесвіт», хоть и не мог сравниться с «Иностранной литературой», всё же выполнял важную роль, в частности в организации переводческого труда. Но тот план чтения философской литературы, который я себе наметил, даже при вполне спокойной жизни, мало оставлял времени на художественную литературу. Кое-что успел прочитать из прозаических произведений XX в. (Хемингуэй, Сент-Экзюпери, Кафка и др.). Больше читал поэзии, украинской и переводной.
Переводы по философии XX в., даже на русский язык, публиковались очень выборочно, в противовес «классике», — и преимущественно с пометкой «для научных библиотек». На украинский язык философские труды почти не переводились, за редкими исключениями (например, серия книг по истории эстетических учений). Тогдашнее опоздание с «вхождением» украинских философов в западное пространство интеллектуального общения сегодня очевидно. Работы по герменевтике, опубликованные в Германии в 60-е годы (Гадамер, Хабермас), были, насколько я помню, вне обсуждения даже в самом близком кругу моего общения. Неизвестны мне были и публикации Рикёра 60-х. Между тем знакомство с его книгой «Конфликт интерпретаций», опубликованной в 1969 году, было бы весьма своевременным.
В наших тогдашних разговорах мы чаще упоминали Адорно и Маркузе, особенно в связи со студенческим «восстанием» 1968-го. Хотя протест против культивирования «одномерного человека» нам импонировал, сама идеология «новых левых» — как смесь фрейдизма и маоизма, с элементами анархизма — у меня лично (да и в кругу моего ближайшего общения) не вызывала восторга. В противовес этому «Пражская весна» воспринималась с энтузиазмом, а её подавление мы пережили как личную драму.
* * *
Но ситуация с доступом к украинским философским трудам XX в. была ещё хуже. Между тем меня интересовал прежде всего период конца XIX — XX вв. — тексты, которые касались проблем философии украинской истории под углом зрения национальной перспективы. Липинский, Донцов, Старосольский, Лысяк-Рудницкий, Чижевский, Шпорлюк — произведения этих и других авторов в том же русле стали доступны лишь в 90-е годы. В. Евдокименко, который тогда возглавлял отдел истории философии Украины, в своей книге «Критика идейных основ украинского буржуазного национализма» давал информацию об авторах и текстах, которые тогда хранились в «спецхранах». Доступ к ним предоставлялся по особому разрешению — критикам «украинского буржуазного национализма».
Всё же кое-что удавалось вылавливать, то, что каким-то образом избежало изъятия из общедоступного фонда для учёных. В собрании книг, хранившихся в отделе, мне попалась в руки небольшая книга под заглавием «Писання Івана Франка. „Молода Україна“. Часть перша. Провідні ідеї й епізоди». Львов 1910. Я сделал подробные выписки из статьи «З кінцем року» и из переписки Франко с Лесей Украинкой, в центре внимания там была роль интеллигенции в становлении национального самосознания народа.
Но во время «оттепели» украинские гуманитарии приложили немало усилий, чтобы вернуть изъятые из обихода произведения писателей и поэтов, в частности из «расстрелянного возрождения». Сборник, составленный Юрием Лавриненко, мне тогда не достался, хотя и распространялся в самиздате: может, в единственном экземпляре — потому, что его отважился провезти сквозь «железный занавес» Максим Рыльский. Но распространялись перепечатки и рукописные копии, возможно, также из этой книги: я до сих пор храню переписанные от руки ранние стихи Тычины. Знакомство с его ранней поэзией было для многих тогда открытием. Шестидесятники уже смотрели вслед «нареченій», но уже не из сумерек воробьиной ночи, а с ощущением энергии и воли, способной разрушить чучела унаследованного страха.
* * *
Чисто романтическая направленность мышления, которая сопровождала этнофольклорное движение того времени, меня не удовлетворяла. Точнее, эмоционально я присоединялся к нему — с восторгом слушал народные хоры и, с удовольствием, хотя бы при случае, участвовал в колядках. Но считал, что национальное движение должно иметь хорошую интеллектуальную основу — продуманную, рационально взвешенную программу, которая бы дополняла романтический и поэтический способ чувствования и мышления. Что-то читая и размышляя над вопросами этнологии, делал заметки. Но не удерживался от высказываний, которые явно противоречили официальной идеологии, а потому закрашивал некоторые слова или предложения (рассчитывая, что, при необходимости, легко смогу восстановить их из контекста). Некоторые из этих заметок были изъяты во время обыска, и следователь (Караванов) допытывался, что именно я здесь закрасил.
* * *
Из событий своей аспирантской жизни всплывает в памяти эпизод общения с интеллектуалами из Средней Азии (Казахстана, Узбекистана). Познакомился я с ними благодаря тогдашней практике направлять гуманитариев-аспирантов из азиатских республик на курсы повышения квалификации в Украину. В Киевский университет. Так у меня завязались с ними дружеские отношения. В своё время я прочитал «Путь Абая» Ауэзова (в рус. переводе) и проникся поэтикой совершенно иного образа жизни в совершенно ином природном окружении. Образ Тогжан с тех пор стал жить в моём воображении среди других идеализированных женских образов. Это, как и моё школьное увлечение «Витязем в тигровой шкуре», в переводе Бажана, прокладывало воображению тропинку в другие культурные миры. Так я приобретал опыт «эмпатии», симпатического вхождения в чужой культурный мир.
Из того общения запомнилось, как я был в гостях в одной из комнат общежития на ул. Ломоносова — в большом кругу, наверное, человек пятнадцать, моих друзей из Азии. Меня пригласили «на плов». Плов был аутентичный. Разговор, разумеется, не должен был выходить «за рамки» — ввиду весьма вероятного присутствия того, кто «обязан быть». Но ещё до этого моего визита у меня состоялся откровенный разговор с одним из участников нашей встречи, казахом-аспирантом — высоким, крепким, смуглым юношей (воспринимал его как «типичного» казаха»). Разговор состоялся во время случайной встречи в автобусе, на котором мы ехали от КГУ до ул. Ломоносова. Была уверенность, что наша встреча не была спланированной случайностью. Юноша немногословно, но откровенно говорил мне об угрожающем положении казахской культуры и языка; с его точки зрения, оно было значительно тяжелее, чем у украинского. Речь шла о большом изменении этнического состава вследствие известных переселений и о том, что эти переселенцы говорят по-русски. И, за редкими исключениями, не желают изучать казахский, воспитанные «интернационалистами».
* * *
Из публикаций в 70-м и 71-м, которые не касались темы диссертации, кроме уже упомянутой «Критики сциентистских концепций», мы вдвоём с Евгением Причепием написали статью к 200-летию со дня рождения Гегеля (была опубликована, кажется, в газете «Радянська Україна»). Написал ещё две (или три?) статьи — для «Трибуны лектора». Первую вдвоём с Василием Овсиенко, опубликована ещё в 1969-м. Рукопись одной из статей сохранилась — о проповеди и проповедничестве, о Франциске Ассизском и Савонароле. С надписью чьей-то рукой: «На экспертизу Желтобрюху». Организатором этих публикаций был Сергей Васильев. Нужно было использовать возможность, чтобы, разъясняя риторику проповедничества, создать хоть какой-то противовес атеистическому невежеству и подчеркнуть этическое величие таких фигур, как Франциск. Ещё написал небольшое предисловие к «Логике» Кононовича-Горбацкого (было опубликовано в «Філософській думці»). Всё это были тексты, написанные по случаю и в спешке. Как оказалось, последние, перед долгим молчанием.
* * *
Скорее не по необходимости, а «для души» читал стоиков (в русском переводе). От того чтения у меня сохранились выписки, без каких-либо комментариев. Но делал разные заготовки-рассуждения, касавшиеся философии морали, соотношения между религиозным пониманием греха и проблемой зла, по вопросам агрессивности, доброжелательности, толерантности; из этого сохранились лишь фрагменты. Занятия стоиками, думаю, наложили свой отпечаток на моё восприятие той среды, в которой я вскоре оказался. Этика стоицизма была вписана в своё время. Эту «устарелость» стоицизма поправлял Кафка: он направлял мысль и воображение на современные разновидности абсурда. В новелле о самосознании юноши, превращённого в уродливого жука, мне ощущалось предвестие возможных ситуаций.
Аресты 72-го отодвинули в сторону все мои интеллектуальные планы.
* * *
Аресты 72-го. Об арестах в январе 1972 года мне сообщила в Институте философии Светлана Кириченко, жена Юрия Бадзё, работавшая литературным редактором «Філософської думки». Мы были в дружеских отношениях (которые сохранились до сих пор), тогда общались часто, но не по делам самиздата: Бадзё был не просто «засвечен», ещё в 65-м был исключён из КПСС, после чего не прекратил своей активной оппозиционной деятельности. Так что были бы излишними ещё и мои «наводки» — непосредственное общение с ним. Светлана редактировала некоторые из моих философских статей, и я должен отметить её внимательно-толерантное отношение к тексту, без навязывания собственных лексико-стилистических предпочтений. В своих воспоминаниях (опубликованных в «Молоді України» и в «Кур’єрі Кривбасу») она вспоминает об отдельных эпизодах нашего общения того времени.
В первую неделю после арестов в центре внимания оказались пересказы и слухи: кто, когда, как. Слухи циркулировали сначала в ближайшем окружении, но быстро распространялись на всё более широкий круг людей. Кое-кто стал сдержанно относиться к общению, особенно на людях. Начался период «самоопределения», различения, отдаления. За этим стоял не только выбор способа поведения и состояния души, но и своего ближайшего будущего. Вероятность оказаться за решёткой очень возросла.
Перед теми, кто не согласен был затаиться, встал вопрос, как действовать в новой ситуации. Он встал и передо мной: мой до сих пор существовавший способ поведения — ориентация на интеллектуальный труд, соединённый с распространением самиздата — требовал пересмотра. Моё «подполье» в новых условиях теряло смысл: круг лиц, способных быть хотя бы читателями самиздата, не говоря о его распространении, не просто сузился — оставались одиночки. Распространение страха означало потерю и без того очень зыбких надежд на постепенный процесс демократизации и национального возрождения. Не скажу, что в момент принятия своего решения вступить в открытый конфликт с системой, природу которой хорошо знал, я испытывал чувство героического энтузиазма. Скорее, у меня было чувство смирения перед требованием внутреннего закона, выражаясь языком Канта.
* * *
Символика «подполья». Бо́льшая часть бессознательного, как нам кажется, не вторгается в наше сознание. Подсознательное же соединяется с сознанием множеством тайных тропинок: оно ждёт своего часа, чтобы явиться на свету нашей души. Важнейшее его проявление — сновидения. Самые интересные из «символических» сновидений — те, что пророчат или предостерегают. Не помню, когда я склонился к мысли, что образ подземелья в моих сновидениях символизирует моё «подполье». Хронологически мне трудно локализовать начало этих повторяющихся сновидений. Кажется, они появились ещё в студенческие годы. Потом исчезали и снова появлялись. Так до конца 80-х.
Подземелье — галерея подземных переходов: длинные коридоры из одного зала в другой, стены переходов и залов затемнены, нечётки. Иду совершенно уверенно по длинным проходам, знаю их хорошо, не впервые прохожу. Трудности появляются только на входах в новый зал. Сложнее всего войти и выйти из подземной галереи. Это требует пластунских усилий. Вход — где-то на южном склоне холмов в Новых Безрадичах. Пересекши долину по обе стороны Стугны, я уже у тайного входа. Выход за зданием кинотеатра им. Ватутина (на бывшей Красноармейской). Почему именно там, не смог найти объяснения (возможно, за этим стоит забытое впечатление).
Позже (в период заключения и, видимо, в течение первых лет после возвращения в Киев), как продолжение этого сновидения — подземелье Владимирской горки. Вход также скрыт — по лестнице вниз со стороны дома, где теперь расположен Институт философии. Ходы ведут в подземную комнату, от неё ход в другую, а дальше — пещеры-ходы, которые тянутся на юг. Там есть места, где спрятаны самиздатовские тексты. В комнате, сразу при входе справа — стол одного из «диссидентов», моего друга, он здесь работает. В очень простой одежде, напоминает лагерную робу. Мой стол у противоположной стены. Друзья в этих столах хранят только что написанное, вперемежку с самиздатовскими текстами. В подземелье чисто и спокойно, здесь ничего не угрожает, сюда не проникает лукавое. Опережая время, скажу, что лагерная символика сновидений — надземная, иногда поднебесная, даже космическая. Мордовия, Урал и Бурятия подземелий не имеют.
Думаю, «подпольным человеком» я стал из-за чувства угрозы, которое заставляло не высказывать публично то, что думаю. Но, как видно из ранее сказанного, я всё-таки «срывался», хотя и без катастрофических для себя последствий. Ведь я не собирался выходить из своего подполья раньше времени, без доспехов. Вынудили аресты. Может, и хорошо, как бы там ни было. Потому что я уже напоминал персонажа, который всё «фурт-фурт собирал», пока другие поднимались из окопов и шли в атаку.
* * *
Написание письма в ЦК КПСС. Замысел состоял в том, чтобы отреагировать на аресты открытым протестом. Если принять во внимание, что публичные протесты украинских интеллектуалов в течение 60-х — начале 70-х были известным явлением, пусть даже в относительно узком кругу, то своё решение я не мог оценивать как нечто из ряда вон выходящее. Из ряда вон выходящим оно было только для меня: означало «поворот» в моей духовной биографии.
Взять на себя грех молчаливого согласия с новой волной политических репрессий было тяжело. Меня охватывало предчувствие опасности, с далеко идущими последствиями. Ведь я связывал с арестованными все свои надежды на культурно-национальное возрождение. В моём мышлении и воображении они были ожившим ростком Воли порабощённого и подавленного народа. Им противостояла враждебная сила с хорошо продуманным и хитро осуществляемым планом уничтожения народа. Осуществить план уничтожения почти удалось — умертвить народ настолько, чтобы его возрождение казалось невероятным. Когда я пересматриваю фотографии крестьян от начала XX века до тех послевоенных, что сделал брат Пётр, я вижу не только смену вышитых сорочек серыми и чёрными лохмотьями, а исчезновение осанки у людей: появление придавленных, униженных, смятых лиц. Другими они и не могут быть, после ВСЕГО, особенно после 33-го.
Я не находил убедительных аргументов, которые могли бы поколебать моё решение. За любым из «спасительных» аргументов, которые изобретал мой ум, обнаруживался либо скрытый страх, либо хитроумно замаскированный эгоизм. Аргументы казались очень убедительными: семейные обстоятельства, состояние здоровья, возможность реализовать свои способности — тем самым послужить народу и человечеству и т. п. Моя жена была беременна, а ещё была маленькая дочь Мирослава. Если даже меня не арестуют, что маловероятно, то работы я буду лишён наверняка. А вслед и жена. Это наверняка: если не террор, то отнять кусок хлеба, даже у детей — давний способ создавать послушных и покорных. У того, кто отказывался вступать в колхоз, землю «отрезали» у самой завалинки: говорили «отрезали», потому что по живому.
К названным «обстоятельствам» можно добавить ещё особенности характера: «интеллигент». Но все эти обстоятельства и характеристики касались почти всех арестованных. Психоанализ также не выручал: чтобы с его помощью открыть неосознанные или затаённые мотивы, которые я умудрился прикрыть моральными соображениями. Коммунистические идеологи психиатрического объяснения действий тогдашних протестантов пытались представить их как людей, не способных достичь социальной адаптации. Но почти каждый из них, если бы отбросил свой протестантизм и попытался обеспечить себе приличную, но «тихую» жизнь, мог бы этого достичь. Это касалось и меня: ни моё положение после защиты диссертации, ни мои отношения с окружением (с людьми) не давали мне основания, с точки зрения лично-бытовых обстоятельств, считать себя неспособным «приспособиться». Но этого можно было достичь только дорогой ценой: компромисс с собственной совестью имеет предел допустимого. За ним он угрожает абсурдом, душевным хаосом. Не каждый способен это выдержать. Одни искали забвения в водке, другие совершали самоубийство. Я не хочу этим сказать, что люди не могли находить какой-то приемлемый для себя способ сосуществования со средой, насыщенной насилием и лицемерием. Но давалось это нелегко.
* * *
Пронюк был против осуществления моего замысла: среди его «аргументов» решающей была ссылка на мои способности; я и сегодня ему благодарен за эту веру в мои возможности. Он был убеждён, что в лагерях я только зря потрачу время и силы. Не скажу, что он был неправ. Но это проблема выбора. В том числе альтернативных пониманий философии как пути к истине. В конце концов Евгений смирился с моим решением и предложил свой вариант действия: в него должен был «вписаться» и мой протест.
Его замысел состоял в том, чтобы действовать уже проверенным способом: подготовить очередной выпуск «Українського вісника». Вскоре после арестов «мы» (это слово здесь охватывает неопределённый круг лиц) начали собирать данные об арестованных: их передавали родные, друзья или знакомые арестованных. Сбор этой информации взял на себя Евгений. Не припомню, когда именно оказались в наших руках рукописные «Письма к следователю» Бориса Ковгара (уже покойного, упокой его душу). По мере того, как Евгений убеждался в моей решимости, а сам я определился в жанре и стиле своего протеста (это должно было быть «Открытое письмо членам ЦК КПСС и ЦК КПУ»), Евгений предложил, чтобы очередной выпуск «Українського вісника» содержал предисловие, краткие сведения об арестованных, «Письма к следователю КГБ» Ковгара и текст моего протеста.
Один из мотивов выпустить очередной номер «Вісника» состоял в том, чтобы хотя бы отчасти поколебать уверенность следствия, что его выпускали арестованные. Перечитывая этот текст, делаю вставку благодаря презентации 3-го тома Черновола, на которой — из выступления Михаила Косива — узнал не только о том, как готовились номера «Вісника», но также о появлении шестого номера (который готовил, но не успел выпустить в свет Черновол): этот номер всё-таки выполнил ту роль, которую, разумеется, никак не мог бы выполнить наш. Слишком уж он отличался от предыдущих. Теперь известно, что таким же замыслом, как и наш, руководствовались С. Хмара, В. Шевченко и О. Шевченко, которым удалось подготовить 7/8 выпуск «УВ». И даже передать текст за границу.
Важнее было показать, что аресты не остановят ни выпуска «Вісника», ни распространения самиздата. Это было важно в этой новой ситуации. На волну арестов 65-го украинская интеллигенция ответила коллективными протестами, а произведение Черновола «Портреты двадцати „преступников“» стало важным достижением украинского Самиздата. Теперь стали говорить (и, думаю, оправданно), что коллективные протесты не дадут желаемого результата, они только «засветят» тех, у кого есть диссидентские настроения.
* * *
Хотя своё Письмо я адресовал ЦК КПСС, но на самом деле, как и в других подобных ситуациях, текст предназначался более широкому кругу читателей. С Евгением мы договорились, что должны изготовить где-то более ста копий для распространения. Думали о разных способах распространения, в том числе и путём вбрасывания в почтовые ящики или даже рассылки по почте (этот второй способ слишком наивен). Для этого были собраны адреса должностных лиц, учёных, деятелей культуры и т. п. Не помню, когда именно завершил написание Письма. Может, в конце марта или в начале апреля у меня уже был первый вариант, который я передал Юрию Бадзё. Другой экземпляр этого же варианта, отпечатанного на машинке, отдал Василию Овсиенко. Юрий Бадзё, кроме каких-то мелких стилистических замечаний, посоветовал мне убрать отдельные места, где я злоупотреблял коммунистической риторикой. Я согласился, это улучшило текст. После этого я снова перепечатал Письмо на машинке (одолжил её для пользования у своей родственницы Тамары Ивановой — жены моего двоюродного брата, сына моей тёти Василины). Письмо, вероятно, было готово к размножению во второй половине или в конце мая (это уточнение привожу здесь с учётом обстоятельств, о которых упомяну далее).
В целом Письмо, даже после редактирования Юрием, по крайней мере риторически, оставалось в рамках внутренней критики официальной идеологии. Правда, даже на уровне риторики, как каждый теперь может убедиться, оно содержит также некоторые элементы внешней критики. Так, о статьях 62 УК УССР («антисоветская агитация и пропаганда») и статье 187-1 говорится, что эти статьи противоречат не только тогдашнему конституционному закону Украинской ССР о свободе слова и печати (статья 105), но и Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей Организации Объединённых Наций. При этом цитируется статья 19 Декларации: «Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ». И далее говорится, что «Поскольку никакой закон не должен противоречить общепризнанным международным нормам, а также действующему конституционному закону, то законы, изложенные в статьях 62 и 187-1, должны быть ликвидированы».
Элементы внешней критики содержатся также в ссылке на кодексы демократических стран, которые «...Не предусматривают судебного преследования за критику того или иного общественного строя, ведь строй существует для человека, а не человек для строя. Строй, который объявил бы себя абсолютно совершенным, тем самым был бы обречён на упадок; критика существующих общественных отношений (экономических, административных, культурных и т. д.) является залогом их совершенствования. Лишь право явно франкистского характера может признавать справедливость законов, аналогичных изложенным в статьях 62 и 187-1 УК УССР. Жестокость наказаний, предусмотренных статьями 62 и 187-1, ещё больше усиливает возможность произвола».
Но когда сегодня, принимая во внимание коммунистическую риторику, говорят о такого рода текстах как о «национал-коммунистических», то такая оценка этих текстов учитывает лишь их стилистику. А это не совсем надёжное основание. Между убеждёнными украинскими национал-коммунистами 20-х годов и 60–70-ми годами лежит время горьких разочарований. Я не знал никого в диссидентской среде, кто был бы убеждённым национал-коммунистом. Возможно, к ним из старшего поколения принадлежал Ткаченко: с ним меня познакомил Погорелый уже после возвращения из ссылки, охарактеризовав его как «национал-коммуниста». Но насколько это так, и не выбрал ли он коммунистическую риторику как способ самозащиты, — остаётся открытым вопросом.
На самом деле, как свидетельствует борьба с национал-коммунизмом 20-х годов, даже совершенно искренняя вера в идеальное коммунистическое общество никого не защитила от обвинений в «буржуазном национализме». Наоборот, как раз внутреннюю критику идеологии партийные идеологи оценивали как наиболее опасную: она разрушала стереотипы или, точнее, мифологемы, взлелеянные большими усилиями системы. Внутренняя критика расшатывала эти склеротические образования, и это было опаснее для системы, чем распространение идей какой-либо совершенно иной философии или альтернативной идеологии. Ведь в случае внешнего противопоставления ещё нужно приложить усилия, чтобы из альтернативной философии или идеологии вывести следствия, которые бы подрывали коммунистическую квазирелигию.
Но важнее другое: все тогдашние обращения диссидентов в официальные инстанции (независимо от того, содержали они коммунистическую риторику или нет) основывались на логике, противоречащей марксистскому классовому принципу. Ведь важнейшие ценностно нагруженные понятия (свобода, права человека, справедливость, равенство) в текстах диссидентов возвышаются над классовым принципом. Думаю, что критика любой идеологии путём показа её внутренних противоречий или противоречий между декларируемыми принципами и практикой смертельно опасна для любой идеологии. Особенно для партии, которая проявляет очевидные признаки лицемерия — декларирует принципы, которым противоречит её политическая практика.
Показ того, что сказанное нельзя «квалифицировать» как «антисоветскую пропаганду» или отрицание социализма (ведь сразу встаёт вопрос, как понимать «советское» и «социалистическое»?), так или иначе побуждало людей думать. Достаточно было утвердить национальное сознание и демократию — права человека («социализм с человеческим лицом»), и это неминуемо означало конец коммунистической империи и диктатуры. В моём Письме обращается внимание на то, что термин «буржуазное» используется как ярлык для запугивания и оправдания репрессий. Именно в таких «деконструкциях» я использовал некоторые простейшие элементы семантики: здесь мои занятия аналитической философией нашли практическое применение.
* * *
Задним числом должен исправить ещё одну ошибку в уже упомянутой публикации в журнале «Сучасність» (№7, 2007): фамилия Раисы, работавшей машинисткой в Институте философии, — Полицина, а не Сидоренко. В теперь рассекреченных документах (некоторые из них далее цитирую) указано, что Евгений Пронюк 21 июня договорился с Полициной, чтобы она отпечатала около ста копий Письма, а после этого Василий Овсиенко 26 июня отвёз оригинал моего Письма Полициной в Немешаево (вблизи Киева). Поскольку Василий к тому времени уже закончил Киевский университет, то я ему посоветовал ехать домой, заверив, что всё остальное мы сделаем сами. В начале июля экземпляры письма были готовы, осталось их забрать. Тем временем у Евгения не было никого, кто бы мог это сделать. В этой ситуации он решил обратиться к Ларисе Масенко, известному теперь языковеду. По рассказу Евгения, он сначала спросил её, может ли она ради Украины отважиться на рискованный поступок, а потом объяснил, о чём идёт речь. Она согласилась.
Но Раиса 5 июля отказалась ей передать экземпляры Письма, настаивая, чтобы за ними приехал Евгений. Этот отказ мне показался крайне подозрительным: кто бы не захотел сплавить опасный груз, который пришли забрать? В разговоре с Евгением в Институте я настаивал, чтобы он ни в коем случае не решался ехать сам за бумагами. Вариант, при котором Евгений забирает размноженные экземпляры Письма, а у меня тем временем изымают оригинал Письма, ещё не отосланный в официальные учреждения, был совершенно неприемлемым. Ехать в Немешаево Евгению, за которым бесспорно следят, — совершенно безнадёжная затея, даже если бы и не было того подозрительного отказа Раисы. Не хочет Раиса передать, пусть держит у себя: если всё «чисто», она и сама в конце концов привезёт их в Институт, чтобы от них избавиться. Тем временем Евгению можно вообще «замереть» и ждать. Мой официальный протест — одно дело, а размножение и распространение моего Письма — совсем другое.
Как видим, размножение Письма не было нами организовано должным образом. Лучшим был бы вариант, чтобы после моего решения написать протест, всё организационное дело с размножением Письма вообще делалось без моего участия. То, что я должен был участвовать в организации его размножения, да ещё и подключить к этому людей из своего окружения — прежде всего Овсиенко, не свидетельствует о хорошей продуманности всего действия.
Так что я предостерёг Евгения, что буду действовать независимо. Потому что не мог медлить. Здесь я должен внести ещё одно исправление в уже опубликованный текст. В рассекреченных документах сказано, что я 5-го июля (а не 6-го, как сказано в том тексте) передал своё Письмо Петру Йолону, который был тогда секретарём партийной организации Института философии. Тогда же по дороге в Институт отдал один экземпляр Письма в Экспедицию ЦК КПУ (дом Городецкого), на имя Щербицкого, а второй отослал по почте с Главпочтамта на имя Брежнева. Йолон, едва взглянув на страницы Письма, немедленно начал искать выход — как меня спасти. Насколько я помню, он говорил мне, что это ещё ничего не значит, что можно всё уладить, что он, мол, вообще не видел и не читал моего Письма. Не помню, что он ещё говорил. Но я объяснил, что пути назад нет, что я отослал копии в официальные инстанции, и после этого вышел из кабинета. Как он мне рассказал уже теперь, он начал немедленно читать Письмо, но тут к нему зашли два кагэбиста (один из них «куратор» Института философии) и отобрали у него машинописную копию. То есть, после подачи Письма я ещё одну ночь переночевал дома. Как я теперь вспомнил, 6-го июля я ехал в Институт уже в предчувствии своего ареста. 6-го Евгения задержали с экземплярами Письма, которые он забрал у Полициной. А ко мне, после моего прибытия в Институт, подошли два кагэбиста и сказали, что должны провести обыск на квартире. Мы вышли из здания, машина стояла напротив наготове.
Поехали.
* * *
Подъехали к дому на Дарницком бульваре, поднялись на 5-й этаж и вошли в комнатку в нашей коммунальной квартире. Я уже упоминал, что в этой квартире проживали преимущественно учителя. Вера и дочь Мирослава (ей тогда исполнилось пять лет) были дома. Начался обыск, который длился, наверное, около двух часов. Обыск мы предвидели, приготовились: всё, что представляло бы для «них» «интерес», было устроено где-то в другом месте: в семьях сестёр Веры, младшей Марии и старшей Анюты, некоторые из книг у моей племянницы Наденьки — дочери моей двоюродной сестры Марии. Но в общем коридоре на полочке лежала общая тетрадь, а в ней переписанный Верой «Интернационализм или русификация?». Но кагэбисты, к счастью, не делали обыска в этом общем коридоре. Изъяли машинку, на которой я печатал Письмо, и разные другие мелочи. После того, как кагэбисты со мной вышли, соседка и подруга Веры, учительница истории Валентина Андреевна Щербина (родом с Днепропетровщины), которой Вера давала самиздат, взяла эту тетрадь и спрятала на своей полочке.
Настало время прощаться: то чувство, которое я могу воссоздать в памяти, могу передать словом «щемящее» — как особую разновидность душевной боли, в которой сочетается чувство жалости и вины. Последний взгляд на фигуру жены в момент прощания. Её уверяют, что берут меня всего на несколько дней. Так меня «задержали» шестого июля, а восьмого арестовали, приняв решение о содержании под стражей в «интересах следствия»).
* * *
Но далее я привожу три из многих ныне рассекреченных документов по делу «Блок», которые показывают истинную ситуацию, в которой мы действовали где-то с середины июня (обозначение «Документ» с номерами 1-3 моё собственное). В конце каждого документа привожу ссылку, в которой дан его шифр, принятый в Отраслевом государственном архиве (ОГА) Службы безопасности Украины.
Документ 1.
27 июня 1972 г. № 614-1
Сов. секретно
Экз. № 1 Серия «К»
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ УКРАИНЫ
товарищу ЩЕРБИЦКОМУ В. В.
Комитет госбезопасности при СМ УССР № 591-1 от 19 июня 1972 года информировал ЦК КП Украины об идеологически вредных и враждебных действиях отдельных сотрудников Института философии АН УССР. В числе таких лиц указывались ПРОНЮК Е. В., 1936 года рождения, беспартийный, библиограф Института; ЛИСОВОЙ В. С., 1937 года рождения, украинец, член КПСС, младший научный сотрудник, и БЫШОВЕЦ В. Е., 1936 года рождения, украинец, член КПСС, младший научный сотрудник.
26 июня сего года получены оперативные данные, что ПРОНЮК через свои связи предпринимает меры к размножению в 8-9 экземплярах антисоветского трактата ДЗЮБЫ «Интернационализм или русификация?» для последующего распространения этого материала среди окружения. Наряду с трактатом, он передал для размножения в ста экземплярах машинописный текст на 14 страницах т. н. «Открытого письма членам ЦК КПСС и ЦК КП Украины», автором которого значится ЛИСОВОЙ.
«Открытое письмо» по своему содержанию является клеветническим антисоветским документом. В нем делаются попытки обосновать незаконность ареста ДЗЮБЫ, СВЕТЛИЧНОГО и других объектов дела «Блок», содержатся утверждения об «антиконституционности» статей 62 и 187-1 УК УССР, предусматривающих ответственность за антисоветскую деятельность и клевету на советский строй; идея сближения наций расценивается как геноцид, «проводимый под знаменем социализма», высказывается мысль о проведении «открытой дискуссии» в партии по национальному вопросу.
Подчеркивая свою полную солидарность с действиями арестованных лиц, автор просит его также арестовать и судить. /Текст «Открытого письма» прилагается/.
ЛИСОВОЙ и ПРОНЮК, а также их единомышленник БЫШОВЕЦ взяты в проверку.
Принимаются меры по выявлению и пресечению враждебных
действий с их стороны.
ПРИЛОЖЕНИЕ: по тексту на 25 листах.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ УКРАИНСКОЙ ССР
/В. Федорчук/
Как видно из этого сообщения, с середины июня наши действия, нацеленные на размножение подготовленного нами номера «Українського вісника» и моего «Открытого письма», уже контролировались кагэбистами.
Документ 2
30 июня 1972 № 626-1 г. Киев
Совершено секретно
Серия «К»
Экз. № 1
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ УКРАИНЫ
товарищу ЩЕРБИЦКОМУ В. В.
СПЕЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет госбезопасности при СМ УССР № 614-1 от 27 июня сего года докладывал о том, что библиограф Института философии АН УССР ПРОНЮК Е. В. предпринимает меры к размножению в ста экземплярах машинописного текста т. н. «Открытого письма» членам ЦК КПСС и ЦК КП Украины, автором которого значится научный сотрудник того же института, член КПСС ЛИСОВОЙ В. С.
30 июня установлено, что ПРОНЮК через своего единомышленника ОВСИЕНКО В. В., 1949 года рождения, члена ВЛКСМ, выпускника филфака Киевского госуниверситета, передал известной органам КГБ машинистке сто конвертов и список адресов, по которым они намерены разослать указанное «открытое письмо».
Со слов ОВСИЕНКО этот документ будет рассылаться по почте с различных городов республики. В списке адресатов перечислен ряд писателей, союзные, республиканские и областные писательские организации, творческие союзы, редакции некоторых газет и журналов, а также отдельные обкомы и горкомы КП Украины.
Ксерокопия адресов прилагается.
КГБ при СМ УССР изыскиваются возможности документации и пресечения враждебных действий ПРОНЮКА и его единомышленников. Однако эти мероприятия затруднены, т. к. ПРОНЮК, ЛИСОВОЙ и их соучастники ведут себя настороженно, принимают меры к обнаружению наблюдения органов КГБ, стараются не оставлять уликовых материалов своей враждебной деятельности.
ЛИСОВОЙ проживает в общей квартире с шестью соседями, что создает серьезные препятствия для негласной проверки наличия у него рукописи «Открытого письма» и других антисоветских документов. Сложности аналогичного характера пока не позволяют осуществить эти мероприятия в отношении ПРОНЮКА и БЫШОВЦА.
ПРИЛОЖЕНИЕ: по тексту на 4 листах.
Председатель Комитета госбезопасности при Совете министров Украинской ССР
В. Федорчук
Отслеживание наших действий, связанных с размножением нашего выпуска «Вісника» и моего «Открытого письма», стало возможным вследствие контроля над деятельностью Раисы Полициной, которую заставили быть агентом КГБ (под псевдонимом «Валя»). Об этом говорится в нижеприведённом документе.
Документ 3.
13 июля 1972 г.
Совершенно секретно
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ
СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СОЮЗА ССР
гор. Москва
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
об аресте сотрудников Института философии
АН УССР ПРОНЮКА И ЛИСОВОГО
Комитетом госбезопасности при СМ УССР в 1972 году была активизирована разработка группы сотрудников Института философии АН УССР, поддерживающая преступные связи с арестованными в январе с.г. объектами дела «Блок» СВЕРСТЮКОМ, СВЕТЛИЧНЫМ, ДЗЮБОЙ и другими. В указанную группу входили:
ПРОНЮК Евгений Васильевич, 1936 года рождения, украинец, библиограф института. Его отец был судим в прошлом на 15 лет лишения свободы как участник банды ОУН.
ЛИСОВОЙ Василий Семенович, 1937 года рождения, украинец, член КПСС, младший научный сотрудник института.
БЫШОВЕЦ Василий Елисеевич, 1936 года рождения, украинец, член КПСС, младший научный сотрудник института.
ПРОНЮК попал в поле зрения органов КГБ еще в 1965 году, когда по показаниям арестованных за проведение антисоветской националистической деятельности ОСАДЧЕГО, ГОРЫНЯ, ГРИНЯ, ГЕВРИЧА, а также свидетелей ПЕНЬКОВСКОГО и ЮСЬКИВА было установлено, что он занимался хранением, размножением антисоветской националистической литературы и документов «самиздата», которые систематически давал для ознакомления названным выше лицам и другим своим близким связям. На допросе 21.Х. 1965 года ПРОНЮК показал, что некоторые антисоветские документы он брал для ознакомления у Светличного, через которого познакомился с объектами дела «Блок» – ОСАДЧИМ и ГОРЫНЕМ.
За хранение антисоветской националистической литературы ПРОНЮК в июле 1966 года был исключен из рядов КПСС, а в августе того же года отстранен от научной работы и переведен в библиотеку Института на должность библиографа.
Оставаясь на прежних позициях, ПРОНЮК в 1969 году установил связь со студентом Киевского института иностранных языков КОРОБАНЕМ, совместно с которым написал антисоветский документ «О социальном положении в СССР».
КОРОБАНЬ в 1970 году за проведение враждебной деятельности был приговорен к 7 годам лишения свободы, а ПРОНЮК в связи с обострением болезни /открытая форма туберкулеза/ к уголовной ответственности не привлекался.
Начиная с 1968 года стали формироваться постоянные контакты ПРОНЮКА с ныне арестованными объектами дела «Блок» – СВЕРСТЮКОМ, который с помощью ПРОНЮКА занимался враждебной обработкой ЛИСОВОГО, БЫШОВЦА и ряда других лиц, идейно подключил их в локальную антисоветскую группу, активно использовал в размножении и распространении материалов «самиздата». При аресте у СВЕРСТЮКА изъята «Программа украинской национальной коммунистической партии».
С помощью этих лиц СВЕРСТЮК организовал в 1971 году размножение антисоветской рукописи «Рассказы о пережитом» объекта дела «Блок» кадрового оуновца ШУМУКА /7 июля с. г. Киевским областным судом по ст. 62 УК УССР ШУМУК осужден к 10 годам лишения свободы и 5 годам ссылки/.
После ареста СВЕРСТЮКА это группирование возглавил ПРОНЮК. К нему, по данным агентов «Вали», «Овода», службы «НН» [наружное наблюдение] и оперативной техники, кроме упомянутых выше ЛИСОВОГО и БЫШОВЦА принимают научные сотрудники Института философии РОЖЕНКО М.М., КУДРА С.Г. – члены КПСС; ЦЫМБАЛ В.М., беспартийная; литературный редактор журнала «Философская мысль»; КИРИЧЕНКО С.Т., беспартийная; научный сотрудник Института литературы АН УССР МАСЕНКО Л.Т., беспартийная; студент-выпускник Киевского госуниверситета ОВСИЕНКО В.В., член ВЛКСМ и другие.
ПРОНЮК и его единомышленники ставили перед собой задачу после ареста ДЗЮБЫ, СВЕТЛИЧНОГО, СВЕРСТЮКА и других лидеров т. н. “национального движения” возглавить его, возобновить выпуск нелегального антисоветского журнала «Украинский вестник», чтобы, как заявил ПРОНЮК, «откликнуться на события и не утерять преемственности» арестованных объектов дела «Блок», изыскивали средства для размножения антисоветских материалов.
Проводя враждебную деятельность, ПРОНЮК и ЛИСОВОЙ проявляли большую изощренность и изобретательность, были весьма осторожны и конспиративны, хорошо осведомлены о методах работы органов КГБ, стремились избегать ситуаций, позволяющих документировать их преступную деятельность. Связь с единомышленниками они осуществляли через посредников БЫШОВЦА, ЦЫМБАЛ, КУДРУ и др., организовывали контрнаблюдение. ПРОНЮК, например, передачу документов для размножения осуществлял через ОВСИЕНКО, а отпечатанные материалы посылал забрать МАСЕНКО и ШЕВЧЕНКО, при чем сам следил за действиями этих лиц и пытался выявить наружное наблюдение органов КГБ. Встречи, как правило, проводились в открытых малолюдных местах. В помещениях обменивались записками, которые сразу же сжигались.
Начиная c 1968 года в разработке СВЕРСТЮКА и указанного группирования использовалась агент «Валя», которую они активно обрабатывали в националистическом духе, обучали методам конспирации и готовили на роль машинистки для размножения особо важных, с их точки зрения, антисоветских материалов. Для этих целей «Вале» была передана ПРОНЮКОМ пишущая машинка и составлена «инструкция» для обращения с ней и антисоветскими материалами «самиздата», в которой указывалось, что перед и после размножения документов следует протереть наждачной бумагой шрифт пишущей машинки, чтобы изменить его конфигурацию, печатать в тонких резиновых перчатках, уничтожать копирку, хранить пишущую машинку, размноженные документы, запасы бумаги и иные принадлежности в оборудованном в доме тайнике.
ПРОНЮК разработал агенту «Вале» следующую легенду на случай задержки ее органами КГБ с поличным:
«Машинку приобрела в комиссионном магазине в неизвестного человека, который не успел ее сдать, заплатила за нее 160 рублей, этого человека не знаю и не помню. Печатала документы, не вникая в их смысл, если бы заметила что-то антигосударственное – сразу же заявила бы в дирекцию института».
В процессе обработки «Вали» СВЕРСТЮК, а затем и ПРОНЮК систематически оказывали ей материальную поддержку, помогали в учебе, устройстве на работу и т. п.
21 июня с. г. ПРОНЮК при посредничестве ЦЫМБАЛ вызвал агента «Валю» на встречу и дал ей поручение размножить антисоветский трактат ДЗЮБЫ «Интернационализм или руссификация?» и «Открытое письмо» Лисового, адресованное членам ЦК КПСС и ЦК КП Украины.
26 июня агента «Валю» посетил Овсиенко Василий Васильевич, 1949 года рождения, украинец, член ВЛКСМ, выпускник филологического факультета Киевского университета, и от имени ПРОНЮКА вручил ей названный тракт ДЗЮБЫ /более 200 страниц машинописного текста/ для перепечатки в восьмидесяти экземплярах, а также передал для размножения в 100 экз. машинописный текст «Открытого письма», автором которого значился ЛИСОВОЙ.
В «Открытом письме» идея сближения наций в СССР расценивается как геноцид, «проводимый под знаменем социализма», высказывается мысль о необходимости «общеевропейской дискуссии по национальному вопросу» с участием ДЗЮБЫ, СВЕРСТЮКА и других лиц, привлеченных к уголовной ответственности за антисоветскую деятельность, делается попытка обосновать «незаконность» их ареста.
Демагогически заявляя, что ст. 62 УК УССР, предусматривающая уголовную ответственность за антисоветскую агитацию и пропаганду, и ст. 187-1 УК УССР, предусматривающая уголовную ответственность за распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй, противоречит Конституции СССР и Декларации прав человека, автор «Открытого письма» призывает отменить их. «Распространение даже антисоветских идей, поскольку они могут составлять чьи-то убеждения», по его утверждению, «не может считаться преступным».
Оценивая меры по пресечению враждебной деятельности авторов и распространителей «самиздата» как стремление «заморозить общественную жизнь» и прогресс, автор «письма» призывает узаконить «самочинное изготовление и распространение» самиздатовской «литературы: художественной, документально-информационной, публицистической и др.»
«Открытое письмо» содержит клеветнические утверждения по вопросам экономической политики нашего государства, развития советской демократии, подбора и расстановки кадров в учебных заведениях и научных учреждениях и др.
30 июня с. г. ОВСИЕНКО вторично посетил агента «Валю» и передал ей конверты и список адресов, по которым намечалось разослать указанное «Открытое письмо». Со слов ОВСИЕНКО, документ планировалось направить по поште из различных городов республики ряду писателей, в союзные, республиканские и областные писательские и творческие организации, редакции некоторых газет и журналов, а также обкомы и горкомы КП Украины без указания обратного адреса.
ПРОНЮК и ЛИСОВОЙ, намереваясь широко распространить «Открытое письмо» в целях враждебной пропаганды, прибегли к известной тактике украинских националистов, когда они адресуют свои антисоветские документы «самиздата» в официальные инстанции и одновременно под этим прикрытием широко распространяют их в республике по нелегальным каналам и передают за границу.
По данным агента «Вали», изготовлением в распространением «Открытого письма» преследовалась цель «известить общественность в появлении нового лидера» т. н. «национального движения» на Украине вместо арестованных ДЗЮБЫ, СВЕТЛИЧНОГО, СВЕРСТЮКА, ЧЕРНОВОЛА и таким образом попытаться активизировать антисоветскую деятельность националистических элементов.
5 июля ЛИСОВОЙ вручил копию своего «Открытого письма» и. о. заместителя директора Института философии АН УССР ЙОЛАН П.Ф. и заявил, что этот материал он якобы лично передал в ЦК КП Украины.
В ходе дальнейшего контроля за поведением ПРОНЮКА и ЛИСОВОГО было установлено, что у них имеются и другие отпечатанные экземпляры «Открытого письма», у ЛИСОВОГО хранится пишущая машинка, а жена БЫШОВЦА владеет техникой машинописи и с ее помощью или через другие возможности они могут размножить «письмо» в случае, если агент «Валя» откажется его печатать.
В связи с этим и учитывая, что ПРОНЮК длительное время безнаказанно занимался активной антисоветской деятельностью, вовлекал большое количество новых лиц для выполнения своих преступных поручений, уклоняясь от непосредственного участия в акциях, которыми можно было бы его изобличить во враждебной деятельности, а также и то, что он совместно с ЛИСОВЫМ принимал конкретные меры, чтобы возглавить националистическое «движение» после ареста основных объектов дела «Блок», по согласованию с Прокурором республики мы разрешили агенту «Вале» размножить «Открытое письмо» и подготовить адреса на конвертах. Этим была создана реальная возможность захватить ПРОНЮКА с поличным и привлечь его к уголовной ответственности.
По нашему заданию агент «Валя» 5 июля по телефону-автомату уведомила ПРОНЮКА, что материал готов и для передачи его и договорилась встретиться с ним в тот же день вечером.
ПРОНЮК, тщательно проверяясь, прибыл к месту встречи в сопровождении двох других лиц, одним из которых являлась МАСЕНКО Лариса Терентьевна, 1942 года рождения, украинка, беспартийная, младший научный сотрудник Института языкознания АН УССР, дочь умершего поэта Т. Масенко. Последняя вышла на встречу с «Валей» и от имени ПРОНЮКА попросила передать ей размноженное «Открытое письмо». В соответствии с заданием «Валя» отказалась передать ей документы. ПРОНЮК в это время вел наблюдение за агентом, однако в личный контакт с «Валей» не вступал. Второй человек, сопровождавший ПРОНЮКА, устанавливается.
6 июля рано утром ПРОНЮК сам явился к «Вале» домой /агент проживает в 40 км от Киева/, забрал тексты «Открытого письма», конверты с адресами и выехал в Киев, где был задержан. По сообщению агента «Валя» он сжег подлинники списков адресов, по которым намечалось разослать «Открытое письмо».
При личном обыске у ПРОНЮКА обнаружено и изъято 75 экземпляров «Открытого письма» и 112 конвертов с отпечатанными адресами.
С санкции прокурора УССР в тот же день в квартире ПРОНЮКА, ЛИСОВОГО, а также их близких связей БЫШОВЦА и ЦЫМБАЛ проведены обыски.
У ЛИСОВОГО изъят один экземпляр «Открытого письма» и пишущая машинка. В квартире ПРОНЮКА обнаружено 700 его писем, записи, фото и магнитофонные пленки, которые изучаются. У БЫШОВЦА и ЦЫМБАЛ имеющих значение для следствия материалов не обнаружено.
На допросе в КГБ УССР ЛИСОВОЙ признал, что является автором «Открытого письма», заявил, что отпечатал его сам на изъятой при обыске машинке в нескольких экземплярах. Три экземпляра 5 июля с.г. направил в инстанции, в том числе в ЦК КПСС, один оставил себе, а рукопись якобы уничтожил. На вопрос о том, сколько всего было отпечатано экземпляров «письма» и кому из частных лиц или знакомых оно передавалось, ЛИСОВОЙ отвечать отказался.
ПРОНЮК дал показания, что изъятые у него 75 экземпляров «Открытого письма», в том числе один идентичный с «письмом», изъятым у ЛИСОВОГО, и конверты с адресами принадлежат ему. Сознался, что по договоренности с машинисткой за соответствующую плату он размножил этот документ для распространения. Для этого приобрел и вручил машинистке папиросную бумагу, 112 конвертов, которые изготовил сам, а также список адресов. Назвать машинистку или сообщить ее адрес отказался.
В том случае, если ПРОНЮК в ходе дальнейшего следствия даст показания на агента «Валю», последняя представит органам КГБ официальное заявление о неоднократных попытках ПРОНЮКА привлечь ее к размножению враждебных документов и других известных ей фактах его враждебной деятельности. В частности, сообщит о передаче ей ПРОНЮКОМ пишущей машинки специально для размножения «самиздата», от чего она под различными предлогами уклонялась. Размножить «Открытое письмо» согласилась, чтобы раскрыть замыслы ПРОНЮКА и разоблачить его враждебную деятельность.
ПРОНЮК и ЛИСОВОЙ по согласованию с ЦК КПУ и с санкции прокурора УССР 8 июля с.г. арестованы по обвинению в проведении антисоветской агитации и пропаганды /ч. 1 ст. 62 УК УССР/.
Внутрикамерному агенту «Кузнецову» ПРОНЮК рассказал о том, что поводом к написанию ЛИСОВЫМ «Открытого письма» якобы послужили в июне-июле с.г. в г. Киеве судебные процессы по уголовным делам на СЕРГИЕНКО и ШУМУКА, а распространением этого документа преследовалась цель «запугать» правосудие и тем самым смягчить меру наказания другим арестованным, дела на которых в судебных инстанциях еще рассматривались.
ПРОНЮК утверждал, что о написании ЛИСОВЫМ «Открытого письма» будет известно за границей.
Вместе с тем, в беседе с «Кузнецовым» он заявил, что опасается за другой документ под названием «Программа укоммунистов» /изъят у арестованного СВЕРСТЮКА/, который может свидетельствовать против него.
Нами будет назначена лексическая экспертиза и проводятся другие оперативные мероприятия с целью установления возможной причастности ПРОНЮКА и ЛИСОВОГО к написанию программы «Программы УНКП».
В отношении других сотрудников Института философии АН УССР, примыкавших к ПРОНЮКУ и ЛИСОВОМУ, сообщено Киевскому обкому партии для принятия соответствующих мер.
12 июня с.г. на партийном собрании Института философии ЛИСОВОЙ исключен из членов КПСС. Собрание поручило партбюро и руководству института разобраться с каждым из сотрудников, примыкавшим к группе ПРОНЮКА и ЛИСОВОГО.
О результатах дальнейших оперативных мероприятий и ходе следствия по уголовным делам на ПРОНЮКА и ЛИСОВОГО будем докладывать.
ЦК КП Украины по всем материалам, связанным с действиями указанной группы в Институте философии АН УССР, подробно и своевременно информируется.
ПРИЛОЖЕНИЕ: Ксерокопия «Открытого письма» /перевод с украинского/ на 21 листе, только адресату [последняя фраза, выделенная курсивом, дописана от руки – В. Л.]
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ УКРАИНСКОЙ ССР
генерал-полковник
В. ФЕДОРЧУК
[Дописано рукой]: Верно. Зам. начальника отделения 2 отдела 5 Управления КГБ при СМ УССР
майор /подпись/ /Руденко/
Раису, видимо, выследили на перепечатке самиздатовских текстов и заставили сотрудничать. Это был обычный в КГБ способ вербовки агентов. Я скорее сочувствовал таким людям, которые попадали в расставленные кагэбистами сети, из которых люди уже не могли вырваться. Но, в свете теперь известного, мне вспоминается её фраза из нашего короткого разговора. Этот разговор состоялся во время встречи нас троих (Раисы, Евгения и меня) на Аскольдовой могиле, когда мы договаривались с ней о размножении моего Письма. До этой встречи я Раису видел лишь мельком в Институте, не был с ней близко знаком. Вообще говоря, не было никакой необходимости привлекать меня к этим переговорам с ней относительно размножения Письма. Здесь и я, и Евгений явно нарушали элементарные правила, связанные с размножением самиздата. Упомянутый короткий разговор с Раисой состоялся во время этой встречи, когда Евгений отошёл от нас на несколько минут. Она сказала, что для неё стало неожиданностью узнать, что я сотрудничаю с Пронюком в деле распространения самиздата. В том, как она это сказала, мне послышался какой-то намёк. Возможно, таким образом Раиса хотела меня предостеречь. Впрочем, это лишь предположение. Но заставив Раису отказаться передать экземпляры размноженного Письма Ларисе Масенко, кагэбисты фактически её «засветили». Я написал о подозрительности этого отказа ещё до ознакомления с выше процитированными рассекреченными документами. Такой отказ был исключением во всём моём опыте размножения и распространения самиздата.
Раздел VIII. Следствие
Розкрилені висі твої пронеслися, попереду прірва. І ока не мруж.
Ти бачиш розхрестя дороги? Молися,
бо ще ти не воїн і ще ти не муж.
В. Стус
1. Следствие
Привезли на Владимирскую, в следственный изолятор КГБ: открылись металлические ворота, завели в небольшую комнатку на первом этаже. Просят раздеться, осмотр. Процедура длится недолго, всё завершено. Говорят, что могу взять какую-нибудь книгу для чтения, выбор предлагают скудный, не помню, какую взял и читал ли её вообще. Кто-то из службы ведёт в камеру: руки за спину, сзади надзиратель, щёлкает пальцами (как потом понял, чтобы предотвратить встречу — заводят в нишу переждать, пока проводят другого). Так будет повторяться ежедневно.
Поселяют в «камеру» — небольшую высокую комнату, с одним зарешёченным окном. Сначала, около двух недель, живу в камере один. Кровать, тумбочка, в углу сосуд для туалета («параша», на языке заключённых) — вся «обстановка». Надзиратель каждый раз заглядывает в «глазок» — внешнее наблюдение. Вечером включают свет, очень яркий: когда после объявления «отбоя» (отхода ко сну) я лёг в кровать, казалось, что этот свет не даст уснуть. Попробовал прикрыть лицо простынёй, открылась «кормушка» (окошко в двери, через которое заключённые общаются с надзирателем и получают еду): надзиратель предупредил, что закрывать лицо не разрешается. Чтобы лежать на спине, приходилось закрывать глаза рукой.
Воспринимаю свой новый быт как нечто ожидаемое. Но первые ночи сплю беспокойно. Причина — тревожные сновидения. Из них запомнилось одно: из подвала следственного изолятора «слышу» стук костей, которые «осознаю» как кости ранее замученных заключённых. Эти сновидения были неожиданными. Была, конечно, тревога: что они делают с женой, кого ещё может затронуть мой арест и т. п. Но такие тревоги были ежедневным сопровождением моей жизни на протяжении многих лет, как и жизни каждого, кто был причастен к написанию, размножению и распространению самиздата. Возрос лишь уровень угроз: оказался один на один с ситуацией, которую раньше считал только вероятной. И всё же в начале своего пребывания в следственном изоляторе я оценивал эти свои сновидения как возможную реакцию моей психики на новую ситуацию. Лишь позже, в свете позднейших «обогащений» моего опыта, я поставил эти сновидения под вопрос.
Начались вызовы на допрос. Мой следователь Караванов предъявил мне обвинение в написании «Открытого письма», которое было квалифицировано как «антисоветское». Я не согласился с такой оценкой его содержания. На момент моего ареста я, как и большинство украинских диссидентов, был убеждён, что выражение «советская власть» используется как прикрытие диктатуры партийно-государственной верхушки. Защита советов, как учреждений представительной демократии, от узурпации их власти централизованным партийно-государственным аппаратом была высказана мной в 1969 году в «Открытом письме к депутатам Верховного Совета УССР», подписанном псевдонимом «Антон Коваль». Там же была высказана необходимость возвращения к многопартийной системе, свободной борьбе партий за своё представительство в советах.
* * *
Внутренняя критика идеологии. Содержание «Открытого письма в ЦК КПСС», как и мои объяснения на досудебном следствии, лежат в русле внутренней критики государственной идеологии в СССР. Такая критика была возможной потому, что коммунистическая идеология в СССР продолжала декларировать позитивные основополагающие принципы (социальная справедливость, интернационализм и т. п.), которым явно противоречили некоторые другие принципы, а особенно практика осуществления этих позитивных принципов. Внутренняя критика идеологии и политической практики нацелена на то, чтобы показать идеологу и политику, что они фактически делают и каковы последствия их действий. Преимущество внутренней критики заключается в том, что критик не навязывает сторонникам определённой идеологии свою систему понятий и способ речи, а разговаривает на их языке. Таким образом он способен вступать в диалог с её сторонниками на их собственной «площадке». Понятно, что самоуверенные коммунистические бюрократы не нуждались ни в каком критическом анализе. Они были уверены, что хорошо знают, что делают. Главное для них сначала захватить власть, а потом её удерживать. Удерживать любыми средствами, поскольку «светлая» цель оправдывает средства. Но в случае русского коммунизма было бы преувеличением считать, что в данном случае мы имеем дело только с оправданием политической практики «светлой» целью. Природу русского коммунизма (большевизма) нельзя должным образом объяснить, если не учитывать, что он был реакцией на распад российской империи. И попыткой её спасти другим способом, под другими лозунгами. Роль этого фактора слишком важна, чтобы пренебрегать им. Такая реакция повторяется в российской идеологии и политике: В. Путин заявил, что распад СССР, коммунистической империи, является «геополитической катастрофой». Потому что российские политики, а вместе с ними и большинство этнических русских в России, никак не могут отказаться от имперской парадигмы политического мышления.
Предвидение Ивана Франко в статье «Что такое прогресс» о том, что практическое осуществление идей Маркса приведёт к неизмеримо большему злу по сравнению с тем, на преодоление которого оно нацелено, опирается на анализ общественно-политической философии Маркса. Этот вопрос касается дискуссий, несёт ли К. Маркс интеллектуальную ответственность за практическое применение своих идей в коммунистических политических движениях. Особенно в тех, где коммунисты захватили и удерживали власть. Как это было в случае с российскими большевиками. Если речь идёт об ответственности лиц, то наибольшую ответственность за ход событий в России несёт Ленин. С учётом того, как он приспособил идеи Маркса к условиям России, и какой способ практического осуществления этих идей предложил. На сегодня украинский читатель имеет в своём распоряжении разного рода публикации, касающиеся этой темы. Включая архивные документы, которые касаются непосредственного участия Ленина в установлении террористической диктатуры в СССР и физическом уничтожении своих идеологических оппонентов.
В технологии удержания власти большевики ввели сочетание насилия с риторикой, рассчитанной на «массы». Эта риторика основывалась на переворачивании понятий: белое называй чёрным, а чёрное белым. И повторяй это массово и непрерывно. До тех пор, пока в массовом сознании образцом «интернационалиста» не станет русский шовинист. А тот, кто защищает право наций на существование и взаимоуважение между нациями, благодаря зомбированию, будет считаться националистом в негативном значении слова (враждебное отношение к другим нациям). Таким образом на уровне массового сознания создавались подобия, в которых должные значения терминов и принципов становятся искажёнными. Отсутствие демократии — это настоящая, «социалистическая демократия», а осуществление прав человека — «буржуазная демократия». И так далее. Название государства «СССР» необходимо брать в кавычки, потому что за каждой буквой стоит слово, предназначенное прикрывать практику, противоречащую содержанию этого слова. В его общепринятом значении. Как раз Ленин положил начало демагогии, основанной на переворачивании смысла понятий. Но успешность демагогии стала возможной вследствие своевременного изъятия из общества тех, кто не поддавался зомбированию. Сочетание демагогии с террором стало средством удержания власти.
Когда сегодня в ответ на принципиальную критику тоталитарной и имперской политики «советского» государства указывают на определённые позитивные элементы, то я за сохранение этих элементов. Но явно необоснованным является ностальгический акцент на этих элементах ради реабилитации коммунистической политической системы и идеологии. За этим стоит представление, что если какая-то политическая система оценивается негативно, то в ней не может существовать что-то достойное сохранения. Между тем в истории не существовало ни одного общественно-политического строя, который бы не содержал чего-то достойного сохранения. Из того, что мы (с точки зрения наших ценностных убеждений) негативно оцениваем древневосточные деспотии, не следует отрицание позитивной роли египетских фараонов в поддержании ирригационных сооружений на Ниле. Даже в российской империи на момент осуществления «пролетарской революции» были позитивные элементы, достойные сохранения. Они были отброшены большевиками под лозунгом «Весь мир насилья мы разрушим до основанья».
Важнее другое: те, кто подчёркивают определённые достижения коммунистической политики, чаще всего утверждают, что грандиозная задача индустриализации-модернизации аграрной России была всё-таки успешно выполнена. Но если смотреть на осуществление идеологии коммунизма с точки зрения модернизации, то важнейшим является вопрос, существовала ли альтернатива большевистскому способу модернизации. И насколько коммунистический способ модернизации был успешным в свете этой альтернативы. Не забывайте, что речь идёт о полувеке. А такая альтернатива существовала — не только теоретически, но и была представлена в определённых практиках. Я имею в виду и Столыпинские реформы в сельском хозяйстве, и начало индустриализации на основе рыночной экономики, а также массового просвещения и образования. Во времена Временного правительства возникла многопартийная система, которая могла бы утвердиться, если бы Учредительное собрание не было разогнано, ведь «Караул устал».
Российская история на протяжении XIX-XX вв. демонстрирует одну и ту же логику. Российские политики не идут на принципиальные реформы, а ограничиваются полуреформами. Такие реформы заведомо не могут дать желаемого результата. После неудачи наступает реакция, которая каждый раз является возвращением к авторитаризму восточного типа, к диктатуре. К парадигме, заложенной Петром I. Реакция сметает начатки уже имеющихся позитивных изменений. При этом важным, если не самым важным мотивом этой реакции, являются попытки спасти империю от её очередного распада. Ленин, определив империализм как последнюю стадию капитализма, выписал теоретическую индульгенцию большевикам от упрёков в империализме. И проложил возможность сохранения империи под коммунистическими лозунгами. Реакционность российской политики мы видим и в современном неоимпериализме Путина-Медведева. И снова распад империи оценён как «геополитическая катастрофа». Потому что до мышления в формулах «после империй» российские политики не смогли дорасти. А вместе с ними, конечно же, и сами русские: ведь политика в большой степени формирует общественное сознание. И всё снова возвращается «на круги своя». Известно, что идея советов, как органов представительной демократии, возникла за пределами большевистской идеологии, но её популярность побудила большевиков перехватить этот лозунг, чтобы свести власть советов на нет, опираясь на соответственно истолкованный принцип «демократического централизма». И на признание большевистской партии руководящей силой в обществе. А соответственно деятельность советов была полностью подчинена этой руководящей силе.
После второй мировой войны солдаты, побывав в европейских странах, убедились, что «пролетарии» живут в этих странах лучше, чем в «пролетарском» государстве. Чем дальше, тем больше становилась очевидной неспособность «советской» политической системы обеспечивать экономический прогресс и всеобщее благосостояние. За исключением военной отрасли, а отчасти энергетики и добывающей промышленности, основные отрасли экономики, от которых прямо зависело благосостояние народа (сельское хозяйство, лёгкая и пищевая промышленность и т. д.), оставались отсталыми. Партийные чиновники и их дети в период Брежнева уже не покупали костюмы и обувь «советского» производства. Но даже в военной отрасли отставание в электронике побуждало к похищению секретов западных электронных технологий. Неудивительно, если принять во внимание запрет «кибернетики» как «буржуазной» науки. При плодородных землях, в частности в Украине, во времена Хрущёва-Брежнева нарастала острая потребность в закупке зерна за границей. В моём «Открытом письме» в той или иной мере указано на неэффективность «советской» политики в сфере экономики.
Но важнее то, что большевистский способ модернизации осуществлялся не только за счёт жестокой эксплуатации человеческого ресурса, а путём совершения массовых преступлений против человечества. И если бы даже коммунистическая экономическая политика оказалась эффективной, совершение этих преступлений стало бы решающим в оценке идеологии и практики русского коммунизма как преступных.
* * *
Было бы наивно воспринимать использование мной риторики официальной идеологии марксизма-ленинизма в тогдашней идеологической борьбе как свидетельство приверженности автора официальной философии или идеологии. Бесспорно, я мог вести спор, пользуясь официальным языком. В моём «Открытом письме» существуют очевидные признаки злоупотребления этим языком. Они остались даже после того, как Юрий Бадзё немного почистил первоначальный его вариант. Но важно иметь в виду, что неявным подтекстом моей критики был аналитический подход. Ведь в центре моего внимания находился анализ того значения, в котором в официальной идеологии тогда использовались термины, ставшие ярлыками — «советская власть», «социализм», «национализм», «интернационализм» и т. п. Всё же моё «Открытое письмо» относится к риторике идеологической борьбы. Противопоставление Ленина Сталину оставалось в 60–80-е годы средством идеологической борьбы, нацеленной на расширение демократических свобод. То же самое касалось дискуссий по национальному вопросу. Критика Лениным великодержавного русского шовинизма, которому он вынужден был объявить «смертельный бой», хотя и мотивированная у него прагматическими соображениями, позволяла цитировать его в защиту права наций на самоопределение. Но мои ссылки на Ленина не стоит воспринимать как свидетельство того, что я не знал недостатков его философии или его роли в основании им террористической диктатуры. Хотя в то время мы действительно знали значительно меньше о личной причастности Ленина к террору.
Чтобы не отпугивать своих адресатов радикализмом своей позиции, в своём Письме я не заявил открыто, что диссидентское движение направлено против существующей тоталитарной политической системы и против прикрытия словом «интернационализм» русского империализма. Но важен был не только расчёт не испугать адресатов. Заявление, что диссидентское движение направлено против «советского» тоталитарного государства именно потому, что оно является диктаторским, тоталитарным, не годилось для защиты арестованных. Ведь такой тезис был бы находкой для следователей: они бы подхватили его, подчёркивая, что Лисовой признаёт направленность всего диссидентского движения против «советского» государства. Аргумент, что это государство на самом деле не является советским, не был бы упомянут. Этим приёмом кагэбисты хорошо владели. Если бы я заявил, что арестованные диссиденты действительно выступали против существующей политической системы как тоталитарной, то следствию было бы достаточно ухватиться за это моё утверждение, опустив моё указание на мотив такого действия.
Лучшим способом была частичная критика государственной политики — экономической, социальной, правовой, национально-культурной и т. д. Лучше показывать явное лицемерие идеологии: что советская власть на самом деле не является властью советов (как органов представительной демократии), что интернационализм на самом деле не является интернационализмом в позитивном значении этого слова и т. д. А итог, с каким государством мы имеем дело, должен следовать как вывод из этой частичной критики. Потому что он становится очевидным и его может сделать «обычный советский человек». Это более убедительный подход. Общая оценка даже современного украинского государства как олигархического, авторитарного и т. п. также мало эффективна. Лучше идти «снизу» — от анализа конкретных политических действий, следствием которого был бы общий вывод. Сказанное не означает преуменьшения ценности обобщений. Но для защиты арестованных диссидентов, как и для самозащиты на следствии, эффективнее была частичная внутренняя критика государственной политики и идеологии.
Также большинство свидетелей не считали, что нужно искренне говорить об истинной позиции обвиняемого, философской или политической. Из свидетелей только мой университетский однокурсник Воропаев, с которым я учился два последних года в университете, засвидетельствовал на следствии, что я в свои студенческие годы критиковал Ленина. Эти его показания зафиксированы в нашем «Уголовном деле» (Том 3, л. 217-218). Он сказал об этом так: «Лисовой любил выпятить так называемые достижения буржуазной философии и всегда старался найти якобы имеющиеся непоследовательности в работах В. И. Ленина „Материализм и эмпириокритицизм“ и в „Философских тетрадях“. Лисовой часто путал гибкость В. И. Ленина в вопросах тактики и стратегии революционной борьбы с якобы политической неустойчивостью на практике и эклектикой в теории. Все это у Лисового не носило воинствующего характера. Хотя он это не пропагандировал, но такие мнения он высказывал». В общем же для свидетеля заявить об отсутствии демократии в СССР, о партийно-государственной диктатуре, а, следовательно, антисоветском и антисоциалистическом характере самой политической системы, означало занять позицию, которая, в свою очередь, была бы оценена как антисоветская. С соответствующими последствиями.
До какой степени меня и некоторых других украинских диссидентов можно было бы назвать сторонниками «социализма с человеческим лицом»? Я считал и сегодня считаю, что для этого были основания. Ведь украинские диссиденты защищали не только культурную самобытность украинской нации и права национальных меньшинств, но и права определённых социальных групп с точки зрения элементарных требований социальной справедливости. Евгений Пронюк, вместе с Коробанем, написал отдельную статью, посвящённую социальному вопросу. В моём Письме, подписанном псевдонимом «Коваль», и в «Открытом письме» также подчёркивается важность решения социальных проблем с точки зрения осуществления элементарного уровня социальной справедливости. Современные «украинские» коммунисты предпочитают это замалчивать. Потому что не хотят признать, что их тогда, да и позже, удовлетворяло их привилегированное положение. Принадлежность к правящему бюрократическому слою или «новому классу», если воспользоваться термином Милована Джиласа.
Впрочем, после ознакомления с нашим Уголовным делом я обнаружил, что те тексты, которые считал надёжно спрятанными, кагэбистам удалось изъять тайно, без должного оформления. И приобщить их к нашему Уголовному делу. Это подробные выписки и комментарии к книге М. А. Шафира «Компетенция СССР и союзной республики», разного рода заметки по этнологии, выписки и предварительные варианты моих стихов. До знакомства с нашим Уголовным делом я не считал, что какие-то предварительные варианты своих стихов я сохранил и передал на хранение. Часть из них, в основных их мотивах, я хранил в памяти, единичные из них опубликовал в более поздних редакциях. Просматривая наше «Уголовное дело», я написал заявление об изъятии из нашего «Уголовного дела» названных здесь текстов, так что оригиналы этих текстов были мне возвращены.
В моих довольно подробных комментариях к книге Шафира, в заметках по этнологии преобладает сугубо аналитический подход. Без использования жаргона официальной идеологии. Не говоря уже о стихах. Может, это также давало основание говорить о моей неискренности. Но так ли важно, с каких философских позиций исходит тот, кто указывает идеологу на явные противоречия в его идеологии или указывает политику на его действия, которые явно противоречат провозглашённым принципам? Некоторые из публицистических стихов содержали прозрачные намёки.
Наступає епоха Омеги,
імперії вишукують найновітніші методи,
з допомогою модерних машинерій
прагнуть утриматися подекуди.
Але дещо пора б уже визнати:
брехня втрачає силу,
хитрість теж,
який би кортеж
все це не водило.
Ще сям-там в ярмі народи,
й одинаки ідуть ще на розп’яття
але змивають вже весняні води
і найхитріше зроблені загати.
Хай історія нерозумна чи ще якась,
вона вчасно закриває двері,
вона нині закриває щелепи
останніх у світі імперій.
* * *
Как свидетельствуют материалы досудебного следствия, я избрал сугубо формальную позицию: моя защита сводилась к разного рода замечаниям, признанию резкости отдельных формулировок, к поправкам-отступлениям и т. п. Это были напрасные усилия. Если кто-то из следователей и признавал «в душе» оправданность моей критики, то это никак не могло повлиять на их действия. После уничтожения «идейных» во времена сталинизма, основным типом партийного и советского служащего стал тот, кто ценит своё тёплое место. И не хочет его терять, прислушиваясь к разумным советам или собственной совести. Отсюда неминуемая деградация всей политической системы, построенной на насилии и страхе. Разговаривать с подчинёнными матом стало обычным в партийно-бюрократической практике во времена Брежнева. Недавно Пётр Йолон рассказал мне о событии, которое произошло перед началом партийного собрания Института философии 12 июля, исключившего меня из КПСС. Перед началом этого собрания секретарь Киевского обкома партии Рудич передал Йолону бумагу с информацией обо мне, подготовленной КГБ. Чтобы донести эту информацию до участников собрания. Просмотрев её, Йолон заметил, что в ней отсутствуют аргументы относительно того, какими мотивами руководствовался Лисовой, когда писал своё «Открытое письмо». Рудич согласился с этим замечанием и тут же позвонил в КГБ, высказав пожелание дать более полную информацию. В ответ не только он, но и Йолон услышал поток матов. Посмел кто-то сомневаться, что написанное таким грозным учреждением как КГБ, неприемлемо. В течение некоторого времени сестра моей жены, Мария Вашека, работала секретарём в кагарлыкском райкоме комсомола. А над ней, на втором этаже, размещался райком партии, куда её приглашали вести протоколы заседаний. С председателями колхозов райкомовские руководящие лица разговаривали на том же языке — матом. Об этом можно было бы и не упоминать, потому что это хорошо известно. В данном случае речь идёт не об использовании мата как такового, а о том, что за ним стоит. Поскольку запугивание считалось лучшим способом «убеждения», то мат считался лучшим способом «аргументации». Кагэбисты осознавали: как только люди потеряют страх перед КГБ, рухнет вся политическая система.
По сравнению с этим, способ моего общения с Каравановым выглядел вполне приличным. Когда я при случае навязывал Караванову спор, он замечал, что является офицером и выполняет свои обязанности. Этим он просто объяснял, что ему разрешено, а что нет. Однажды в ответ на какие-то мои аргументы он произнёс: «Вы осознаёте, против какой государственной машины восстаёте?». Его замечание о «машине» не было лишь запугиванием. Далее скажу об уже очевидном использовании средств из арсенала этой «машины».
Но стоит также иметь в виду, что следователи сознательно ограничивали список вопросов, подлежащих обсуждению. И стремились загнать ход обсуждения в заранее определённую формалистику. Они не были заинтересованы в выяснении истинной позиции обвиняемого. Наоборот, мысль обвиняемого часто сознательно примитивизировалась и искажалась. Мой следователь Караванов вставлял разного рода словечки, например, слово «якобы», чтобы ослабить категоричность моих формулировок. Он рассчитывал на то, что я не смогу каждый раз заставлять его переписывать протокол. И целенаправленно отсекал любые мои попытки входить в выяснение того, что считать советским, социалистическим или коммунистическим. Когда возникал вопрос о понимании «советского», следствие ссылалось на «экспертизу», проведённую известным способом, выясненным в моём «Открытом письме в ЦК КПСС». В одном из изъятых стихотворений об этом сказано так:
На кожну думку можна знайти ката –
якогось спеціаліста-експерта,
знайдеться дипломована безликість,
що чимось свою совість заспокоїть.
Але тавро нікчемного харцизи
уже не змити
ні виконавцям,
ні замовникам експертизи.
Те же моменты в моём Письме, которые действительно требовали определённых уточнений, как например о границах свободы слова, бесполезно было обсуждать с Каравановым, который принципиально избегал любых дискуссий. Ведь и вправду вопрос о том, как демократическая политическая система должна себя защищать от явно антидемократических (тоталитарных) идеологий, достоин обсуждения. Национал-социалисты в Германии пришли к власти демократическим путём. Так что, если считать советы институтами демократического самоуправления, то возникает вопрос, насколько распространение какой-либо агрессивной антидемократической идеологии создаёт угрозу уничтожения демократии, представленной властью советов как основополагающими институтами представительной демократии. Ведь появление такой угрозы требует введения определённых запретов на публичную пропаганду явно тоталитарной или преступной идеологии. Например, фашизма или коммунизма. Но Караванов и не хотел, чтобы я сделал определённые уточнения своего тезиса. Для КГБ было выгоднее использовать какой-то тезис, сформулированный слишком категорично. И тезис о том, что Лисовой отстаивает полную свободу слова, в том числе и на антисоветскую агитацию, казался им выгодным в этом отношении.
* * *
КГБ любую критику совершенно неэффективной, даже бессмысленной «советской» политики пытались объяснить влиянием «буржуазной» идеологии. И, соответственно, общением с лицами, которых КГБ считало рупорами такой идеологии. Дополнительным объяснением было выяснение обстоятельств личной жизни и психических особенностей диссидента. На выявление личных мотивов моих «националистических» и «антисоветских» убеждений был нацелен вопрос Караванова кратко рассказать свою биографию. Мне было неприятно перечитывать в январе-феврале 2010 года изложение своей биографии (в ответ на поставленный Каравановым вопрос), текст которой есть в нашем Уголовном деле. Но с формальной стороны этот рассказ соответствует истине. У меня не было серьёзных конфликтов с властью, каких-либо препятствий в осуществлении преподавательской и научной карьеры. Находясь во внутреннем конфликте с идеологией и политической практикой, я избегал внешнего конфликта с политической системой до выхода из своего «подполья». Но мотивы этого конфликта не имели своим источником какие-то узко личные, эгоистические интересы. Я считал, что любой человек, независимо от обстоятельств своей личной жизни, если будет мыслить честно, неминуемо придёт к выводам, высказанным мной. Пусть в определённой модификации. И это касается всех диссидентов.
* * *
Поражение на следствии. Итак, не признавая обоснованности обвинения, я отказался отвечать на вопросы. Не входя в дискуссии, Караванов подчёркивал, что его дело — выяснить обстоятельства, связанные с написанием и размножением Письма. В конце концов я поддался: начал объяснять, как «изготавливал» Письмо — как, скажем, оружие или яд. Потом — как размножал. Смену своей позиции я считал своим морально-психологическим поражением. Хотя в ходе допросов Караванова я отказывался называть фамилии, но именно вследствие того, что я согласился давать пояснения о размножении Письма, последствием этой моей уступки стало то, что я назвал фамилии некоторых людей, причастных к размножению Письма. Их причастность была лишь эпизодической и технической. Иван Гайдук (студент факультета журналистики КГУ), по моей просьбе, передавал экземпляры Письма. В отдельных такого же рода «технических» эпизодах были задействованы подруги моей жены Екатерина Высоцкая и Людмила Стогнота (обе родом из села Лещинка, вблизи Кагарлыка). Все трое не были причастны к моей длительной деятельности по распространению самиздата. Екатерину Высоцкую, передавшую моё Письмо, задержали и продержали в камере на Владимирской в течение трёх суток. Но поскольку она твёрдо придерживалась позиции, что не читала Письма, а только передала его по моей просьбе, то её вынуждены были освободить.
Сказанное лишь подтверждает справедливость замечания Сергея Белоконя, с которым согласился также и Василий Овсиенко, что в 60-е годы для самиздата не был создан текст, который содержал бы наставления, как держаться в «общении» с КГБ. Особенно на следствии. Иногда речь шла об элементарных, но спасительных способах поведения, которые не давали КГБ возможности репрессировать или шантажировать человека. Екатерине Высоцкой посоветовал один из её друзей, чтобы на допросах она твёрдо придерживалась позиции, что не читала моего Письма, а только передала его по моей просьбе. Поскольку кагэбисты придерживались элементарных правовых норм, по крайней мере в случае единичных действий, то, в конце концов, они вынуждены были освободить её из-под ареста. У них не было юридической зацепки.
Из моих родных несколько раз вызывали на допрос мою сестру. Я раньше упоминал, что Люба после окончания семилетней школы поступила в профтехшколу, а потом работала на 6-й обувной фабрике (на ул. Артёма), жила по «углам», иногда в подвалах. Когда я работал в Тернопольском мединституте, вышла замуж за Анатолия Степанова, русского, преподавателя Киевского политехнического института (ныне покойного), у них родилась дочь Светлана. Анатолий был благородным человеком, с твёрдым характером, был в большой степени свободен от шовинистических комплексов. Подтверждением последнего может быть его отношение к воспитанию дочери Светланы: он настаивал, чтобы она была записана украинкой и училась в украинской, а не русской школе. Уже после возвращения из заключения я заметил, что с дочерью он старался разговаривать на украинском языке (с сестрой разговаривал по-русски) и готовил на украинском языке свои лекции для студентов.
Анатолия также вызывали на «беседы»: чего от него добивались, он не рассказывал сестре. Но склонить к сотрудничеству не смогли. Да и каких-либо «показаний» он дать не мог: ни Анатолию, ни Любе я не давал самиздатовские тексты для чтения (мог при случае лишь хранить самиздатовские тексты у них на квартире). Правда, сестре рассказывал о национальном движении в Украине и о самиздате. Сестру стремились склонить к сотрудничеству с КГБ, чтобы она влияла соответствующим образом на меня. Она на исполнение такой роли не соглашалась. Они продолжали вызывать её на «беседы». Но когда прозвучал очередной звонок с «приглашением» сестры на «беседу», телефонную трубку взял Анатолий и сказал им что-то такое или так, что они прекратили свои вызовы.
* * *
Караванов плохо владел украинским языком. И, как я уже заметил, иногда сознательно искажал ответы, формулируя их как можно выгоднее для своего ведомства. Поэтому в отдельных случаях я требовал переписывать протоколы. В споры о содержании письма, за редкими исключениями, он не вступал. Его заинтересовали только отдельные места в Письме. Так, фраза «Только право франкистского характера может признавать справедливость законов, аналогичных выраженным в статьях 62 и 187-1 УК УССР» дала ему основание утверждать, что я приравниваю «советское» законодательство к фашистскому. Заинтересовало следователя также место в Письме, где я упоминаю о существовании инструкций, которые запрещают распространять определённые виды информации. В Письме по этому поводу сказано так: «Мотивируя разными, самыми неожиданными аргументами, запрещается подавать то тот, то иной вид информации. Так, только в последние годы запрещено подавать информацию в прессе об определённых видах инфекционных и эпидемических заболеваний (существует специальная инструкция об этом). По сути, стало невозможно говорить публично об угрожающих фактах отравления жизненной среды, об уровне детской и другого вида преступности, о размерах алкоголизма и наркомании, об ужасном состоянии многих памятников старины (побывайте только в окрестностях Чернигова) и т. п.». В этой цитате прямое указание на существование соответствующих «инструкций», которые сами были отнесены к государственной тайне. О существовании инструкций по статистике инфекционных заболеваний я узнал, когда работал в Тернопольском медицинском институте. Не знаю, чем руководствовались в дирекции Института, но однажды меня пригласили в кабинет ректора и дали официальный документ, содержавший информацию о таких запретах.
Ещё был один пункт особого интереса моего следователя: не знаю ли я, кто такой Антон Коваль? Этот вопрос в той или иной форме задавали мне несколько раз. Один из опросов по этому «эпизоду» вызвал у меня подозрение. В этот раз меня перевели в другую комнату, продолговатую, с одним окном и столом, поставленным посередине. Спрашивали двое: повторяя своё «не знаю», я почувствовал себя в каком-то особом состоянии. Не стал ли я объектом эксперимента, например, в работе над средствами тестирования на правдивость ответов? Вспомнил публикацию в одной из центральных российских газет (появилась, видимо, в 70-м или 71-м году) об использовании какого-то облучения как средства воздействия на политзаключённых во франкистской Испании и в Китае. Почему эту информацию тогда запустили (или пропустили?), остаётся для меня загадкой и по сей день. Вероятнее всего — для устрашения. Всё же и в этом случае у меня не было уверенности, что моё психическое состояние в этой ситуации было обусловлено внешним вмешательством. О каких бы средствах воздействия (психотропных или электронных) ни шла речь, нужно, чтобы результаты самонаблюдения были убедительными. Ниже упомяну об уже очевидных внешних вмешательствах в мою нервную систему и психику. Самокритичность я считал важной в обстоятельствах, которые и без того склоняют к преувеличенным подозрениям. В частности, ввиду того, что читал сообщения, переданные из лагерей, в которых политзаключённые высказывали подозрения о применении психотропных средств (ранее упоминал, что перепечатывал их по просьбе Надийки Светличной).
* * *
Итак, в ходе допросов, которые проводил Караванов, я отказывался называть фамилии людей, задействованных в размножении Письма. Мне продлили срок следствия постановлением, подписанным прокурором, с соответствующей характеристикой моей позиции. Из этой характеристики я снова узнал, что я всё-таки «националист» и упорно придерживаюсь своих антисоветских убеждений. Это давало мне основание считать, что моя позиция в целом правильная. Но в конце октября к допросам подключили следователя Рыбченко. Это был молодой человек, примерно моего возраста, держался, в отличие от Караванова, доброжелательно. Говорил на хорошем украинском языке. Возможно, такая смена «жёсткого» на «доброго» и была запланирована. Но последствием вышеупомянутой уступки стало наиболее драматичное для меня событие. Во время одного допроса о размножении моего Письма я вместо слова «машинистка» назвал её имя («Рая»). Хорошо помню, что он заметил мои переживания, и могу с уверенностью сказать, что он вполне искренне сочувствовал мне. Чтобы облегчить моё состояние, сказал с особой тональностью примерно так: «да не стоит это Вашего переживания». За этим последовал определённый намёк, однако тогда я не мог знать наверняка, что скрывается за этим. Но даже если бы я и знал о сотрудничестве Раисы с КГБ, это мало что меняло бы в моей собственной оценке этого своего промаха. Не помню, как дальше продолжалось моё общение с Рыбченко, но предполагаю, что он склонил меня к написанию заявления на имя Федорчука, которое привожу ниже.
Председателю Комитета государственной безопасности
при Совете Министров УССР Федорчуку В. В.
обвиняемого Лисового В. С.
Заявление
Чтобы подтвердить ещё раз, что как в процедуре написания, так и в процедуре размножения составленного мной «Открытого письма членам ЦК КПСС и членам ЦК КПУ» я не вижу ничего тайного или «подпольного», разъясняю здесь обстоятельства размножения «Открытого письма».
О перепечатке письма без конкретной договорённости как о количестве экземпляров, так и о сроке размножения я договорился с бывшей машинисткой Института философии Полыциной Раей. Она дала согласие на отпечатывание «Письма», которое потом подтвердила. О времени этой договорённости и упомянутого подтверждения я не помню точно. Могу лишь сказать, что это случилось по крайней мере за несколько месяцев до подачи письма.
После того, как написание письма было мной завершено и я собственноручно отпечатал письмо на изъятой у меня во время обыска машинке, я передал Полыциной Рае через бывшего студента филологического факультета КГУ, ныне учителя Овсиенко Василия как один экземпляр Письма, так и список адресов.
С Овсиенко Василием я познакомился во время преподавания логики в КГУ, он бывал у меня дома, мы не скрывали наших дружеских отношений, в «Трибуне лектора» мы опубликовали в соавторстве статью. Он в то время зашёл ко мне, и я попросил у него помощи. Речь шла о том, чтобы он передал Полыциной Рае как экземпляр «Открытого письма...», так и список адресов, что он и сделал. Ему из собственных средств я дал, не помню точно, то ли 15, то ли 20 руб. на бумагу и конверты. Я не знаю, каким образом были изготовлены конверты и где была закуплена бумага. Но мне Овсиенко сказал, что это сделано. Всё это Овсиенко сделал по моей просьбе, я его убедил, что написанный мной документ не является антисоветским или клеветническим, и он с этим согласился. Поскольку Овсиенко Василий был сам перегружен и переутомлён выпускными экзаменами, то с просьбой забрать отпечатанные экземпляры я обратился к Пронюку Евгению, что он мне обещал и, судя по документам дела, обещание выполнил. Рассчитался ли он за работу, не знаю.
Прошу, чтобы к названным мной здесь лицам Полыциной Рае и Овсиенко Василию отнеслись как можно гуманнее, поскольку основная вина за их действия лежит на моей совести.
30.X.1972
/Подпись/
* * *
Василия Овсиенко арестовали аж 5 марта 1973 года, то есть почти четыре месяца следили за ним и только через девять месяцев присоединили к нашему делу. Я не буду здесь говорить о том, что ему пришлось пережить: он об этом сказал в своих воспоминаниях. После присоединения его к нашему делу 20 апреля 1973 года свою задачу я видел в том, чтобы замкнуть все показания на нас троих. Нам троим в любом случае они уже определили срок. Но в таком случае основное бремя выпало на Евгения Пронюка, как поставщика большинства самиздатовских материалов. Он отказался отвечать на вопросы и таким образом завязал на себя всё наше дело.
Даже теперь, по прошествии времени, период следствия я оцениваю как самый тяжёлый в моей жизни с точки зрения морального испытания. Но значительно тяжелее он стал для Овсиенко. Спасительным для меня было осознание того, что я не должен терзаться моральным самоосуждением, потому что тем самым ослаблю себя в своём противостоянии. Сломить человека морально, чтобы подорвать его волю, — испытанный способ действия «чекистов» с самого начала захвата большевиками власти. В этой ситуации определённую поддержку я находил в философии стоицизма (ранее упоминал, что читал стоиков незадолго до ареста). Акцент стоицизма на большей важности самооценки по сравнению с внешней оценкой служил мне поддержкой во многих ситуациях и позже, во время пребывания в лагерях.
Учитывая перспективу превращения диссидентского движения в массовое, ещё до заключения я склонялся к мнению, что как можно больше людей должны приобретать опыт противостояния, пусть даже ценой поражений. Если считать диссидентское движение делом только особенных людей, с особыми нервами и психикой (героев), то такое движение, в существующих условиях, будет оставаться делом небольшого числа лиц. Ведь каждый, прежде чем присоединиться к движению, будет предъявлять к себе настолько высокие требования, что страх не устоять парализует решимость. Я раньше уже упоминал, что оценка своей способности сопротивляться была важным мотивом для многих, чтобы избегать участия в движении хотя бы путём распространения самиздата.
2. Идеология и этика украинских диссидентов. Репрессивные технологии КГБ.
Идеология украинского диссидентского движения. Существовало существенное различие между идеологией национально-освободительной войны УПА, с одной стороны, и диссидентским движением, с другой. Идеология и этика, ориентированные на состояние войны, неминуемо содержат чёткое разграничение добра и зла. Это исключает колебания, наличие пространства для тех, кто стоит между фронтами. Достаточно вспомнить философию и идеологию движения сопротивления фашизму. Переход на сторону зла, предательство, сурово карается. Но после поражения УНР, диктатура, сочетая террор с идеологией, как ложным сознанием, достигла значительных успехов в культивировании человека с мировоззрением и психикой «гомо советикуса». После поражения национально-освободительной войны УПА культивирование такого типа человека было перенесено на территорию Западной Украины. Идеология диссидентского движения была нацелена на общественную среду, которая уже испытала влияние этой идеологии. Целью движения было не только умственное осознание природы власти и её идеологии, но и преобразование на уровне подсознания, психики. Поскольку влияние идеологии сочеталось с террором и геноцидом, то требовалось преодоление страха перед властью, запечатлённого на уровне подсознания. Мы имеем дело с радикальными преобразованиями массового сознания и психики в процессе перехода от государства тоталитарного и имперского к демократическому и национальному.
Идеология диссидентского движения была ориентирована на становление гражданского и национального сознания. Оно было ненасильственным, содержало попытку открытого диалога с властью. Адресатом значительного количества текстов, созданных диссидентами, были официальные лица и учреждения. Поскольку же власть не реагировала на эти обращения, отвергая путь публичного диалога и репрессируя его инициаторов, то целью движения стало просвещение. Основным его средством стало распространение самиздата. Но круг лиц, способных преодолевать психическую инерцию покорности и страха, был узок. А это означало, что преобразования в массовом сознании требуют длительного времени.
Даже ретроспективно оценка диссидентского и хельсинкского движения остаётся высокой — как вызов инерции покорности и страха, как пример гражданского мужества. Такая оценка даже важнее фактических последствий диссидентского движения. Его роли в политических процессах, завершившихся крахом тоталитаризма и распадом СССР. Но реальное влияние этого движения на массовое сознание оставалось ограниченным.
Более широкое влияние имела деятельность многих лиц, которые действовали в том же направлении, но избегали прямого конфликта с властью и её идеологией. Они были вынуждены идти на разного рода компромиссы. Это целый ряд разнообразных стратегий и направлений деятельности: реабилитация определённых направлений и целых разделов естественных и гуманитарных наук (генетика, кибернетика, социология, семантика и т. д.), скрытая критика официальной версии диалектического и исторического материализма, расширение стилей художественного творчества и подрыв канонов «социалистического реализма», публикация произведений запрещённых авторов, акцент на ценности суверенной личности и национальной самобытности и т. д. Это интеллектуально-культурное движение, начатое «оттепелью», было той средой, в которой, собственно, и появилось диссидентское движение.
* * *
Этика жертвенности и героизма. Об этих теперь хорошо известных исторических обстоятельствах я упоминаю здесь только в связи с отношением к этике жертвенности и героизма — важной установке украинского диссидентского движения. Оставляя в стороне многоаспектный вопрос об источниках такой этики, я согласен с теми, кто указывает, что одним из её интеллектуальных источников была философия экзистенциализма, которая (в варианте Сартра) была нацелена на идейное обоснование движения Сопротивления фашизму. Но были и собственные источники этой этики, о которых я уже упоминал ранее. Готовность к жертвенному действию — это этика, нацеленная на действия в чрезвычайных ситуациях: война, спасение людей от смертельной опасности и т. д. Но она может быть рассчитана и на длительную историческую перспективу, когда личность или движение подчёркивают, что общество находится в опасной ситуации и что жертвенное и героическое действие необходимо для предотвращения неминуемой деградации или бедствия. Примером такой ориентированности на долговременную историческую перспективу является раннее («катакомбное») христианство.
Основой этой бескомпромиссной этики жертвенности и героизма является подчёркивание ценностей и принципов — как мотивов поведения и обязанностей, основывающихся на них. Дискуссионным является вопрос о том, как должна соотноситься такая этика с практической мудростью — взвешиванием уместности и эффективности выбранных способов действия в определённой ситуации. Без этических принципов и связанных с ними ценностей исчезает критерий, который позволяет оценивать характер и меру уступок, на которые ради успешности своего действия личности и движения вынуждены идти в реальной ситуации. Диалог между этическим идеализмом и практической мудростью (реализмом) проходит через всю западную интеллектуальную и духовную историю. Сложность соотношения между строгим соблюдением принципов и практической мудростью заключается в том, что невозможное становилось возможным вследствие готовности определённого движения на длительные преследования, страдания и самопожертвование.
Но поскольку этический идеализм в своих крайних формах пренебрегает практической мудростью, он способен подталкивать к неоправданным жертвам. Строгое соблюдение принципов — без учёта того, каким способом и в какой мере в данной ситуации возможно осуществление этих принципов — часто оказывается безуспешным способом действия. Важнейшим является вопрос о том, когда выбор лучших способов действия и избегание напрасных жертв пересекает линию, за которой практическая мудрость уже означает оправдание уступок, подрывающих основополагающие ценности и принципы. Ведь требование быть реалистом в осуществлении этических целей способно склонять к крайним формам приспособленчества. В политической деятельности практическую мудрость (как противовес акценту на принципах и ценностях) обозначают термином «политический реализм» (Realpolitik). Речь идёт не о пренебрежении принципами и ценностями, а о выборе лучших стратегий, нацеленных на осуществление принципов. Во многих реальных ситуациях ради осуществления определённых ценностей и принципов приходится двигаться шаг за шагом, учитывая имеющиеся возможности.
В конце 40-х — начале 50-х годов, когда национально-освободительная война УПА свелась к сопротивлению малых групп, этика жертвенности и героизма (в соответствии с установкой «Родина или смерть») стала противоречить практической мудрости. И с этой точки зрения обращение Василия Кука, нацеленное на избежание напрасных жертв, становится оправданным. Но жертвенное противостояние злу, осуществление принципов, защита основополагающих моральных ценностей образуют тот полюс, который противостоит практической мудрости, нацеленной на учёт реальности ради обеспечения успешности действия. Лучше всего, когда эти два полюса находятся в постоянном взаимодействии, во взаимной коррекции.
В случае интеллектуально-культурного движения шестидесятников мы имеем дело, следовательно, с дискуссиями об оправданности определённых компромиссов в противостоянии явному злу. Для тех, кто не пребывал в плену иллюзий, внедрённых официальной идеологией, осознание того, что они идут на морально неприемлемые уступки, было источником моральных страданий. Отсюда колебания между открытым вызовом диктатуре и согласием идти на уступки, пусть и ценой отступления от принципов. Далее в этих воспоминаниях придётся при случае говорить о проблеме выбора между бескомпромиссной этикой жертвенности и героизма, с одной стороны, и практической мудростью — с другой. Если ограничиться фигурами из младшего поколения, то примеры колебаний между этими двумя полюсами присутствуют в поведении целого ряда интеллектуально-культурных деятелей 60–80-х годов (Дмитрий Павлычко, Иван Драч, Иван Дзюба и др.). Самым невинным компромиссом, свидетельствующим о нежелании личности идти на морально неприемлемые уступки, была позиция молчания (например, поведение Лины Костенко после арестов 1972 года). В моём Письме в ЦК явными признаками компромиссной риторики, рассчитанной на адресата, являются ссылки на авторитет Ленина и акцент на необходимости противостоять реставрации сталинизма и т. п. Со вполне оправданным протестом против «неосталинизма» сочетается иллюзия его противопоставления «ленинизму», который на самом деле и стал источником сталинизма.
Фактически крах тоталитаризма и распад СССР, если оставить в стороне геополитический контекст, стал следствием сочетания диссидентского движения, участники которого были ориентированы на этику жертвенности и героизма, с одной стороны, и названного более широкого интеллектуально-культурного и идеологического движения. Эти взаимно связанные движения влияли также на лиц из коммунистической номенклатуры. Это, в конце концов, приводит к «перестройке» Горбачёва.
Я уже упоминал, что официальная идеология содержала в себе иллюзию «параллельного» мира «настоящих коммунистов», честных, справедливых, мужественных борцов за счастье «трудящихся». И те, кто поддавался этой иллюзии (как в случае трагедии Шипенко в университетском деле «Буза»), неминуемо психически ослаблял себя в противостоянии диктаторскому режиму. В одном из разговоров со мной Евгений Сверстюк сочувственно заметил, что ему было легче на следствии по сравнению с теми, кто основывался на внутренней критике коммунистической идеологии. В ответ на какие-то апелляции следствия к этой идеологии, Евгений замечал, что марксизм и основанная на нём коммунистическая идеология его никогда не интересовала и не интересует. Мы имеем дело не столько с отчуждённостью на уровне разума (ведь идеи марксизма и идеологию коммунизма Евгений всё-таки знал), сколько на уровне морально-психологическом. Поразительное описание той драмы, источники которой укоренены в противоположной морально-психологической установке, мы имеем в воспоминаниях Михаила Осадчего «Бельмо».
* * *
Репрессивные действия КГБ на фоне краха коммунистической идеологии. Тому, кто берёт в руки следственное дело, касающееся репрессий по политическим мотивам в СССР, тексты с показаниями обвиняемого и другими документами, подшитыми в тома, ничего не говорят о состоянии того, чьи показания записаны в протоколах. Читатель или исследователь этих показаний может лишь догадываться, что стоит за неожиданной сменой позиции обвиняемого в пользу следствия. На сегодня немало сделано для исследования террора, основным орудием которого были ЧК, ГПУ, НКВД. Но весь масштаб преступлений против человечности только открывается. В предисловии к книге «ЧК-ГПУ-НКВД в Украине» (К. 1997) её авторы Юрий Шаповал, Владимир Пристайко и Вадим Золотарёв отмечают, что речь идёт о создании «необходимой концептуальной, фактографической и источниковедческой базы для последующих исследований». Всё же, что касается деятельности этих «органов» в Украине, то большая часть важных документов хранится в Москве (если они и вправду всё ещё хранятся, а не уничтожены). Свидетельством страха перед рассекречиванием документов является их уничтожение сотрудниками Штази в ГДР. Я уже упоминал, что в результате рассекречивания Службой безопасности Украины части документов, касающихся дела «Блок», стало известно, что в 1990 году были уничтожены (или вывезены в Москву?) документы оперативно-следственных действий, в частности на диссидентов, за исключением нескольких человек.
Что касается КГБ, то на сегодня уже достаточно разного рода свидетельств, чтобы охарактеризовать деятельность этих «органов» в 60–70-е годы в некоторых важнейших аспектах. Ради ограждения себя от карательного «меча революции» партийно-государственная номенклатура вынуждена была ввести элементы правовых процедурных ограничений — под лозунгом контроля партии над этим «мечом». Решающим в этом отношении стало «Положение о КГБ при СМ СССР», утверждённое Президиумом ЦК КПСС в 1959 году, в котором указывалось, что КГБ действует под «непосредственным руководством и контролем Центрального Комитета КПСС». Среди важнейших задач, после внешней разведки и борьбы со шпионажем и диверсией, определялась борьба с «враждебной деятельностью антисоветских и националистических элементов внутри СССР». В 1967 году путём объединения целого ряда спецотделов был создан известный пятый отдел, целью которого была борьба с «идеологическими диверсиями». Бесспорно, что введение минимальных правовых ограничений всё-таки было позитивным шагом — хоть какие-то элементы законности.
Следствием названных изменений было то, что телесные пытки в камерах, за редкими исключениями, перестали применять. А если применяли, то только замаскировано. В лагерях, карцерах и тюрьмах кагэбистам легче было скрыть свою причастность к различного вида физическим пыткам (включая жестокое избиение), чем в следственном изоляторе. Но ещё в середине 60-х кагэбисты позволяли себе очень грубое отношение на следствии к заключённым диссидентам. Скрытно осуществлялась фабрикация уголовных обвинений по политическим мотивам, в частности с использованием провокаций. Только о некоторых из них сегодня стало известно (Вадим Смогитель, Николай Горбаль, Василий Овсиенко и др.). Убийства, как за границей, так и внутри СССР, могли выполняться только в виде особой спецоперации. При этом все такого рода действия не осуществлялись по письменно оформленным распоряжениям (насколько могу судить, ибо это дело фактологических исследований). Для оценки того, с какой целью и каким способом КГБ мог идти (по крайней мере начиная со второй половины 60-х) на использование крайних средств (пытки, убийство и т. п.), нужны дополнительные свидетельства. В случае убийства Аллы Горской (а вероятность причастности к этому КГБ высока), можно предполагать, что жестокость этого убийства годилась как средство устрашения диссидентского движения. Но это были исключительные действия: делались они на «оперативном уровне», когда само решение не было зафиксировано в письменном распоряжении.
Таким образом, КГБ стал структурой, которая стремилась сохранять свой «фасад» в виде показной законности (и то уже хорошо), а всю грязную часть своей деятельности прятать в тень. Была учтена наивная откровенность разного рода распоряжений и инструкций партийных руководителей и «чекистов» предыдущего периода деятельности репрессивной «машины» («разлагать», «компрометировать», осуществлять провокации и т. п.). Введение элементов законности требовало юридически подготовленных «кадров». Соответственно, в структурах КГБ начали появляться служащие, не склонные принимать позицию «ястребов». Это проявление аналогичных тенденций в партийных структурах. Но в КГБ, как военной структуре, расхождения между умеренными и «ястребами» были менее выразительными, чем в партии. Насколько малой была эта дистанция, можно судить, сравнивая В. Никитченко и В. Федорчука. На низшем кадровом уровне эта разница могла быть большей.
Все важные решения, прежде всего кадровые, диктовались из Москвы. Примером может быть устранение Шелеста или замена «более мягкого» Никитченко на Федорчука. Идеологи стремились распространять мысль, что жестокость наказаний в Украине является следствием местных «перегибов». Но неизменно устраняли из руководства партийных и репрессивных органов в Украине каждого, кто не проявлял достаточной твёрдости, особенно в борьбе с «националистами». В Украине так называемые «перегибы» — следствие того, что любой руководитель (вплоть до председателя колхоза), проявлявший недостаток твёрдости (то есть жестокости), не только регулярно смещался с должности, но и сам подвергался репрессиям — как саботажник, симулянт и т. п. Масштаб репрессий и жестокость приговоров в судебных процессах над украинскими диссидентами диктовалась из Кремля.
Никто из чиновников и службистов не хотел оставлять «следов». Большая часть «грязных» действий (тех, что выходят за рамки формальной законности) не фиксировалась письменно на оперативном уровне. За редкими исключениями, как стало известно только в результате недавнего рассекречивания Службой Украины части документов по делу «Блок». Но поскольку большая часть документов, сохранившихся в архивах Службы безопасности, остаётся всё ещё засекреченной, невозможно сегодня объективно оценить теневую сторону деятельности КГБ. Особенно это касается деятельности Оперативно-технического управления КГБ, созданного в том же 1959 году путём объединения ряда спецотделов. Какие научные исследования, кроме средств подслушивания, тайного убийства и т. п., разрабатывались для нужд этого отделения? Сколько людей работало над засекреченными программами в различного рода научно-исследовательских учреждениях? Вследствие засекреченности всей оперативной деятельности КГБ даже те люди, которые добровольно или вынужденно сотрудничали с КГБ, не отваживаются сегодня обнародовать известную им информацию. Думаю, что их ощущение угрозы для своей безопасности не является безосновательным.
Если ограничиться репрессиями КГБ, направленными против диссидентского и хельсинкского движения, то на сегодня более-менее описан набор способов действий, свойственных КГБ в течение 60–80-х годов. Это находим в различного рода свидетельствах и воспоминаниях диссидентов и в исследованиях историков (Г. Касьянова, А. Русначенко, Ю. Шаповала и др.). Их можно расположить в спектре от «мягких» до наиболее жестоких и исключительных. Получаем такую последовательность: а) профилактически-воспитательные — «убеждение», которое преимущественно сводилось к предостережениям и запугиваниям, применению средств «влияния»; б) привлечение коллективов (обсуждения на «комитетах» или собраниях, вынесение различного рода выговоров и т. п.); в) компрометации; г) действия, касающиеся жизненных интересов (ставкой были: работа, учёба, аспирантура, получение жилья, защита диссертации, возможность обнародования произведений, угрозы родным, в частности детям или друзьям, и т. п.); д) профилактический арест; е) осуждение по уголовной статье, в частности, в результате провокации; ё) осуждение по политическому обвинению; ж) помещение в «психушку»; з) нанесение увечий, убийство. Как видно из документов, рассекреченных Службой Безопасности Украины, на уровне оперативного следствия некоторые вполне очевидные признаки выхода за рамки соблюдения законности фиксировались письменно — например, действия, нацеленные на компрометацию лиц, или действия, нацеленные на организацию безработицы и т. п.
Коммунистический режим извивался в конвульсиях. И социальный, и национальный аспекты коммунистической идеологии не выдерживали элементарной критики. Уже не существовало буржуазии как класса («владельцев средств производства»), и малоубедительным был тезис о влиянии «буржуазной идеологии» на молодёжь, воспитанную коммунистической системой. А к таким принадлежали ведущие деятели диссидентского движения (И. Светличный, В. Черновол, И. Дзюба, И. Драч и др.). Основное поражение режим терпел ещё на уровне «профилактических» бесед, независимо от того, кто эти беседы проводил. Можно путём «воспитательной» работы, начиная с садика и школы, «зазомбировать» человека, но как только у него пробуждается критическое мышление, все последствия этого зомбирования разрушаются. Кризис идеологии означает, что основанные на ней аргументы теряют убедительность. Приход Брежнева был попыткой номенклатуры спасти своё господствующее положение, достигнув стабилизации путём возврата к репрессиям. С соответствующим креном в более решительные действия, нацеленные на подавление диссидентского движения. При этом значительно более жестокие приговоры в отношении диссидентов в Украине были обусловлены прежде всего национальной составляющей: потеря Украины, хотя бы в перспективе, означала самый болезненный удар для российского империализма.
* * *
В тени следственных действий. Взвешивая позже различные позиции среди диссидентов по оценке деятельности КГБ, я наблюдал определённую непоследовательность. Одна из позиций сводится к недооценке уровня профессионализма в деятельности КГБ, в частности в использовании различного рода практик и средств в борьбе с инакомыслящими. Наивное отношение западных служб к способам действия и технологиям КГБ — отдельная история, отчасти сегодня известная. Сказанное касается также недооценки различного рода научно-технических разработок в соответствующих подразделениях КГБ. Если бы Б. Сташинскому не удалось перехитрить КГБ (проникнуть на Запад и объяснить на судебном процессе, как он убил С. Бандеру), то версия, что Бандера умер от сердечного приступа, оставалась бы, пожалуй, и до сих пор действующей.
Сказанное не означает, что установка «КГБ всё знает», которую кагэбисты стремились распространять с целью запугивания, была бы полезной для диссидентского движения. Но когда я слышал рассказ кого-то о его пребывании в следственном изоляторе, в котором рассказчик заранее предполагал, что любой другой также находился в примерно такой же ситуации, то это удивляло. Хорошо, что Александр Болонкин в своё время опубликовал в «Огоньке» рассказ о пребывании в «пресс-хате» в период предварительного заключения в Улан-Удэ. Без этого мой опыт пребывания в такой же «хате» остался бы уникальным. Считаю непоследовательной позицию, которая основывалась на предположении, что КГБ только за пределами следственной тюрьмы могло позволять себе действия, явно выходившие за рамки формальной законности. И что в отношении к лицу, полностью изолированному в камере следственного изолятора, оно не могло прибегать к незаконным действиям.
Неявное предположение о соблюдении общеустановленного режима мы имеем во всех случаях, когда, основываясь на собственном опыте, судят о поведении другого заключённого в условиях полной изоляции. Мой личный опыт не подтверждает такой слишком оптимистической оценки введения правовых ограничений в деятельности КГБ. Итак, признавая наличие определённой эволюции в деятельности КГБ с конца 50-х годов и не принимая общего приравнивания всех службистов КГБ к фанатичным исполнителям воли своего начальства, я в то же время не был склонен приуменьшать оснащённость КГБ различного рода средствами и профессионально подготовленными «кадрами».
Вторым примером слишком оптимистичной оценки последствий упомянутого введения деятельности КГБ в «правовое поле», с моей точки зрения, является позиция тех, кто категорически отрицает, что службисты КГБ могли использовать средства вмешательства в нервно-психическую деятельность своих заключённых — психотропные или другие средства. Мой опыт ставит под сомнение такой взгляд. И хотя этот опыт побуждает скорее к постановке вопросов и формулировке гипотез, но его обнародование я считаю общественно важным. Это даже при условии, что мне не хватает дополнительной информации, которая позволила бы самому себе объяснить уникальность моей личной ситуации.
* * *
О вмешательстве в тело и душу. Сначала некоторые предварительные замечания. По сравнению с террором репрессивных структур, которые под другими названиями предшествовали КГБ, стала очевидной новая угроза: на смену причинению физических страданий объектом стали нервы и психика. На фоне кризиса официальной идеологии была подброшена идея, что в такой ситуации может выручить психиатрия: это не была совершенно новая идея, как свидетельствует история репрессивных органов со времён захвата власти большевиками. Замысел, что можно всех этих диссидентов квалифицировать как не способных приспособиться к социальной среде, открывал новые возможности. Эта стратегия находила своё теоретическое оправдание на уровне некоторых ведущих психиатров в Москве (см., напр., А. Коротенко, Н. Аликина. Советская психиатрия. Заблуждение и умысел. К., 2002 и другие публикации). Эта сторона разработок КГБ остаётся и до сих пор засекреченной. Пожалуй, самым показательным признаком того, что КГБ склонилось к использованию психиатрии как средства борьбы с инакомыслящими, была масштабная акция «очищения» Киева от идеологически ненадёжных «элементов» накануне Олимпийских игр 1980 года. Часть этих «элементов» (и как раз из числа диссидентов) поместили в психушку.
Замечу, что объяснение действий диссидентов как своего рода психических отклонений согласовывалось со «здравым смыслом» тех людей, в чьё понимание не укладывается любое этически мотивированное действие. Ведь такое действие противоречит непосредственным жизненным интересам деятеля. Если человек преодолевает страх, который сигнализирует об опасности для жизни, то не действует ли он под влиянием скрытых или даже подсознательных побуждений, которые лишь прикрывает (пусть неосознанно!) этическими аргументами? Отсюда напрашивается мысль, что такой человек либо руководствуется «сверхценной идеей» (как это сказано в «диагнозе» П. Григоренко); либо же за его этической аргументацией скрыты подсознательные мотивы. Человеку, который никогда не рисковал своим комфортом или тем более своей жизнью, руководствуясь этическими мотивами, такие поступки кажутся проявлением ненормальности. Поскольку в 60–80-е годы в КГБ работали уже не столько фанатики, сколько циничные прагматики, то их «здравый смысл» согласовывался с этой логикой. С другой стороны, этически мотивированный поступок вызывает у некоторых людей скрытую зависть или даже раздражение (так называемый ресентимент): это является источником не всегда осознаваемой склонности дискредитировать такие поступки или поведение. Дискредитировать путём выискивания в них скрытых мотивов — обид, зависти, стремления к славе, гордыни, обстоятельств личной жизни и т. п. Для материалиста этический идеализм является чем-то фальшивым, а, следовательно, результатом психических отклонений.
* * *
В своём опыте я выделяю очевидное, что не ставил и не ставлю под сомнение, и такое, что побуждает лишь к постановке вопросов и формулировке предположений. Сначала об очевидных фактах, о которых уже упоминал в некоторых из своих видеоинтервью (О. Дырдовскому и др.). К таким относится использование звуков для воздействия на нервную систему: это явление хорошо известно каждому из читателей на примере содрогания от неожиданного резкого звука. У меня нет никаких сомнений, что в данном случае речь идёт о задуманном, целенаправленном действии. Частота использования и интенсивность звуков (степень их раздражительности) нарастала постепенно и стала для меня серьёзной проблемой, начиная где-то со второго месяца пребывания в следственном изоляторе.
Звуки были разные: одни из них напоминали падение кирпича на металл, раздавались также выстрелы (похожие на выстрелы из пистолета), характер других трудно было идентифицировать. Слышал эти звуки только в камере. Пространственный источник большинства из них, как могу судить по своему восприятию, был расположен во дворе. Но неужели, думал я, они могли допускать, чтобы во дворе раздавались выстрелы и чтобы это могли слышать в других камерах? Не являются ли источником этих звуков скорее какие-то записи, а мембрана микрофона замаскирована в стене или в потолке? Замечу, что ещё в начале следствия я услышал плач женщины в какой-то соседней камере, который очень напоминал голос моей жены. Но предположил, что эта похожесть голоса была усилена моей тревогой. Может, и так. Некоторые из звуков были непрерывными и напоминали вращение каких-то жерновов (пространственную локализацию источника этих звуков было трудно определить). Последний из сокамерников, с которым я досиживал своё заключение в изоляторе, имел «привычку» неожиданно, но регулярно хлопать ладонями со всего маху. Действие всех этих разнообразных звуков затрудняло возможность сосредотачиваться, что-то читать или даже думать. Была ли чувствительность к этим звукам следствием добавления в пищу каких-то психотропных веществ, остаётся под вопросом.
По мере того, как сила и частота использования этих звуков усиливались, у меня развилась интенсивная боль (очевидно, нервного характера), которая была локализована, как мне казалось, в районе солнечного сплетения. В конце концов я обратился с жалобой к врачу изолятора — полной женщине старше среднего возраста. Выслушав меня, она сказала, что эти мои симптомы — следствие особенностей моей нервной системы и моего пребывания в условиях закрытого помещения. Намёк слишком прозрачный. Начальник следственного изолятора А. С. Сапожников в ответ на мои жалобы говорил о ремонте здания.
Не вызывает у меня сомнений внешнее происхождение ещё одной разновидности воздействий. Имею в виду действия, которые, как я предполагал, являются следствием какого-то «облучения», вызывавшего судороги. Предполагал, что объектом «облучения» был, вероятнее всего, спинной мозг, потому что это вызывало сведение мышц. Такое сведение мышц и подбрасывание тела в постели наступало преимущественно перед сном и во время сна. Судороги продолжались потом в течение моего пребывания в лагерях и в ссылке, и ещё лет десять после возвращения из заключения. Симптомы угасали постепенно. Значительно труднее говорить с уверенностью о внешнем происхождении некоторых сновидений, которые я считал необычными для себя (выше уже упоминал об одном из них в начале своего пребывания в следственном изоляторе). В них важными были не столько зрительные образы, сколько определённые эмоциональные состояния, которые я при этом переживал. Особенность этих сновидений заключается в том, что вы их воспринимаете как нечто на грани между сном и реальностью. Обычно каждый из нас осознаёт, что нечто увиденное является сновидением, а не реальностью. В данном случае такой уверенности не было: казалось, что это могло быть даже реальностью, но воспринятой в затемнённом состоянии сознания, скажем, в состоянии гипноза.
Упомяну здесь только одно, самое отчётливое из них. Меня ведут (кто именно, я не «вижу», лишь чувствую, что «они» идут рядом) в подвал. Дальше я оказываюсь как бы внутри какого-то гигантского пресса, образованного не плоскостями, а скорее большими полушариями (размером с большую комнату). Эти полушария, неизвестно каким образом, начинают сжимать меня — не моё тело, а моё Я. Появляется ощущение сжимающего пространства. Я не «вижу» и не чувствую «стен» замкнутого пространства, чтобы это побуждало искать выход. Меня сжимает какая-то сила, напоминающая гравитационную. Появляется ощущение «безысходности» атома, которым стало моё Я: его расплющивает невидимая сила.
Вызваны ли такие сновидения теми условиями, в которых я оказался? Возможно. Но если в распоряжении КГБ были психотропные средства, способные вызывать особые эмоциональные состояния (расслабление, подавленность, тревогу, страх, безволие и т. п.), то почему бы не добавлять их в пищу? Ведь это очень просто делать. Мой опыт (ощущения и самонаблюдение) свидетельствует скорее о высокой вероятности использования таких средств. И хотя эта вероятность позволяет мне утверждать об этом лишь в виде предположений (которые, следовательно, требуют дополнительных подтверждений), но было бы безответственно не сказать об этом опыте. Априори исключать такую возможность можно либо ссылаясь на технологическую несостоятельность КГБ это делать, либо же предполагая, что он не мог использовать имеющиеся возможности вследствие соблюдения этико-правовых ограничений. Думать, что соблюдение этических или правовых ограничений делало невозможными такие действия, означает проявлять недостаток реализма. Так что с высокой степенью вероятности можно предполагать, что простота использования психотропных средств в условиях содержания в камере следственного изолятора скорее склоняет к тому, что их всё-таки использовали. Хотя это лишь предположение, которое вряд ли будет проверено, но мой опыт скорее подтверждает, чем опровергает его. Всё же только рассекречивание соответствующих исследований, которые велись для нужд КГБ, и свидетельства людей, причастных к таким исследованиям или к использованию соответствующих средств, дали бы нам неопровержимые доказательства. Но и до сих пор те, кого всевозможными способами заставили работать на КГБ, не решаются это делать. Думаю, не только из-за страха перед осуждением, но и ввиду собственной безопасности. И не могу с уверенностью сказать, что у них для этого нет оснований.
Но если говорить в общем, то в воображении диссидентов 60–80-х годов стояли картины пыток, которым подверглись все, кто попадал ранее в тиски репрессивных структур. За нами, диссидентами, стояли миллионы уничтоженных, жестоко замученных репрессивными структурами ЧК, ГПУ, НКВД. Что касается вышеназванных вмешательств в мою нервную систему, то я не оценивал их как однозначно нацеленные на причинение вреда моему физическому здоровью, не говоря уже о физическом уничтожении. Если бы речь шла о достижении этих целей, то КГБ имел в своём распоряжении достаточно средств, использование которых было бы незаметным. Не наблюдал я также, что эти вмешательства существенно подрывают моё сознание или умственные способности (в противоположность эмоционально-волевой сфере). Правда, из своих самонаблюдений, звуковые «интерференции» (наложения) влияли на запоминание — например, читаемого текста или сказанных кем-то фраз. Было трудно сосредотачиваться или последовательно думать. Исследование таких интерференций (одновременных или последовательных во времени) — известная тема психологических исследований, в частности в исследовании процессов запоминания и забывания.
* * *
Что касается упомянутого замечания врача о моих особенностях как причине повышенной чувствительности к звукам, то некоторые эпизоды в этих воспоминаниях будто бы подтверждают правомерность такой этиологии. Из воспоминаний о войне достаточно вспомнить мою реакцию на взрывы снарядов во время моего пребывания в погребе. В моих воспоминаниях о войне содержится предположение, что война вытеснила из моей памяти более ранние детские впечатления. И так же выход воображения за пределы реальности в состоянии испуга (в случае с «ворами») может быть основанием для оценки вышеупомянутых сновидений как обусловленных определёнными особенностями моей психики. Действительно, нервы и психика ребёнка, в четырёхлетнем возрасте оказавшегося в пространстве военных действий и находившегося в нём до семи лет, не могли не испытать ударов, которые должны оставлять свои следы. Так что я имел основание согласиться с высказанным диагнозом, но я его категорически отверг как сознательно спланированное средство давления. И сегодня, уже ретроспективно, я убеждён, что так оно и было.
Моя убеждённость, что моё состояние не является обычным следствием моих особенностей, основывалась, в частности, на собственном самонаблюдении и самооценке. Думаю, что упомянутый эпизод в детстве с выходом воображения за пределы реальности стал толчком к тому, чтобы развить в себе критическую установку, связанную с разграничением иллюзорного и реального. Включая и настороженную самокритичность, нацеленную на то, чтобы противостоять склонности к преувеличенным подозрениям. Чтобы каждый раз критически взвешивать любое своё предположение. Я считал, что даже если кагэбисты имеют в своём арсенале мощные средства воздействия на нервную систему и психику и могут их использовать, то пока я сохраняю своё самосознание и моё Я стоит на страже моей личной идентичности, меня не удастся запутать: cogito, ergo sum. Можно влиять на эмоциональную сферу психики и даже на волевые качества, но пока человек сохраняет свет самоосознания, он способен сопротивляться. Победа же путём разрушения самого центра самосознания фактически означала бы поражение самих психотехнологов. Ведь психотехнику они стремились использовать только как средство морально сломить человека; причинение же психического заболевания не способствовало бы достижению такой цели.
* * *
Итак, теоретическая проблема, что психика и самосознающее Я в условиях технократического тоталитаризма становится объектом манипуляции, превратилась для меня из теоретической гипотезы (которую я высказывал до заключения) в практическую ситуацию. В ощущение угрозы подрыва личной идентичности в условиях полной и длительной изоляции. Угроза, что твоя нервная система и психика становятся объектом манипуляций, цель которых тебе неизвестна, стала реальной. К тому же использование психотропных средств позволяет, в сочетании с предварительно собранной информацией о личности, модифицировать психику, незаметно для неё самой (усиливая определённые особенности или недостатки личности).
С этой точки зрения можно объяснить тот интерес КГБ к особенностям поведения и психических состояний личности, который я вычитывал в допросах «свидетелей», прежде всего моих родственников. Кагэбисты их подталкивали к мысли, что меня побуждали к действиям не мои «антисоветские» убеждения, а мои психические особенности и переживания. И некоторые из моих родственников поддавались, выдумывая соответствующие факты, чтобы таким образом облегчить мою вину. Так появились записи в протоколах допросов, что я в течение долгого времени сидел на могиле матери и т. п. Предполагаю, что какая-то часть такой информации была отнесена к оперативным данным для обоснования решения о направлении на психиатрическую экспертизу. То, что вносилось в протоколы дела, служило средством устрашения перспективой помещения в психиатрическую больницу. Но независимо от цели, с которой применялись названные выше действия, я осознавал последствия этих действий для эмоциональной сферы моей психики. Когда я сравнивал своё самочувствие в первый день своего пребывания в камере с тем состоянием, в котором находился в конце следствия, то должен был оценивать себя в значительной мере стерроризированным. Такие последствия неминуемо должны были бы наступить, даже если исходить из оптимистического предположения, что названные действия использовались с лечебной целью.
И всё же, несмотря на страдания от боли, ситуация, в которой я оказался, приобрела для меня характер духовного приключения. Моё «Я», или, иначе, моя субъективность, моя личная идентичность подвергалась испытанию. В моём отношении к этому новому опыту — внешнему и внутреннему — важными были познавательные интересы. Ведь в Киевском университете я всё-таки специализировался по психологии, да и позже проявлял интерес не только к нормальной психологии, но и к психиатрии, всякий раз читая что-то при случае. И эта заинтересованность придавала определённый смысл тому, что я переживал: приключение как возможность приобрести необычный для себя внутренний опыт, пусть и дорогой ценой. Иногда у меня складывалось впечатление, что в отдельных случаях мои «манипуляторы» сознательно обогащают меня опытом, рассчитывая, что я, со своим рационалистическим и реалистическим образом мышления, оценю их возможности с должным интересом.
Забегая вперёд, замечу, что в конце 80-х — начале 90-х у меня были эпизодические дискуссии с активистами движения за «чистое сознание», то есть сознание, свободное от внешних вмешательств. Речь шла о вмешательстве в психику любыми средствами, объектом которого может быть сознание, эмоции, воля, внутренняя речь, воображение и т. п. Сегодня в своей антиамериканской риторике Наталья Витренко время от времени упоминает об «американских чипах», которые вживляют, как можно догадаться, без ведома лиц. Но если оставить в стороне эти политически мотивированные заявления, то к некоторым из таких активистов я отношусь с пониманием. Потому что считаю проблему важной, а их обеспокоенность оправданной. Даже масс-медиа, особенно телевидение, могут быть причастны к «зомбированию» населения, используя разного рода средства внушения. Но моё расхождение с этими активистами заключалось и заключается в том, что общие заявления о возможности или реальности таких вмешательств бессильны, если не опираются на соответствующие факты. Более того, такие заявления могут повлечь очень нежелательные общественные последствия — приводить к ухудшению состояния психики людей, склонных к подозрительности и самовнушению. Было бы опрометчиво пренебрегать этими последствиями. Результативными такие обсуждения могут стать лишь при условии, если внимание психологов, нейрофизиологов, психиатров будет сосредоточено на технических возможностях, которые открывают новые технологии, и выяснении возможных способов злоупотребления этими технологиями.
В заключение этого раздела сделаю актуальное замечание. Коммунистическая традиция, которая влияет на правосознание и в современной Украине, склоняет к тому, что каждый обвинённый (арестованный) уже виновен. Понятие, что обвинённого изолировали только «в интересах следствия» и что обвинение ещё должно быть доказано, трудно прививается. Даже следователи находятся в плену этого ошибочного представления, когда считают, что те условия, в которых находится обвинённый, он якобы уже «заслужил». Я уже не говорю о распространённых сегодня практиках принуждения обвинённых, в том числе путём пыток, давать показания против себя или даже наговаривать на себя. Поскольку мы имеем дело не с исключениями, а, по данным правозащитников, с распространённым явлением, то, с моей точки зрения, это должно побуждать власти к чрезвычайным действиям. Но по мере научного прогресса в исследовании психических процессов и разработке разного рода манипулятивных психотехнологий, эти технологии могут заменить использование физических пыток, поскольку их использование труднее контролировать. В любом случае необходим надлежащий контроль со стороны адвокатов, родных, общественных организаций над состоянием лица, которого временно задержали или изолировали в интересах следствия.
* * *
Но кроме того, по мере возможности, находясь в следственном изоляторе, я старался поддерживать своё физическое состояние. Последнему из «валютчиков», с которым сидел в камере, я обязан тем, что своим примером он побудил меня обмываться в туалете холодной водой, и я стал это делать регулярно. Делал гимнастику и обмывался холодной водой, даже когда был отправлен на психиатрическую экспертизу. Время пребывания на этой «экспертизе» было для меня временным отдыхом от непрерывного терроризирования звуками в следственном изоляторе. В комнату ко мне поселили молодого человека, видимо, из персонала: он вёл себя сдержанно, без каких-либо провокаций (то есть без каких-либо действий, рассчитанных на мою реакцию).
Женщина-психиатр Наталья Максимовна Вынарская давала мне научные книги, и я мог, наконец, читать. На прогулку выходил один во дворик перед окнами этого учреждения. Незадолго до объявления экспертного заключения Вынарская подошла ко мне во время прогулки для короткого разговора. Целью разговора был заданный мне вопрос: признал бы я свою вину, если бы знал, что в противном случае буду брошен в психушку на долгие годы. Я чувствовал, что она относится ко мне доброжелательно и её вопрос не является попыткой запугивания или давления. А потому ответил ей совершенно искренне, что даже в ситуации такого выбора не признаю себя виновным.
* * *
По завершении следствия я написал Заявление (оно есть в томе 27-м нашего Уголовного дела № 58, хранящегося в архиве Службы безопасности Украины).
Начальнику следственного отдела КГБ
при Совете Министров УССР
Туркину В. П.
обвиняемого Лисового В. С.
Заявление
Ознакомившись с материалами Дела № 58, к своим показаниям хочу добавить ещё следующее. В обвинительном Постановлении утверждается, что, совершая перечисленные в нём действия, я исходил из националистических позиций. Если национализмом называть национальный эгоизм или какую-то разновидность украинского шовинизма, то я категорически отрицаю такое утверждение постановления. Оно не подтверждается собранными следствием материалами. В частности, в «Открытом письме...» отсутствуют какие-либо утверждения о какой-то низшести или неполноценности (биологической или моральной) неукраинских наций, отсутствует там и проповедь ненависти к какому-либо народу, в том числе русскому. Об отмежевании от национализма как национального эгоизма в «Открытом письме...» специально подчёркивается. В Письме говорится лишь об устранении ущемления национальных интересов на Украине — как раз во имя настоящей дружбы между народами СССР, в частности с русским народом. В «Открытом письме...» я указываю на факты, которые вредят такой дружбе, и отсюда исхожу в критике этих фактов. Так же ни один свидетель не утверждает, что я когда-либо и где-либо унижал достоинство какого-либо народа или проповедовал ненависть к какому-либо народу или расе. Я хорошо помню, что никогда даже какой-то своей невнимательностью или нетактичностью не оскорбил чьего-либо национального достоинства.
В своём «Открытом письме...» я действительно утверждаю об ущемлении национальных интересов на Украине. Это проявляется, на мой взгляд, в сведении к минимуму национально-государственной автономии, ошибках в культурной и внутренней политике. Эти ошибки, в частности, заключаются в стирании национальных признаков украинского народа — языка, обычаев и т. п., в репрессиях в отношении тех людей, которые пытаются будить национальное самосознание украинцев. Как раз в связи с этим я и говорю о геноциде. Я не отрицаю, что это слово в таком значении можно было бы здесь и не употреблять, поскольку речь идёт не о физическом уничтожении. Об этом я давал в своё время показания. Но слово «геноцид» означает народоубийство, а говоря о стирании этнических признаков украинского народа, я имел в виду психическую смерть народа. Ибо если народ теряет свою национальную самобытность — язык, обычаи, полноценную национальную культуру, — то он так или иначе перестаёт существовать как народ. При этом я считал, как и теперь считаю, что ярко выраженная национальная самобытность любого народа является той силой, что возбуждает интерес к нему со стороны других народов, а следовательно, способствует единению народов в братскую семью. Если же обвинительное постановление называет национализмом защиту законных национальных интересов, то, на мой взгляд, такой национализм является составной частью пролетарского интернационализма, а не противоречит ему.
Моё понимание национального вопроса не является каким-то исключением в марксизме или следствием чтения произведений «самиздата»: ещё до ознакомления с этими произведениями я выработал такой взгляд в результате изучения произведений классиков марксизма-ленинизма. Известно, что принцип национального самоопределения в марксизме рассматривается как органическая составная часть принципа интернационализма. Ленинские утверждения о взаимосвязи принципа интернационализма с принципом национального самоопределения хорошо известны в среде специалистов по гуманитарным наукам марксистского направления. И бесспорно, что с этими взглядами я, как преподаватель марксистско-ленинской философии, был ознакомлен ещё до всякого знакомства с произведениями «самиздата». Наоборот, названные в обвинительном постановлении произведения «самиздата» я читал и распространял потому, что, за редкими исключениями, не находил в них противоречия с марксистско-ленинским пониманием национального вопроса.
С другой стороны, принцип самоопределения наций в отношении Украины я никогда не доводил до требования выхода Украины из состава СССР. Считая, что незаконно и несправедливо преследовать тех людей, которые отстаивают такое требование, если при этом они исходят из советских и социалистических принципов, я сам нигде и никогда такое требование не отстаивал. Этого нет ни в «Открытом письме...», ни в показаниях свидетелей. Следовательно, даже принцип национального самоопределения я применяю далеко не в полном его объёме. В «Открытом письме...» я ставлю вопрос лишь о расширении национально-государственной автономии Украины; ясно, что такая позиция не может оцениваться как буржуазно-националистическая или национально-эгоистическая. Критика других недостатков нашей действительности, представленная в моём «Открытом письме...», также не может квалифицироваться как националистическая.
Считаю, что утверждение о националистическом характере написанного мной «Открытого письма...» является в корне неверным и должно быть пересмотрено.
11 сентября 1973 г. Подпись
Такое же заявление можно было написать и по поводу оценки Письма и распространения самиздата как «антисоветской» деятельности.
* * *
Суд, продолжавшийся с 26 ноября до 6 декабря 1973 — то есть после полуторагодичного пребывания в следственном изоляторе, — завершился. Евгению Пронюку дали максимальный срок (7 лет лагерей строгого режима и пять лет ссылки), мне — 7+3, Василию Овсиенко — 4 года лагерей. Я воспринимал признание вины Василием как вынужденную уступку. Но при этом всё-таки верил, что он не свернёт с дороги, которую выбрал. Что, в конце концов, и подтвердилось.
Объявили, что, в соответствии с законом, я имею право на написание апелляции по «обоснованности» вынесенного приговора. Я колебался и всё-таки написал такую жалобу, несмотря на то, что пребывание в следственном изоляторе КГБ уже стало для меня крайне невыносимым. Закончилось оно в конце марта — начале апреля (в середине апреля я был уже в лагере). На «воронке» отвезли на вокзал, посадили в «столыпинский» вагон, поезд тронулся: снова в пути.
В первом томе моего оперативно-следственного дела (л. 12-14) дана характеристика на меня, в которой подводится своеобразный итог моего пребывания под следствием.
СПРАВКА
в отношении ЛИСОВОГО В.С.
- ЛИСОВОЙ Василий Семёнович, 17 мая 1937 года рождения, украинец, уроженец с. Старые Безрадичи Обуховского района Киевской области, с высшим образованием (в 1962 году окончил философский факультет Киевского госуниверситета), кандидат философских наук, до ареста работавший младшим научным сотрудником Института философии АН УССР, из членов КПСС исключён в 1972 году в связи с привлечением к уголовной ответственности, женат, имеющий на иждивении двух малолетних детей — сына, 1972 года рождения и неродную дочь, 1966 года рождения, ранее не судимый, до ареста проживавший в г. Киеве, Дарницкий бульвар, 1, кв. 52/7, арестован КГБ при СМ УССР 8 июля 1972 года в связи с частичной реализацией дела оперативной разработки «Блок» и 27 августа 1973 года ему предъявлено окончательное обвинение в том, что он на почве националистических убеждений и неудовлетворённости существующим в СССР государственным и общественным строем на протяжении 1967-1972 г.г. в целях подрыва и ослабления Советской власти изготовлял, хранил и распространял антисоветские и клеветнические документы, в которых возводятся измышления, порочащие советский государственный и общественный строй.
Как установлено следствием, большинство враждебных документов ЛИСОВОЙ получал для ознакомления, хранения и распространения от ПРОНЮКА Евгения Васильевича, привлечённого к уголовной ответственности по одному с ним уголовному делу. Среди документов, которые хранил и распространял ЛИСОВОЙ, были такие враждебные материалы, как «Репортаж из заповедника им. Берия», «Хроника сопротивления», «Среди снегов» В. МОРОЗА, «Бельмо» М. ОСАДЧЕГО, «Горе от ума (Портреты двадцати "преступников")» В. ЧЕРНОВОЛА, «Интернационализм или русификация?» И. ДЗЮБЫ, выпуски нелегальных сборников антисоветского журнала «Украинский вестник» и др.
Кроме того, ЛИСОВОЙ в марте-апреле 1972 года вместе с упомянутым ПРОНЮКОМ, привлечённым к уголовной ответственности по одному с ним уголовному делу, и бывшим студентом-выпускником Киевского университета ОВСИЕНКО Василием Васильевичем принял активное участие в организации выпуска и распространении мартовского 1972 года номера т.н. «Украинского вестника», а в июне 1972 года составил антисоветский документ под видом т.н. «Открытого письма членам ЦК КПСС и ЦК КП Украины», ознакомил с его содержанием ряд лиц и, в целях широкого распространения этого враждебного документа среди частных лиц и учреждений, вместе с ПРОНЮКОМ и ОВСИЕНКО, организовал его размножение на пишущей машинке.
Признавая факты, изложенные в постановлении о привлечении его к уголовной ответственности, ЛИСОВОЙ отрицал свою вину, антисоветскую направленность своих действий.
ЛИСОВОМУ предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 62 ч.1 УК УССР (антисоветская агитация и пропаганда).
ЛИСОВОЙ развит в интеллектуальном отношении, отличается корректностью в обращении, аккуратен и вежлив, дисциплинирован. Положительно относился к труду, принимал участие в общественной жизни коллектива по месту работы. Спиртные напитки не употребляет, курит.
По своему характеру замкнут, осторожен, раздражителен, однако умеет сдерживать и контролировать себя, предпочитает находиться в одиночестве. Отличается забывчивостью. Требований режима не нарушал.
По мере общения следователя с ним и налаживания контакта ЛИСОВОЙ становился более доступным в общении, охотно беседовал на отвлечённые темы, в частности о поэзии, поскольку сам пишет стихи, хотя опубликованных художественных произведений не имеет.
К своей судьбе ЛИСОВОЙ не безразличен, привязан к семье, однако своих чувств старается не проявлять. Старается выпятить свою роль в совершённом преступлении и несколько смягчить участь ПРОНЮКА, под влиянием которого находился, и ОВСИЕНКО.
Мечтает о продолжении научной работы в будущем, хотя и допускает, что осуждение его может отрицательно сказаться на осуществлении этих планов.
Во время следствия с ЛИСОВЫМ был установлен контакт, и он под тяжестью собранных доказательств рассказал о своей действительной роли в совершении преступления, роли в этом других лиц.
В процессе следствия он направлялся на стационарную судебно-психиатрическую экспертизу, которая отклонений психоневрологического характера у него не выявила.
В совершении преступления ЛИСОВОЙ не раскаялся и свои поступки не осуждает.
20 ноября – 6 декабря 1973 года уголовное дело в отношении ЛИСОВОГО, ПРОНЮКА и ОВСИЕНКО было рассмотрено в открытом заседании Киевским областным судом.
Преступная деятельность подсудимого ЛИСОВОГО доказана. Суд, признав ЛИСОВОГО виновным в проведении антисоветской агитации и пропаганды, приговорил его к 7 годам лишения свободы в исправительно-трудовой колонии строгого режима и назначил ему дополнительную меру наказания в виде ссылки сроком на 3 года.
Верховный суд Украинской ССР своим определением от 28 февраля 1974 года приговор Киевского облсуда в отношении ЛИСОВОГО оставил без изменения.
Старший следователь по ОВД
спецотдела КГБ при СМ УССР
подполковник (Караванов)
11 марта 1974 г.
* * *
Символ дороги. Отделение уголовных заключённых во время «этапа», как и наличие отдельных лагерей для политических заключённых, — признак признания де-факто особого статуса политических заключённых в СССР в 60–80-х годах. Поэтому в «столыпинском» вагоне меня, как и полагалось по статусу политзаключённого, поместили в отсек отдельно от уголовных заключённых. Ко мне подселили очень молчаливого пожилого человека. Мужчина курил самокрутки из душистого табака. Немалый соблазн для меня, поскольку я решил, что в лагерях не должен курить (и действительно не курил в течение нескольких лет пребывания в лагерях и камерах). Молчание моего соседа меня устраивало: возможность побыть наконец «с собой» — без посредников.
Впечатление об этапе — как символе дороги страданий и смертей многих поколений украинцев — дало мне зрелище перевода заключённых из поезда в поезд в Москве. Здесь начинались дороги бесчисленных «врагов» — тех, кому не суждено было погибнуть в вооружённой борьбе против большевиков за независимую Украину: раскулаченных, национал-коммунистов, деятелей украинского культурного возрождения, бойцов УПА, их выселенных семей, крестьян, осуждённых за колоски, и т. д. Коммунистическая империя, чувствуя, пусть подсознательно, свою историческую обречённость, стремилась демонстрировать непоколебимую твёрдость — вселять в свои жертвы ужас перед своей жестокостью. Этап — колонны заключённых, окружённых конвоем, с собаками и грубыми окриками — должен был вселять чувство безнадёжности в противостоянии этой жестокой силе.
* * *
В этом моём повествовании символ дороги, как смена время-пространств — важнейшая метафора, со всей многозначностью её смыслов. Хотя никто из нас не выбирает пространство и время своего рождения, но данность время-пространства, в котором нам суждено родиться и жить, является возможностью, чтобы выбирать направление движения. В селе моего детства словом «доля» (судьба) называли приземистое круглое растение, размером не больше ладони, похожее на шишку, которую пекли на свадьбу. Одним корешком оно привязано к земле, а его продолговатые листочки, как лучи в пространстве, символизируют устремления души — желания, замыслы, мечты.
Каждое из время-пространств в этих моих рассказах-размышлениях — село, город (Киев-Тернополь-Киев), заключение (лагеря и ссылка), возвращение в «большую зону», украинское общество после распада СССР — имеет свою «поверхность» и свой скрытый подтекст. Перестук колёс «столыпинского» поезда означал не только смену декораций, но и завершение действия, которое следовало бы описать в стилистике абсурда. Моя теперешняя дорога навевала надежды на освобождение от духоты помещения, в котором творилась иллюзия реальности уже обречённого мира. Словом «обречённость» я называю здесь не столько свою убеждённость в скором будущем коммунистического режима и СССР, как это фактически оказалось (такой уверенности у меня не было), сколько духовно-бытийную обречённость. Если даже следователи осознают себя лишь «винтиками» в машинерии репрессий и не смеют думать, то глупая машинерия диктатуры должна дойти до маразма.
* * *
Раздел IX. Лагеря и ссылка
1. Общие заметки. Мордовские лагеря
Хронология лагерей и ссылки. Что касается событий и хронологии, то при написании этого раздела я полагался не только на свою память, но и на свою переписку с женой, «Хронику текущих событий», письма и воспоминания других политзаключённых. Многое уточнить и исправить помогло рассекречивание документов Службой безопасности Украины, связанных с делом «Блок». Время моего пребывания в лагерях территориально делится на два периода — два лагеря в Мордовии и три на Урале, в Пермской области. После этапа из Киева в конце марта 1974 года в первых числах апреля меня поместили в лагерь 3-5 (ЖХ-385/3-5), в посёлке Барашево (лагерь из комплекса Дубравлаг). В этом лагере я был вскоре наказан несколькими сроками ШИЗО (штрафной изолятор, до 15 суток), а накануне нового 1975 года или в первые дни января брошен на пять месяцев в лагерную тюрьму — ПКТ («помещение камерного типа», до шести месяцев). После возвращения в зону недолго в ней пробыл, потому что 25.07.1975 г. меня снова отправили в ПКТ на шесть месяцев. Однако на третьем месяце отбывания ПКТ, 19 октября, меня самолётом отправили в Киевский изолятор КГБ, в котором я пробыл до 24 января 1976 г. Дальше — пребывание в 19-м лагере (ЖХ-385/19), станция Потьма, пос. Лесной. Во второй половине августа 1976-го меня отправили в пермские лагеря. Сначала в 37-й лагерь (ВС-389/37), посёлок Половинка, в конце ноября — в 36-й (ВС-389/36), поселение Кучино (Скальнинское управление лагерей). В июне 1977 года меня во второй раз отправили в киевский следственный изолятор КГБ: срок пребывания с 18 июня по 18 сентября 1977 года. В конце мая 1978-го года переместили из 36-го лагеря в 35-й (ВС-389/35) на станции Всехсвятская. Из лагеря в ссылку был вывезен 5 июня 1979-го.
Ссылку отбывал в Бурятии, сначала в поселении Новая Брянь Заиграевского р-на. Но 11 июня 1980 года меня арестовали и поместили в следственную тюрьму в Улан-Удэ, 15 июля осудили по ст. 209, ч. 1, 41 УК РСФСР («уклонение от труда») на один год лагеря. Отбывал наказание в лагере для уголовных — в селе Цолга (ОВ-94-5-«В») Мухоршибирского р-на Бурятской АССР. Оставшуюся часть ссылки отбывал в Бурятии, в поселении Илька Заиграевского района, вместе с женой и детьми, которые переехали ко мне. Летом 1983 года наша семья прибыла в Киев.
* * *
Мой рассказ о лагерях и ссылке получится обеднённым описанием быта и событий лагерной жизни. Даже если бы я поставил перед собой цель подробнее описать быт и события лагерной жизни, мне бы не удалось этого сделать должным образом. Прежде всего вследствие особенностей своего внимания и памяти. Могли бы помочь записи, если бы я сумел их написать и сохранить (Михаил Хейфец, прибегая к хитростям, сумел это сделать). Важно и то, что я не был активистом лагерной борьбы, хотя и принимал участие в разного рода протестах. Внимание тех политзаключённых, которые проявляли инициативу в разного рода акциях протеста или передавали информацию из лагерей на «волю», неминуемо было сосредоточено на деталях быта и событиях лагерной жизни. С большим уважением отношусь к публикациям политзаключённых, которые различными способами обнародовали, фиксировали и сохраняли информацию о лагерной жизни. К счастью, сегодня уже обнародована значительная часть такой информации: сообщения, заявления и обращения, письма, воспоминания. В электронной версии сегодня доступны разнообразные тексты в Виртуальном музее диссидентского движения; в Интернете также есть «Хроника текущих событий». Опубликованы все номера «Украинского вестника». Достойна высокой оценки публикация «Международного биографического словаря диссидентов», т.1. Украина, в двух частях (книгах) — составлен Евгением Захаровым и Василием Овсиенко (Харьков, «Права людини», 2006 г.).
Имеют значение также особенности восприятия времени в замкнутом время-пространстве лагерей, камер и тюрем. Первое, что находится на поверхности этого восприятия, — ощущение медленного течения времени, известное каждому человеку из опыта ожидания. В лагерях «ожидание» освобождения из лагеря или тюрьмы преимущественно нацелено на отдалённое будущее. Невольно вспоминаешь, сколько тебе ещё осталось отбыть. Самый первый способ «борьбы» с этой медлительностью — не думать об окончании срока. Особенно учитывая то, что его всегда могут продлить. Для диссидентов примером «примирения» со временем были политзаключённые с отбытыми сроками наказания в 25, а то и больше лет. Но в ретроспекции это медленное время немилосердно сокращается: оглядываешься на пережитое и обнаруживаешь, что дни, недели, годы сжимаются. Важнейшей причиной этого сокращения является обеднённость жизни значимыми событиями. Отгороженность от мира, природного и человеческого, и искусственность жизненного пространства — основная причина этой обеднённости. Чрезмерная регламентация жизни и ежедневный примитивный физический труд оставляли мало свободного времени на культурные и интеллектуальные занятия. А для большинства политзаключённых, независимо от уровня образования, такие интересы были важны. Для меня же интеллектуальные впечатления от редкой книги, которую сумел раздобыть, или от общения с людьми, которые думают над теми же проблемами, что интересуют меня, всегда принадлежали к важнейшим событиям.
Даже в свободное от работы время в бараке, заполненном многими заключёнными, было нелегко сосредоточиться. Хотя бы речь шла даже не о писании, а о чтении каких-то содержательно более сложных текстов. Между тем в камерах (ШИЗО и ПКТ) заключённый, отказывавшийся от работы, имел свободное время, но только для размышлений. Замысел состоял в том, чтобы не оставлять времени для политзаключённых, чтобы они не могли поддерживать профессиональный или духовный уровень своей жизни. Это в большой степени касается и способов наказания уголовных преступников — и не только в карательной системе, действовавшей в СССР, но и в той, что действует в современной Украине. Можно лишь приветствовать современные попытки гуманизировать эту систему. Но это уже другая тема разговора.
* * *
Это в значительной мере подтверждает предостережение Евгения Пронюка, что в лагерях я только зря потрачу время. Вместо того чтобы «на воле» иметь всё-таки лучшие условия для своих интеллектуальных занятий. И действительно, самое важное моё приобретение в лагерях лежит не в интеллектуальной, а в экзистенциальной плоскости. Экзистенциальный опыт касается не столько испытания себя в этой новой ситуации, сколько затаённой радости, что я наконец там, где, учитывая суть политической системы, должен быть. Важнейшим было чувство единения с людьми — отобранными судьбой и собственной волей. Я имею в виду особое чувство, возвышающееся над реальными взаимоотношениями с людьми, с которыми я теперь оказался в ограждении. Лучше всего, на мой взгляд, это чувство единения выразил Евгений Сверстюк в стихотворении «На щедрий вечір»: мотив этого стихотворения стал ещё выразительнее в исполнении Елены Голуб.
В лагерях диссиденты встретились с предыдущим поколением национально-освободительной вооружённой борьбы — из Украины, Литвы, Латвии, Эстонии. Они прошли через значительно более тяжёлые испытания, чем мы, диссиденты. Для нас был важен не только этот опыт их мужественного противостояния репрессивному режиму, но также и их отношение к нам, новой волне политзаключённых. Хотя идеология украинских диссидентов существенно отличалась от идеологии ОУН, но большинство уповцев соглашались с тем, что борьба за независимую Украину в новой ситуации требует обновления идеологии. Но больше всего имела значение моральная поддержка диссидентов со стороны людей, которые за десятки лет прошли пытки, каторги, тюрьмы и лагеря. Они помогали преодолеть моральный кризис тем из диссидентов, кому не удалось устоять на следствии и кто был вынужден признать вину.
* * *
Интеллектуальные занятия. И всё же на протяжении своего пребывания в лагерях и в ссылке я упорно пытался использовать любую щель для интеллектуальных занятий. Помогало, наверное, то, что и «на воле» у меня никогда не было надлежащих бытовых обстоятельств и покоя для таких занятий. В лагерях была возможность получать книги через учреждение «Книга — почтой»: хотя и сам заказывал, но чаще это делала Вера. И всё же выбор был ограниченным: преимущественно приходилось довольствоваться тем, что тебе «досталось», а не тем, что считал самым нужным.
Из философской литературы за всё время пребывания в лагерях и в ссылке я прочитал всего несколько книг, если оставить в стороне журнальные статьи. Средством, которое помогало сосредоточиться (его использовали также другие политзаключённые), было составление конспектов-комментариев. Я считал, что сделал такие комментарии к «Аналитикам» Аристотеля, но в бумагах, которые привёз из ссылки, их не обнаружил. Сохранились лишь конспекты-комментарии к «Энциклопедии философских наук» Гегеля (в русском переводе). Сделал также выписки из некоторых других книг и журналов. Сохранившиеся выписки свидетельствуют, что, кроме философии, значительное место в моих интересах занимала также психология.
Более перспективными оказались мои размышления и заметки в лагерях, нацеленные на выяснение содержания основополагающих философских понятий. Такой замысел, даже если бы я принялся его осуществлять «на воле», было бы оправданно оценивать как слишком амбициозный. Ведь такие статьи преимущественно пишут разные авторы, специализирующиеся на отдельных разделах философии, как это мы видим в большинстве западных энциклопедий. К тому же их написание требует учёта большого количества публикаций. А потому эта моя затея в лагерях кажется и вовсе утопической. Но я всё-таки записывал свои мысли в тетрадь под названием «Философский словарь». В конечном итоге эти размышления оказались для меня полезными — для написания статей на эту тему в 90-х — начале 21-го века. Полезными как раз потому, что я был вынужден полагаться только на себя: это повысило мою чувствительность к изложениям, которые потом находил в западных энциклопедиях.
* * *
В русле своего интереса к мировоззренческим аспектам литературных произведений (заложенного «на воле» статьёй о поэзии Богдана-Игоря Антонича) я писал разного рода заметки-комментарии к прочитанным литературным произведениям. Мои интересы лежали в русле широкой темы — человек и мир в литературных произведениях. На воле сосредоточенность на чтении и написании философских текстов оставляла совсем мало времени на эту побочную тему моих интересов. В лагерях — из всего, что мне «досталось» и что я прочитал, — только некоторые тексты были важны под этим углом зрения. Свои «заметки к прочитанному» я писал в виде небольших, но, желательно, завершённых статей — к «Одиссее» и «Илиаде», «Божественной комедии», драмам Шекспира, некоторым прозаикам и поэтам 20 в. (Камю — «Посторонний», «Чума», Т. Манн — «Будденброки», Фолкнер — «Осквернители праха», Рунеберг — «Ослеплённые», поэзия Уитмена, Рильке и др.). Когда считал их хотя бы относительно завершёнными, переписывал в письмах к Вере, а потому известны даты их написания. Из других делал лишь выписки — поэзия Гёте, Флобер «Воспитание чувств» (М., 1954), Джойс «Портрет художника в юности» (ж-л «Иностр. л-ра», 1976, № 10, 11, 12), Филипп Эриа «Время любить» (М., 1971), стихи Пабло Неруды («Сонеты о любви») и т. п. Из украинской литературы нахожу в бумагах комментарии к произведению Леся Мартовича «Забобон», а также выписки из стихов Тараса Шевченко, Леси Украинки, Ивана Франко. Эти выписки я делал для того, чтобы не забывать стихи, которые ценил.
Меня интересовала роль литературы и искусства в преобразовании миропониманий — в переходе от одной эпохи к другой в русле динамичной западной цивилизации. В этом изменении миропониманий роль литературы и искусства не менее важна, чем роль философии. В СССР эту тему легче было исследовать как раз в литературоведении и искусствоведении: по сравнению с философией, они были лучше защищены от идеологического контроля. Поскольку я писал эти свои заметки без доступа к интерпретациям других авторов, то их источниковая база была обеднена. К тому же пережитое во время следствия сыграло роль той интерференции, которая отодвинула на периферию памяти значительную часть того, что я читал раньше. Поэтому я писал эти свои заметки «вплотную к тексту» — какие мысли вызывает у тебя данный текст? И всё же я стремился сохранить их — в надежде, что смогу их использовать в будущем, если бы появилась такая возможность.
В этих моих заметках к литературным произведениям, как и в моих поэтических упражнениях, воплощено направление мышления, выходящее за пределы аналитической философии. Я имею в виду способ мышления, который был сопровождением моего рационализма. В нём душа говорила, что знает истины, которых не знает разум (Б. Паскаль). И упомянутые заметки, а особенно поэтические тексты, дают слово тому голосу души. За этим стоит известная проблема диалога между двумя тенденциями в западной философии — аналитической и экзистенциально-герменевтической. Читатель сегодня может обратиться к недавно опубликованной небольшой книге С. Кричли «Введение в континентальную философию» (К., 2008), в которой содержание этого диалога автор разъясняет в доступном, почти популярном изложении.
Как я уже упоминал, ко времени заключения проблематика герменевтики не была мной усвоена. До заключения у меня были лишь начальные знания о феноменологии и философии Хайдеггера. Большее значение для меня имела интеллектуальная эволюция, которую я прошёл в Институте философии и которая заключалась в переходе от теории речевых действий к философии практического действия. Отсюда моё неприятие сциентизма и его критика. Речевое действие можно рассматривать как разновидность практического действия, предполагающего наличие мотивов. Объяснение мотивов побуждает принимать во внимание субъективность деятеля, в частности, его ценностные предпочтения. Хотя в общем личность является творцом новых идей, в том числе ценностно-нагруженных, но язык и внутренний мир любого деятеля можно объяснить, когда мы принимаем во внимание общественно-культурную среду, в которой живёт и действует человек. А это побуждает к тому, чтобы деятельность любого деятеля рассматривать в как можно более широком контексте. Важным, если не решающим, компонентом этого контекста является определённая интеллектуальная или, шире, культурная традиция. Ранее я уже упоминал (в частности, характеризуя образ мышления Евгения Сверстюка) о попытках соединения экзистенциализма с этим акцентом на важности культурной традиции — как передачи «мудрости» от поколения к поколению.
* * *
Чтобы поддерживать и совершенствовать своё знание английского и немецкого языков, я прочитал некоторые художественные книги на этих языках (благодаря жене, которая позаботилась, чтобы у меня были эти книги и словари). Это были опять-таки преимущественно случайные книги (к некоторым из них я составлял словари, что помогает вспомнить, что именно тогда прочитал). Из того, что «досталось», прочитал несколько художественных книг на английском и немецком языках. Из книги “Once upon a time. English fairy tale” (Moscow, 1975) перевёл несколько сказок («Бурю» Шекспира, «Допрос на птичьем дворе» Р. Стаута, «Историю Весельчака» Ф. Брауна, «Волшебную рыбью кость» Ч. Диккенса, «Счастливого принца» О. Уайльда). В ссылке перевёл одну из сказок из книги Deutsche romantische Märchen, Moskau, 1980 (не нахожу этого перевода в своих бумагах). В период лагерей и ссылки перевёл немало ранних стихотворений Бунина и два ранних стихотворения Марины Цветаевой. В последний год в лагерях, неудовлетворённый русским литературным переводом «Слова о полку Игореве», сделал свой перевод, который читал в 35-й зоне (ст. Всехсвятская) некоторым политзаключённым. Насколько помню, Валерий Марченко, при всей его требовательности, оценил этот мой перевод скорее положительно, чем отрицательно (текст перевода в моих бумагах не сохранился). Чтобы усовершенствовать стилистику своей речи, работал над лексикой и фразеологией украинского языка: к этому относится значительное количество (отдельные тетради) разнообразных выписок из литературных произведений (напр., «Лексика и фразеология „Энеиды“»), из фольклора и т.д. Большинство из них сохранились. Среди сохранившихся заметок часть написана карандашом — показатель того, что писал их в ПКТ.
* * *
Поэзия. Ранее я упоминал, что написание стихов, как и слушание музыки или тяга к живописи, активизировало воображение и чувства, давая отдых от умственной усталости. Поэтому время от времени занимался поэтическими упражнениями как побочным занятием. Некоторые стихи, наивные, написанные ещё в тернопольский период, осмелился опубликовать в областной газете Тернопольщины (уже после отъезда в аспирантуру). В аспирантские годы что-то предложил в журнал «Дніпро», и хорошо, что получил отказ (за подписью Ал. Шугая). Человек из редколлегии журнала (не помню его фамилии), встретившись со мной, сказал, что мне лучше заниматься философией. Я согласился с его выводом, уничтожил свою тетрадь, которая, думаю, была достойна такой самокритики. В аспирантские годы попытался модернизировать свой поэтический стиль — в сторону экспрессионизма, сюрреализма с элементами натурализма. До ознакомления с нашим «Уголовным делом» № 58 в феврале 2010 года думал, что из поэтических упражнений до заключения ничего не осталось. Но теперь обнаружил в том «Деле» тайно изъятые стихи у кого-то, кому передал на хранение. Это некоторые предварительные варианты, не совсем завершённые, как и большинство стихов, которые я хранил в «ящике».
Обстоятельства лагерной жизни склоняли к созданию текстов в поэтическом стиле. Поскольку меня, как и других политзаключённых, часто «бросали» в ШИЗО и ПКТ (а в ШИЗО часто без вывода на работу), то сочинение стихотворных текстов было спасением. Философский текст мысленно не составишь: мысль в конце концов запутывалась. Можно играть в шахматы, как это делал Натан Щаранский (о чём он рассказал в своём недавнем видеоинтервью). А также «писать» стихи, потому что текст запоминается. Но прежде всего имело значение то, что лишь силой воображения можно выйти за пределы застенков. В тесной серой клетке только воображение и чувства способны извлечь из памяти впечатления природной стихии и жизни, одухотворённой легендами, мифами и ритуалами. Серость окружения таким образом компенсируется богатством впечатлений, которые хранит память. Думаю, это близко к тому, что имел в виду Игорь Калинец, когда сказал, что обязан поэзии, которая помогла ему выжить в заключении. Важным в этих моих визиях было поэтическое осмысление фрагментов этнокультуры, источником которых была сельская среда моего детства и юности. Я имею в виду попытки за внешней обрядностью «открыть» некоторые скрытые смыслы, жизненно перспективные в индустриальных или постиндустриальных обществах. Их можно обнаружить только с помощью творческого воображения и связанного с ним чувства. Такое выявление скрытых смыслов мы видим в профессиональной живописи наших наивистов и в современных музыкальных модернизированных использованиях фольклора.
* * *
К более крупным вещам, написанным в лагерях, относится поэма «Шевченко»: вариации на темы поэзии Т. Шевченко — с разделами «Бог», «Мир», «Судьба» (текст сохранился, но был мной забракован). Из более крупных вещей, в которых поэтическая форма в основном сводилась к ритмике и в которых преобладает мысль (использование метафор обеднено), относится «поэма» «Разговор на Крестном пути». Я написал её в виде монологов — Фатума, Императора (Власти), Злобы, Уныния, Доброты (Сочувствия), Веры. Сюжетом Пилата и Христа я пренебрёг из-за неоднозначности образа Пилата у евангелистов, которая сделала его привлекательным для литературных интерпретаций (см., напр., статью Л. Н. Когана «Иисус и Понтий Пилат. Три интерпретации одного „вечного“ сюжета» // Философская и социологическая мысль. – 1990, № 9). Текст «Разговора» сохранился, но, перечитывая его, я обнаружил серьёзные недостатки — на этот раз идейные. Во-первых, если голос Императора — это голос Власти, то желательно в диалоге Власти с Христом не принижать власть до произвола, а представить её как воплощение земной справедливости, воплощённой в законе. И с этой точки зрения темой размышлений должны были бы быть взаимоотношения между реально достижимой правовой справедливостью и справедливостью трансцендентной, божественной. Не удовлетворило меня и то, что в этой моей «поэме» отсутствует диалог первосвященников с Христом. А он важен, поскольку касается взаимоотношений христианского универсализма и нациоцентричных религиозных миропониманий. Одним словом, я несколько обеднил мировоззренческий размах темы.
Я не пытался каждый свой «текст» доводить до совершенства, а «прогонять» в памяти видения, едва обозначенные какими-то фразами в начальном виде. Переписывал эти свои «заготовки» в письмах к Вере, хотя и предупреждал, что это лишь «сырые» варианты. После заключения (за исключением двух-трёх написанных стихотворений) прекратил это своё стихосложение. Оказалось, что и времени для работы над предыдущими записями в обрез. Обращаюсь к ним лишь при случае. Для «отдыха». Что касается политических текстов, то во время пребывания в Кучино написал лишь один: обращение к депутатам Верховного Совета Украинской ССР с критикой так называемой «брежневской» Конституции СССР, принятой в 1977 году, и со своими предложениями относительно новой Конституции Украины.
* * *
Чтобы дать представление Читателю, насколько важной была поддержка моей жены в моих интеллектуальных интересах, привожу здесь отрывки из двух моих писем; они не являются исключениями в нашей переписке, скорее наоборот. К сожалению, не каждый политзаключённый имел такую поддержку от родных, и для них общение с другими политзаключёнными становилось единственным средством связи с «большой зоной».
Письмо от 22.10.1976. «Прежде всего спасибо, Верочка, за твои хлопоты и заботу. Спасибо заранее за „Иностранную литературу“ (если у тебя это получится), а также за бандероль, которую я только что получил. И за информацию, данную тобой в последнем письме о том, что у вас вышло из печати из книг. Я вспоминаю, в одном из предыдущих твоих писем ты сообщала мне об Аристотеле и о Гегеле. Я только не знаю, как сейчас обстоят дела с Гегелем. По моим данным: из Энциклопедии ожидается третий том, „Философия религии“ и „Наука логики“, кажется, полностью изданы. Будь добра, сообщи мне, как с покупкой этих книг Гегеля. И завершено ли издание Аристотеля?
Насчёт Бунина. Я хотел бы продолжать переводить стихи этого поэта, но тем путём, которым ты предлагаешь, делать это сложно. Потому что мне самому нужно отбирать (с учётом образного содержания и т.д.), а это можно делать, лишь имея под рукой двухтомник его стихов из десятитомного издания (первые два тома). Из написанных заметок у меня есть неоформленные заметки о поэзии Гейне и немного сыроватые, но завершённые заметки о поэзии Рильке. Всё это громоздкий материал, чтобы его переписывать в письме».
Письмо от 27.03.–1.04.1977. «В эти дни, вот уже не первую неделю, в свободные часы читаю прессу. Кое-что из прочитанного, думаю, тебя заинтересует. Из журналов, которые я получил и прочитал (хотя бы один-два из первых выпусков), самыми интересными были «Вопросы психологии», «Всесвіт», «Природа». В журналах «Вітчизна», «Дніпро», «Вопросы философии», «Вопросы литературы» нахожу одну-две, реже несколько интересных публикаций. Но всё же и в этих журналах время от времени попадается что-то достойное внимания. Но по порядку. Прежде всего о поэзии. Из украинской поэзии, опубликованной в газете «Літературна Україна» и в журналах, редко встречаются стихи, написанные на высоком художественном уровне. Если выбирать из всего, то разве что по признаку, что авторы, преимущественно молодые поэты, проявляют определённые способности, и их стихи, скажем, приятно читать. Не более. Таких нашёл немного.
К стихам по признаку способных поэтов можно отнести стихи Светланы Йовенко («Вітчизна», № 12, 1976, «Дніпро», № 3, 1977), Тамары Коломиец («Дніпро», № 3, 1977), Нины Матвийчук («Вітчизна», № 3, 1977). У этих поэтесс есть владение словом и формой, отдельные стихи сделаны искусно. Но отсутствует рельефность образов, сосредоточенность и движение мысли. Последнее можно было бы условно обозначить как «гётевское начало», духовная углублённость. А у этих поэтесс будто бы много «духовных проблем»: какие только категории тут не фигурируют, но за этим не чувствуется та глубокая нить, которую каждый поэт находит только путём выстраданных поисков.
Из переводов прочитал «Итальянскую весну» Роблеса («Вітчизна», № 1, № 2, № 3), рассказы Джойс Кэрол Оутс, о которых я тебе писал («Всесвіт», № 1), а также «Барьер» Вежинова («Всесвіт», № 2) и ещё ряд других, более мелких произведений. Сейчас читаю роман Джеймса Джойса «Портрет художника в юности» («Иностранная литература», № 10, № 11, 1976). Из этих вещей, если бы у тебя была возможность, рекомендую прочитать «Барьер», а также последнюю из названных здесь. Теперь о научных статьях. Пишу о тех, которые было бы полезно прочитать и тебе. В «Вопросах психологии» № 1 опубликована статья Л.И. Айдаровой и Г.А. Цукерман «Психологическая необходимость изучения „поэтики“ в курсе родного языка». Ценна она своей ориентацией на развитие у учащихся понимания и восприятия художественной речи — следовательно, опосредованно нацелена на приобщение учащихся к художественному словесному творчеству. В целом она, мне кажется, написана с очень большим уклоном в формальный, семантико-аналитический подход. А вопрос особенностей мировосприятия учащихся остаётся в стороне. Это, очевидно, не входило в круг рассматриваемых вопросов. Но без этого предложенный подход — лишь путь к овладению технологией словесного творчества.
Несколько неожиданным показался мне взгляд, высказанный языковедом А.С. Мельничуком в статье «Философские корни глоссематики» («Вопросы языкознания», № 6, 1966). Поскольку он, насколько мне известно, считается серьёзным исследователем, то его поверхностное толкование структурализма кажется странным».
* * *
Основным лейтмотивом, определявшим важнейшие темы моих интеллектуальных интересов в заметках и поэтических упражнениях, является символ Дороги и проблема выбора направления движения («Божественная комедия», «Фауст», Крестный путь). У Данте ситуацию выбора символизирует Чистилище: дорога вниз (в пропасть) — дорога вверх. С этой точки зрения важно творчество Гёте, особенно «Фауст». В Предисловии к десятитомнику переводов произведений Гёте на русский язык (М., 1975) Вильмонт подчеркнул стремление Гёте соединить ориентацию на вершинные смыслы-ценности (правда, добро, справедливость) с потребностью действия, вписанного в реальное пространство и время. Речь идёт о перетолковании Фаустом высказывания «В начале было слово» высказыванием «В начале было дело» («дело» как «действие»). И о соединении в душе Фауста двух душ — созерцательной и деятельной. Вершинные идеальные ценности — важные ориентиры, обозначающие направление движения. Но решающим является то, насколько люди своими действиями в конкретных обстоятельствах делают практические шаги в приближении к этому идеалу. С моей точки зрения, автор Предисловия совершенно справедливо предостерёг от преувеличения эстетизма в мышлении Гёте и указал на понимание поэтом ограниченных возможностей литературы и искусства в осуществлении реально достижимой, земной справедливости. В преобразованиях, которые стали обозначать словом «модернизация», наука и техника, экономика, право, политика стали играть значительно более важную роль, чем литература и искусство. В названном предисловии к произведениям Гёте автор, отрицая ориентацию Гёте на эстетизм, совершенно справедливо замечает, что Гёте пробовал (в свой веймарский период) заниматься практической политикой. И эта ориентация на практические виды деятельности в утверждении добра является одним из мотивов «Фауста». С этим сочетаются не только попытки Гёте заниматься политической деятельностью, но и научными исследованиями, на что автор предисловия обращает внимание, ссылаясь на оценку его научных исследований Вернадским.
* * *
Барашево. Моя лагерная жизнь началась с Барашево: первое письмо Веры в лагерь в Барашево (ЖХ-385/3-5) датировано 4 апреля 1974 года. Поблизости находился лагерь 3-4 для женщин-политзаключённых и больница (3-3). Одежда в лагере «строгого режима» сплошь чёрная (в противоположность полосатой на «особом режиме»). В моём воображении чёрная одежда символизирует траур крестьян после 30-х годов и Второй мировой войны. Итак, меня переодели в чёрную робу и вывели с проходной в «зону». Моему взору открылся продолговатый прямоугольник земли, с колючей проволокой и сторожевыми вышками по периметру. С одной стороны меньшей стороны прямоугольника — «проходная», далее одноэтажное жилое помещение для политзаключённых («барак»), на противоположной стороне — одноэтажное продолговатое помещение — цех для работы. Завели в барак, указали на свободную койку. Почти посредине барака, за массивной четырёхугольной опорой, поддерживающей потолок.
Лагерь в Барашево был небольшой, где-то около полусотни заключённых. Как позже убедился, категории политзаключённых в этом лагере были примерно такими же, как и в других лагерях для политзаключённых: (а) участники национально-освободительной войны из Украины и Прибалтики; (б) лица, осуждённые за сотрудничество с оккупационными немецкими властями и (в) диссиденты — из Украины, России, прибалтийских республик, Армении, Грузии. Почти в каждом из лагерей были евреи-сионисты, преимущественно «отказники», осуждённые по Ленинградскому процессу и аналогичным процессам за попытку захвата самолёта. Одного или двоих из политзаключённых в Барашево мне «представили» как «бериевцев».
Пребывание в Барашево далось тяжелее всего. Нужно было как-то сориентироваться в новой среде, в быту и взаимоотношениях. К тому же прибыл в лагерь с хорошо потрёпанными нервами, донимали некоторые из моих хронических недугов. Вскоре начались проблемы с работой — пошивом рукавиц: швейная машинка ломалась, путалась нитка, начались претензии по выполнению «нормы». Взял в кавычки это слово, потому что вскоре оно потеряло свою однозначность.
* * *
Делаю здесь некоторые комментарии относительно сообщений агентов о моих контактах в Барашево. Агент «Изотоп» в своём сообщении, подписанном 10/IV-74 г., которое содержится в первом томе моего оперативно-следственного дела (л. 15), сообщает: «Лисовой В. С. прибыл недавно, ведет себя тихо. С первых дней поддерживает отношения с Рокецким, Никманисом, Залмансоном. С Никманисом сблизился по теме „философия йогов“, у Никманиса имеется рукописная книга учения йогов. С Залмансоном он поддерживает контакт по общей для них теме: изучение английского языка. С Рокецким они в основном уединяются и говорят один на один. В общем говорят по украинским национальным проблемам. Лисовой информирует Рокецкого о последних событиях, цитирует националистического характера работы (может им самим написанные, а может кем-то). По всей вероятности показал или рассказал о Стусе».
Как видно из этого сообщения, агент делает вывод наугад, услышав, может, какие-то отдельные фразы. Не могу понять, что здесь означает слово «показал». Тот же агент в сообщении от 24/VI-74 г. написал так: «Последняя голодовка, приуроченная к дню выборов, была организована и предложена Лисовым В., вторым по активности был Шибалкин. Лисовой и Шибалкин поддерживают между собой дружеские отношения. Сам Шибалкин в последнее время очень агрессивно настроен против „чекистов и их приспешников“, как он выражается. В голодовке также участвовали Залмансон и Рокецкий. Всех уговаривал на это Шибалкин, он выполнял роль администратора при Лисовом».
Соответствует истине, что я с симпатией относился к Виктору Шибалкину. Но судя по тому, каким в моей памяти сохранился образ Шибалкина, не думаю, чтобы он был исполнителем моих распоряжений. Скорее наоборот. Видимо, в своём сообщении агент говорит то, что хотело бы услышать «начальство», чтобы иметь основание меня репрессировать. Но наиболее не соответствует истине такое сообщение того же агента от 23/Х-74 г.: «Стус В., Рокецкий В., Лисовой В. держатся вместе. Последнее время в их отношениях наметились разногласия. Стус В. претендует на роль лидера и все время подстрекает Лисового В. на голодовки, забастовки и т.д., последнее время Лисовому это не нравится. Рокецкий также последнее время стал много спорить со Стусом по различным вопросам». Я хорошо помню, что во взаимоотношениях со мной и, думаю, также с другими, Стус никогда не претендовал на роль лидера: ему это было не свойственно. Он мог на что-то сетовать, но не диктовать. Думаю, в данном случае мы опять-таки имеем дело с попыткой дать основания для репрессирования Стуса.
* * *
Поведение в лагерях. Высказывались мнения, что взаимоотношения между МВД и КГБ сверху донизу в 70-х годах не были вполне «дружественными», а содержали «пятна» конкуренции и даже скрытого отчуждения. Но решающим для МВД был надзор КГБ над лагерями для политзаключённых. Администрация лагерей, если бы даже хотела, не могла проявлять непослушания. Требования КГБ применить к политзаключённому более эффективные средства «перевоспитания» в виде ШИЗО, ПКТ или тюремного заключения вряд ли могли игнорироваться лагерной администрацией. В любом случае количество пошитых рукавиц, как вклад политзаключённого в «строительство коммунизма», ничего не значило по сравнению с действиями лагерной администрации, нацеленными на достижение основной цели — «перевоспитания», раскаяния.
В газете «Известия» за 17 мая 1996 года (день моего официального дня рождения) опубликована статья Бесика Уригашвили «Вот Явас», которая содержала интервью с человеком, который «вёл воспитательную работу» среди политзаключённых в Барашево: «Вот работал я с политическими, — с удовольствием вспоминает Балашов, — было это в семидесятых. Хорошо с ними было общаться. Культурные они были, образованные. Правда, когда передовицу из газеты „Правда“ им читал о международном положении, отворачивались. Попадались среди них и трудные. Один был такой, из Киева. Доктор философских наук. Так он отказывался работать. А они рукавицы шили. А этот говорит: „Буду работать только по специальности“. Мы ему и устроили работу по специальности. В карцере». Действительно, отказ от работы стал основным поводом для моего наказания в течение лагерей и ссылки, но в большой степени потому, что сначала нужно было заставить меня отказаться от физического труда. Путём создания соответствующих обстоятельств.
Отказ от работы считался переходом на статус политзаключённого. Я не возражал: если так считается, пусть будет так. Но заявления о переходе на статус политзаключённого не писал, потому что это бы обязывало меня придерживаться такой позиции последовательно. Всё же понимал, какая «работа» нужна КГБ и лагерной администрации. Отсюда их попытки создавать разного рода препятствия в работе, чтобы иметь зацепку для осуществления репрессий. Совсем иной была оценка «нормального» поведения или «работы» политзаключённых с точки зрения самих политзаключённых. Как могу судить по своим впечатлениям, эта оценка лежала в спектре между двумя полюсами — этикой жертвенности и героизма, с одной стороны, а, с другой, — разными степенями умеренности. Василий Овсиенко в своих воспоминаниях упоминает, как в ответ на настойчивость Стуса объявить бессрочную голодовку, Левко Лукьяненко возразил против целесообразности такого действия с точки зрения его эффективности и состояния здоровья политзаключённых.
Что касается моего поведения, то некоторые из политзаключённых хотели, чтобы оно было более радикальным. Я не был склонен к конфликтам с лагерной администрацией и надзирателями, если не был к этому спровоцирован. В целом это соответствует моему характеру. На самом же деле внутренне я более эмоционален, чем кажусь внешне, но привык контролировать свои чувства. Но иногда — настолько редко, что помню почти каждый случай в своей взрослой жизни — срываюсь в возмущении. Представление о моём мирном поведении в лагерях также является преувеличением. Потому что помню целый ряд случаев своего бунтарского или даже «агрессивного» поведения. В сообщении Вере о наказании меня на второй срок ПКТ в Барашево (оригинал сообщения сохранился) сказано: «Лисовой В. С. наказан за отказ от работы, нарушение внутреннего распорядка дня учреждения. В беседе вёл себя нетактично, самовольно ушел из кабинета. Начальник учреждения ЖХ-385/3 /Шорин/. 29. VIII-1975 года». (Шорин в лагере был известен под фамилией Александров).
Иногда я поддавался на явные провокации. Так, во время отбывания очередного «наказания» в ШИЗО столкнулся с провокацией надзирателя, который в ответ на мою просьбу дать мне «туалетную» бумагу, просовывал и отдёргивал бумагу от моей руки. Тогда сквозь дверь я начал кричать, называя их всех «проклятыми фашистами». Но в одном случае мой гнев побудил меня к безрассудному, рискованному действию (об этом случае уже упоминал в одном из своих видеоинтервью). Это произошло в 36-м лагере Кучино. При выходе из жилой зоны в рабочую я не выдержал обыска-раздевания надзирателем (по фамилии Рак) и бросился на него с поднятыми вверх кулаками. При желании это могло быть квалифицировано как нападение. Но этому надзирателю, которого политзаключённые оценивали очень негативно, хватило здравого смысла, чтобы отнестись к моему выпаду с юмором. Что касается острых споров, иногда переходящих в гнев, то за время моего пребывания в лагерях их случалось больше. Особенно в ответ на какую-то грубость надзирателей.
Но правда и то, что я преимущественно старался держаться умеренно. Не шёл на протесты в виде долговременных голодовок, потому что должен был считаться со своими хроническими недугами. К тому же, во многих случаях вставал вопрос об оправданности протестов, особенно долговременных голодовок. Когда узнавал, что заключённый объявил «смертельную голодовку», сразу же возникал вопрос, чего он может реально достичь таким действием и насколько навредит своему здоровью. Несмотря на свою высокую оценку моральной стороны таких протестов и того резонанса, который они могли вызвать за пределами зоны (в частности, на Западе благодаря «Хронике текущих событий»), я считал, что человеческая жизнь дороже. В целом придерживался правила: солидаризироваться с политзаключёнными в коллективных протестах, быть в чёткой оппозиции к политической системе, её идеологии и лагерной администрации. К коллективным протестам присоединялся преимущественно однодневной или трёхдневной голодовкой. Участвовал в некоторых дискуссиях или коллективных культурных акциях. Присоединялся также к забастовкам-протестам в виде коллективного отказа от работы.
В политических лагерях логика самозащиты не давала возможности заявлять, что кто-то из администрации лучше — например, считать, что этот человек хотя бы прилично относится к заключённым. Или утверждать, что теперь питание не только «немного улучшилось», но и является удовлетворительным. Потому что администрация рассматривалась как средство «перевоспитания», то есть репрессирования. А потому похвалить, скажем, начальника лагеря за вежливое отношение к политическим заключённым означало сигнал «наверх», чтобы его заменили другим. Так же констатация того, что питание является «удовлетворительным», была опасна своими последствиями — его ухудшением, «дабы не обжирались». На себе испытал маскировку действия, которую иногда использовали отдельные надзиратели в ШИЗО: тебя грубо выталкивают из сырой или холодной камеры, ты же эмоционально протестуешь против этой грубости, а тебя тут же заталкивают в камеру сухую или немного теплее. Но ты должен возмущаться их действиями и желательно даже написать на них жалобу. Прагматика борьбы за выживание побуждала избегать любых положительных характеристик, неизбежным следствием которых станет ухудшение ситуации. Эта маскировка доброго или даже спасительного действия — неизбежное следствие давления сверху: добродетели не годятся для машины репрессий.
* * *
В лагерях я стремился придерживаться установки спокойно воспринимать особенности поведения политзаключённых, которые мне кажутся странными. Ведь я не мог знать, через что прошёл человек и какие деформации претерпела его психика, а соответственно, и поведение. Думаю, что замечание Раисы Мороз в её воспоминаниях относительно наивного отношения к Валентину Морозу со стороны окружения, в котором он оказался на Западе, не лишено оснований. Поэтому я воспринимал спокойно и отчуждённо-холодное отношение ко мне со стороны отдельных политзаключённых или даже такие их высказывания, которые мог бы оценивать как оскорбительные или пренебрежительные. Принял себе за правило не спешить с оценками, потому что неясны были мотивы таких действий. Убедился на отдельных случаях, что ошибочно оценивал отдельные действия, ошибаясь в их мотивах. К тому же КГБ использовал тактику сознательного провоцирования конфликтов между заключёнными. Но такие конфликты были скорее исключениями: политзаключённые осознавали применение таких практик. В отношении к себе я чувствовал не только доброжелательность, но и попытки политзаключённых защитить меня от репрессий и облегчить моё положение. Черновол в документе «Будни мордовских лагерей» (т. 5 десятитомного издания) отметил: «Протестуя против физического уничтожения Лисового, группа политзаключённых 19-й зоны проводила в феврале этого года голодовку солидарности с ним». Речь идёт о помещении меня в ПКТ в январе 1975 года.
На чисто бытовом уровне мне приходилось выбирать собственный вариант выживания, потому что кто же лучше тебя самого знает, как ты себя чувствуешь физически и психически. Однако в Барашево я слышал от отдельных политзаключённых намёки, что моё поведение не совсем правильное даже с точки зрения выживания. Упоминали при этом смерть в этом лагере Юрия Галанскова в конце 1972 года. Учитывая сказанное, не является чем-то неожиданным, что, по тем или иным причинам, некоторые из политзаключённых оценивали моё поведение как не соответствующее «норме». Такое предостережение высказывал в Барашево Виктор Шибалкин.
В целом же и в лагерях я придерживался своего варианта стоицизма: учитывать отношение к себе со стороны других, но отдавать предпочтение самооценке. Иногда я чувствовал, что мой стоицизм приобретает черты христианского смирения. Но только до тех пор, пока не наталкивался на действия со стороны лагерной администрации или надзирателей, которые побуждали меня к риторике возмущения и обвинений. Впрочем, несмотря на бытовые обстоятельства жизни в лагерях, я продолжал размышлять над теми же философскими проблемами, над которыми думал до заключения. В лагерях у меня всё-таки была лучшая возможность что-то читать и думать, в отличие от «жизни», которую мне устроили кагэбисты в следственном изоляторе КГБ в Киеве.
* * *
Общение. Как я уже заметил, свой рассказ о лагерях я ограничиваю фрагментами, которые касаются общения с политзаключёнными, а также с родными и друзьями в «большой зоне». Я не отношусь к очень общительным, хотя ценю общение — и как составляющую жизни, и как источник мыслей, достойных внимания. Учитывая то, что я прошёл почти через все политические лагеря в Мордовии и на Урале, я хотя бы эпизодически общался с очень большим кругом лиц. Не только с украинцами, но и с русскими, литовцами, эстонцами, латвийцами, армянами, молдаванами и др. Так что, если бы я стремился охватить даже эпизодические общения, список лиц был бы очень длинным. Так, с Зоряном Попадюком наши лагерные тропы пересеклись только один раз — в воронке. Оглядываясь назад, я далеко не всегда помню время и ситуацию, в которой происходили эпизодические общения с некоторыми заключёнными или содержание случайных разговоров. Поэтому прошу простить мне, что многих не упоминаю здесь, что рассказ мой крайне избирателен.
Ценность общения не обязательно зависит от уровня образования или профессии собеседника, а скорее от его жизненного опыта и способа мышления. Но, как и «на воле», интенсивность общения в большой степени зависит не столько от родства характеров, сколько от восприятия друг друга, которое обеспечивает «лёгкость» в общении. В лагерях, как и на воле, благоприятным для общения является отсутствие заранее сформированных стереотипов у собеседника, сквозь которые он тебя «видит». Разговор становится неинтересным, когда собеседник задаёт вопросы, на которые у него уже есть готовые ответы, потому что тогда не хватает диалога. Во многих других случаях важнее был скорее сам факт общения. Так, во время моего пребывания в Барашево радость неожиданной встречи с Василием Овсиенко в больнице в конце августа 1974 года превосходила содержание наших разговоров.
Некоторые из общений в лагерях состоялись по моей собственной инициативе. Меня заинтересовали теологические взгляды Владимира Осипова (автор подпольных журналов «Вече» и «Земля»), и я попросил его кратко объяснить эти взгляды. У меня с ним было, кажется, не более двух разговоров: их оказалось достаточно, чтобы понять суть его теологической концепции. Поскольку в его идее России как теократической православной монархии не принимались во внимание жизненные интересы нерусских наций в составе СССР, я потерял интерес к продолжению нашего общения.
В Барашево евреи (Борис Пенсон, Израиль Залмансон, Эдуард Кузнецов) инициировали дискуссию в небольшом кругу, к участию в которой пригласили и меня. Но из разговоров я не вынес какой-либо идеи, которую бы запомнил. Преимущественно я запоминаю определённую идею, когда мысленно говорю «ага!». Это означает открытие мысли, важной для меня, которую я уже не могу забыть. Но попутно запомнил фразу, которую один из евреев сказал другому. Она звучала примерно так: «Всё то, что ты только собираешься прочитать, я уже давно прочитал и забыл». Одна из черт еврейской ментальности, которая проявляется в общении между соплеменниками: откровенность, иногда циничная. Потом я каждый раз вспоминал эту фразу, чтобы не паниковать от того, что из когда-то прочитанного остались в памяти только тусклые следы. Или когда вообще не мог вспомнить, читал я этот текст или нет. В Барашево мне выпала счастливая возможность общаться с Василием Стусом, Вячеславом Черноволом и Владимиром Рокецким. Владимир держался твёрдо, независимо, не был склонен к долгим разговорам.
* * *
Василий Стус. Когда в апреле 1974 года я прибыл в лагерь, Василий был в ПКТ (пос. Лесной, 19-й лагерь), срок которого закончился в конце второй декады июля. В письме из ПКТ жене и сыну от 8.05.1974 Стус заметил: «Теперь, видимо, мне — по отбытии этого казематного срока — будет немного не так одиноко (тёзка будет, лыбедский, с близкими, кажется, интересами)». А уже после прибытия в лагерь в своём письме «Родителям и жене» от 28-30.07. замечает: «Теперь мне не так скучно, потому что есть с кем перекинуться живым словом, и со своим тёзкой я сошёлся как со старым знакомым. Он стал чувствовать себя куда лучше, чем прежде, и это меня утешает (потому что и мне с ним отраднее и роднее. Будешь видеть Веру, тёзкину жену — передавай от меня ответный привет. Пока что мы с ним чувствуем себя неплохо, но настроения тут меняются, как погода. Но в целом куда лучше, чем ты видела нас в течение выходных (не подумай — праздничных!) ворот».
Представление о близости наших интересов Василий мог узнать случайно, может, от Свитличного: я имею в виду уже упомянутую статью об Антоныче. Ведь я был вне общения с людьми из бунтарского литературного круга, если оставить в стороне отдельные эпизоды. И не общался со Стусом «на воле». Общим у нас был прежде всего широкий размах интеллектуальных интересов — от литературы и искусства до гуманитарных наук и философии. Стус серьёзно интересовался не только философией, но и психологией: это очевидно из его переписки. Он обладал высоким уровнем философской эрудиции — особенно, если принимать во внимание ограниченный доступ к новейшим текстам по философии. Но даже недостаток таких текстов он восполнял проницательной интуицией.
В моём воображении сохранился образ впервые увиденного Стуса, связанный с характерной особенностью его походки: выпрямленная, высокая, гордая фигура человека, шагающего вдоль проволочного ограждения. Стус не был разговорчивым, был сосредоточен на своей интеллектуальной работе. В основном читал и писал полулёжа на койке. Наши койки были поблизости: их разделяла лишь массивная четырёхугольная опора потолка. Из его стихов до заключения я прочитал в самиздате лишь сборник «Зимові дерева». Не был тогда в восторге: хотелось большей выразительности формы и содержания. В своём созревании Поэт двигался в сторону большей выразительности или даже монументальности. Иногда Василий зачитывал мне предварительные варианты стихов, его интересовало моё впечатление или замечания. Но я не годился в роли советчика: Стус обладал неизмеримо более богатым лексическим и стилистическим ресурсом по сравнению со мной. Что касается общего впечатления, то я в основном одобрял основную канву стихотворения и задействованный репертуар метафор.
Не мог я быть советчиком и в другой его работе — поэтических переводах с немецкого. Перевод литературных текстов требует более тонких различений смысловых оттенков слов и хорошего знания фразеологии. Мой же запас немецкой лексики и фразеологии был ориентирован на философскую терминологическую речь. К тому же в аспирантуре и Институте философии я переключился на чтение исключительно англоязычных текстов. Так что лучше было, чтобы Юрий Бадзё оставался рецензентом его переводов Рильке и других немецких поэтов. Отсюда делаю вывод, что в общем, видимо, я не оправдал ожиданий Стуса относительно продуктивности нашего общения. Но помимо этого мне с ним было не просто хорошо, а даже радостно — особенно во время наших «разговоров за чаем», в основном во время перерыва от работы. Время от времени, сказав своё «пропади она пропадом, эта работа», приглашал выпить чаю, чтобы поговорить. Тогда становилось неважным содержание разговора: больше значило утешение, что мы можем общаться, о чём-то разговаривать.
Личность Стуса стоит в ряду тех, кто в западной духовной культуре воплощает героический энтузиазм, как Джордано Бруно. Он является личностью, которая по складу своих духовных ориентаций и способу поведения наиболее последовательно воплощает этику героизма и самопожертвования. Употребляю слово «воплощает» в настоящем времени. А отсюда его бескомпромиссная оценка любых отступлений или уступок перед натиском зла. Я же склонялся к большей умеренности, потому что считал, что человек лучше может оценивать свою ситуацию и свои возможности и имеет право решать, какую стратегию поведения ему выбирать в данной ситуации. К тому же, высоко ценя отвагу диссидентов в открытом противостоянии злу, я считал, что интеллектуальная и творческая деятельность «на воле», хотя и связанная с компромиссами, чтобы действовать «в пределах возможного», является не менее важным звеном противостояния. И что людям, которые вступали в конфликт с собственной совестью, чтобы что-то положительное делать, было не легче, чем нам в лагерях. В таких случаях речь идёт о цене компромисса. Василий, конечно, также ценил положительные достижения, пусть даже полученные ценой компромисса, но чувствовал себя свободным человеком и ощущал обязанность противостоять унынию и психологии покорности. Но не любил деклараций и в разговорах не стремился подчёркивать свои принципы и ценности, которые считал важными. Мне больше всего запомнилось это сочетание непреклонности в собственном поведении с добротой, которую я чувствовал с его стороны в нашем общении.
Каждая культура должна иметь такие личности, как Стус — как воплощение несокрушимости духа. Чтобы обозначать путь морального возрождения для деградировавших обществ. Реальный же успех движения «вверх», вместо движения «вниз» (в бездну), зависит от того, сколько людей дотягиваются до них, преодолевая свой страх перед насилием зла. Метафора бездны важна в мышлении Стуса. В выше цитированном письме от 28-30.07. он отмечает: «Стоять над бездной, чувствуя лёгкое головокружение — это куда более интересная для меня творческая ситуация, чем томиться в запущенном киевском творческом аврале. И — кроме всего — мы, будучи не-актёрами, не выбираем ситуаций. Ситуации выбирают нас, и нам от этого ни откреститься, ни отказаться, слава Богу». Когда я наталкиваюсь сегодня на попытки обозначить способ мышления, или пусть способ чувствования и мировосприятия Стуса, словом «мистицизм», то это вызывает у меня неприятие. За этим я вижу попытку использовать это слово только в положительном и очень общем значении — в значении таинственной глубины мировосприятия, чувства и мышления. В таком случае не утруждают себя уточнением, какие способы мышления и стили речи обозначают этим словом. На самом деле даже представление, которое мы находим ещё у романтиков и Рильке, что поэзия — «голос» Бога в душе поэта, не соответствует взгляду Стуса на своё творчество. Но это отдельная тема для разговора.
Моё общение со Стусом каждый раз прерывалось: его или меня бросали в ШИЗО или ПКТ. В карцерах каждый политзаключённый боролся с голодом, особенно если отказывался от работы, а в холодное время — с холодом. Меня, как и многих других политзаключённых, так часто бросали в ШИЗО, что я потерял счёт этим наказаниям. Видимо, не менее трёх раз отбыл такое наказание, прежде чем накануне Нового года или в первые дни нового 1975-го года меня поместили на пять месяцев в ПКТ. Поэтому Стус в своём письме «Жене» (7.01.75) должен был констатировать: «Последнее время я совсем один как перст. И тёзки нет, да и не будет скоро — где-то чуть ли не на целый квартал остаюсь один».
* * *
После возвращения из ПКТ в лагере я встретился с Вячеславом Черноволом (его «перебросили» в Барашево, когда я был в ПКТ). После моего возвращения в лагерь из ПКТ произошли два события: первое радостное — Стус, Черновол и я имели свидания. Моё свидание с женой состоялось сразу же после свидания Черновола. Когда Вера с детьми заходила в помещение для свиданий, то встретила его жену Атену, которая покидала это помещение. На второй день моего свидания наступило время прощаться с Верой, и мы вдвоём увидели сквозь щель, что из барака вышли трое: Василий Стус, Вячеслав Черновол и Владимир Рокецкий. Выстроившись в ряд, плечом к плечу, взявшись под руки, они уверенно двигались к нам, к проходной: вдруг остановились и, улыбающиеся, полные энергии, помахали нам руками. Так и до сих пор они стоят в нашем воображении — как воплощение братского единения и воли.
Но вскоре после этого я стал свидетелем нападения на Стуса: это сделал один из «подсадных» зэков. Об этом я уже упоминал в одной из публикаций (в журнале «Україна», № 16, 1990). Произошло это в комнате, где политзаключённые становятся в очередь за едой: её выдавали нам сквозь окошко в стене. Самого нападения я не видел: когда вошёл в комнату, то увидел, что Стус прижал того зэка к земле, а на щеке у Василия под глазом кровоточила рана. Стус мог бы дать должный отпор этому с виду немощному зэку. Но была уверенность, что его как раз и забросили в лагерь, чтобы спровоцировать Стуса на действия, которые бы позволили возбудить против него уголовное дело.
Когда меня снова забрали в конце июля в ПКТ, я не думал, что прощаюсь с Василием навсегда. Вплоть до его возвращения в Украину телом. Телом, но ещё не духом. Его вера, что, распрощавшись с чужой Украиной навеки, он всё-таки вернётся в родную Украину, является источником веры многих. Но его духовное возвращение в Украину происходит медленно и нелегко: подтверждением этого, среди массы других, стали споры вокруг присвоения имени Стуса Донецкому университету. Но инициатива студентов, и даже споры вокруг неё, свидетельствует, что он всё-таки возвращается в свою Украину. Медленно, сложно, но возвращается. И я верю, что в конце концов вернётся. Вопрос: когда?
* * *
Вячеслав Черновол. Черновола я воспринимал как признанного лидера диссидентского движения. Пусть одного из нескольких лидеров, но, с точки зрения прагматики борьбы, самого выдающегося. И это накладывало отпечаток на моё восприятие его и отношение к нему в лагере. Ведь каждый из тех, кто размножал и распространял самиздат, относился к нему с большим уважением. Но если вдаваться в сравнения, то между нами существовали существенные ментальные различия. Черновол был прежде всего человеком действия, обдуманного действия, но с акцентом на действии. Я же прежде всего человек мысли. Правда, мысли, смещённой в сторону высокой оценки практической философии, а это означает большую актуальность гуманитарных проблем, связанных с обоснованием действия. Если сказать проще, то в выражении «обдуманное действие» мои усилия сосредоточены в большей степени на обдумывании, на мысли, а не на действии. Важными были также различия в темпераментах: Черновол — в большей степени экстраверт, я — в большей степени интроверт.
Имело значение на время нашей встречи в Барашево и различие в приобретённом опыте. За плечами у Черновола был опыт открытого противостояния политической системе и её идеологии. У меня такого опыта не было. Свой протест против арестов 1972 года я рассматривал как реакцию интеллектуала на масштабную агрессию зла. Можно оценивать этот поступок как проявление гражданского мужества или даже героический поступок. Но когда в 90-х годах кто-то из моих студентов пытался отнести меня к списку героических личностей, мне становилось неловко.
Так что, как деятельная личность, Черновол и в лагерях стремился действовать: писал протесты и петиции, организовывал коллективные акции, был хорошим прагматиком в непростых условиях лагерей и тюрем. Правда, иногда разочаровывался в эффективности своих «петиций», но, как человек действия, продолжал это делать. Я же отдавал предпочтение размышлениям над основополагающими проблемами, которые могут стать актуальными только со временем. Осознавая особенности моего характера, Вячеслав очень переживал за меня, в частности, из-за непрерывных репрессий. Наиболее показательны в этом отношении его слова обо мне в документе «Будни мордовских лагерей» (т. 5 десятитомного издания), а в письме «Родителям, сестре, сыну Тарасу» (13-16.09.75 — т. 4, книга 1) заметил: «Не уверен, что он выдержит телом и духом ту почти без перерыва двойную порцию. Тем более что имеет характер, который усугубляет горькое. Впрочем, я не сужу, потому что каждый волен в каких-то пределах порядочности выбирать себе линию поведения самостоятельно. Только с горечью констатирую факт и вижу всё те же первопричины».
Видимо, ввиду такой оценки, он не пытался привлекать меня к каким-либо акциям. А наше относительно кратковременное общение в лагере сводилось к случайным разговорам на общие темы. Но потом мы переписывались, когда я был в ссылке. Я даже переписывал для него некоторые из своих стихов: в одном из стихов он посоветовал отбросить концовку, что я и сделал. К сожалению, его писем я не обнаружил в своих бумагах, как и многих открыток и писем Елены Антонов, которая меня морально поддерживала, когда я был в Барашево. Забегая вперёд, замечу, что после убийства Черновола я жалел, что в одной из своих публикаций вступил с ним в дискуссию по поводу национализма. Но меня утешает то, что он оценил это как мою попытку прояснить проблему. А на презентации антологии «Консерватизм» в 1996-м году (состоялась в Парламентской библиотеке) мы обнялись с ним. И тут же в нашем разговоре он заметил, что насущной является потребность в выяснении содержания украинской национальной идеи. Свою статью на эту тему, помещённую в антологии «Национализм», я рассматриваю в том числе и с точки зрения выполнения его тогдашнего заказа.
* * *
Пробыл в Барашево не полных два месяца, потому что в конце июля был наказан вторым сроком ПКТ, на этот раз на шесть месяцев. В первом письме к Вере из ПКТ (27.07.1975), написанном карандашом, сообщаю: «Пишу тебе снова из того же „пэ-кэ-тэ“, из которого вернулся перед нашим свиданием. Моё переселение было спешным и неожиданным, а поскольку со времени моего возвращения не прошло и двух недель, то пребывание в зоне воспринимается лишь как эпизод. Приехал в ПКТ 25.VII. — срок заключения шесть месяцев». Поэтому Вячеслав в своём письме «Родителям, сестре, жене» (6.08.1975) после заданного себе вопроса, о чём писать, продолжает: «Или о том, что я остался один? Потому что один из тёзок снова заехал невесть куда, у второго внезапно прорвалась язва, он залился кровью, видимо, будет оперирован… И из-за всего этого (а были ещё и другие „радости“) прошлый месяц показался мне тяжелее всех здешних, хотя начинался хорошо — свиданиями. Однако я сдерживаю себя от каких-либо резких шагов и обхожусь пока „шажками“ (как это будет по-нашему?). С тех пор, как написал прошлое письмо, почти ничего не читал, петиции (впрочем, бесплодные) отнимали всё свободное время. Дочитал только „Гамлета“ во „Всесвіті“ и там же Фолкнера».
* * *
В Киевском следственном изоляторе УКГБ. Но на третьем месяце моего пребывания в ПКТ меня «взяли на этап» и самолётом отправили в Киев, в следственный изолятор КГБ. Когда Вера узнала, что меня нет в лагере в Барашево, это её взволновало, она направила телеграмму с запросом. В ответ получила сообщение, подписанное 19.11.75 г.: «На Вашу телеграмму, поступившую из ГУИТУ МВД СССР, сообщаем, что осуждённый Лисовой В. С. направлен в следственный изолятор УКГБ по г. Киеву. — И.о. начальника отдела Учреждения ЖХ 385 А. Кривов». Я же в своём письме Вере из следственного изолятора, подписанном 11.11.75 г., сообщаю: «Вот девятнадцатого ноября будет месяц, как я в следственном изоляторе. Перевозка сюда была для меня совершенно неожиданной, однажды там в ПКТ мне было объявлено, чтобы собирался на этап и потом, в день отъезда, объяснено, куда именно. Дорога сюда была у меня очень короткой и, следовательно, меня не изнурила». В первом томе моего оперативного дела (л. 112-117) сказано, что с 28 октября по 24 января (до конца моего пребывания в Киеве) со мной в камере находился агент КГБ под псевдонимом «Рощин».
В следственном изоляторе пробыл с 19 октября до 24 января 1976 года. Имел свидание с сотрудниками Института философии — тогдашним заведующим отделом истории философии Украины Владимиром Евдокименко и Сергеем Васильевым. Каждый из них, по требованию КГБ, написал отчёт об этом свидании со мной. Оба отчёта сохранились в первом томе моего оперативного дела в рукописном виде. Владимир Ефимович позже приезжал, чтобы увидеться со мной в 35-м лагере (ВС-389/35), станция Всехсвятская. Такие поездки для свиданий планировались в КГБ с целью «перевоспитания». Привожу здесь два отрывка из «отчёта» Евдокименко о нашей встрече, которая состоялась 10 декабря 1975 года.
«На мой вопрос, считает ли он себя антисоветским человеком, Лисовой прямого ответа не дал, сказав, что нужно прежде всего провести „терминологический“ анализ этого понятия. Это свидетельствует о том, что его „критицизм“ более глубокого характера, чем сам он пытается выдать».
«Лисовой не допустил никаких выпадов или высказываний антисоветского характера. Однако я убеждён, что он остался на своих старых идейных позициях. Это человек рационалистичный, с твёрдым характером, устойчивой психикой, упрямый, с устоявшимися взглядами, которые он уже не в состоянии изменить. Если процесс ломки его взглядов и будет происходить, то очень медленно. Ожидать его выступления с идейным покаянием в настоящее время — преждевременно. Однако полагаю, что какой-либо практической политической деятельностью он заниматься не намерен, поняв ее бесперспективность».
Евдокименко в данном случае осторожно сказал о моём более глубоком критицизме, потому что хорошо знал о моей приверженности аналитической философии. И это было оправданно с его стороны: чтобы не натравить КГБ на то направление философского мышления, которое только зарождалось и к которому лепили ярлык «буржуазной философии». Что касается «ломки взглядов», то КГБ преимущественно использовал фразу «идейное разоружение». За этим стояла задача добиться послушания: думай как угодно, а говори «правильно».
* * *
На этот раз условия моего пребывания были вполне нормальными — как для такого учреждения. Никаких средств давления, которым я подвергся во время следствия. Отсутствовали даже настойчивые уговоры со стороны кагэбистов, чтобы я покаялся, признав свою «вину». Думаю, что они прежде всего полагались на те репрессии, которым я уже подвергся в лагерях. А уговаривать поручили человеку, подсаженному ко мне, он делал это без нажима, скорее склоняя меня к покаянию своими разговорами.
16 января у меня было свидание с Верой. Но на следующий день Вера получила сообщение из Прокуратуры УССР следующего содержания: «Ваша жалоба, в которой Вы просите об оказании медицинской помощи Вашему мужу, осужденному Лисовому В. С., проверена Прокуратурой УССР. Установлено, что Лисовой В.С. по состоянию на 14.01.76 года в учреждение ЮА 45/183 г. Киева не прибыл. — Зам. нач. отдела по надзору за местами лишения свободы старший советник юстиции К.К. Стеценко».
Веру очень обеспокоило это сообщение, поскольку на свидании я не жаловался на состояние своего здоровья. Кроме того, было не понятно, что за учреждение скрыто за упомянутой аббревиатурой. Она сразу же написала заявление на имя К.К. Стеценко. В нём она подчеркнула, что никаких просьб о предоставлении мне медицинской помощи ни в одно из учреждений не направляла и что во время свидания 16.01 видела меня в добром здравии. Возможно, это заявление Веры предотвратило осуществление какого-то замысла кагэбистов. В одном из документов указано, что меня отправили из следственного изолятора в лагерь 24 января 1976 года.
* * *
КГБ разработало в 1975 году план мероприятий в отношении Веры, нацеленных на прекращение её активности и её «перевоспитание». Был создан соответствующий документ (содержится в первом томе её оперативно-следственного дела, л. 217-222), который привожу ниже.
Секретно
«УТВЕРЖДАЮ»
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ КГБ при СМ УССР по гор. Киеву и Киевской области –
генерал-майор (подпись) (В. ЛОДЯНОЙ)
24 октября 1975 года
ПЛАН
агентурно-оперативных мероприятий по ДОП № 579 на
«Тихую» — ЛИСОВУЮ Веру Павловну
По делу оперативной проверки Р-579, заведенному 12 декабря 1975 года, изучается «Тихая» –
Лисовая Вера Павловна, 1937 г.р.,
уроженка гор. Кагарлыка Киевской области, украинка,
беспартийная, с высшим образованием, замужняя,
не судимая, работающая воспитательницей в детском
дошкольном учреждении № 50, проживающая в г. Киеве, ул. Братиславская, 4, кв. 192.
«Тихая» является женой одного из активных объектов дела «Блок» ЛИСОВОГО В. С., осужденного в 1973 году за националистическую деятельность по ст. 62 УК УССР к 7 годам лишения свободы в ИТУ и 3 годам ссылки. В 1973 году, когда ее муж был арестован и находился под следствием, «Тихая» получила от Овсиенко В.В. и Высоцкой Е.Я. и хранила 4 экземпляра т.н. «Открытого письма к членам ЦК КПСС» антисоветского содержания, автором которого являлся ЛИСОВОЙ В. С.
По поступившим от агентуры данным, «Тихая» поддерживает связь с объектом разработки УКГБ по гор. Москве и Московской области т.н. «демократкой» — КОРСУНСКОЙ Ириной Владимировной, подозреваемой в причастности к сбору и передаче за границу клеветнической информации для т.н. «Хроники текущих событий».
Так, по сообщению агента 5 Управления КГБ при СМ УССР «Риты», «Тихая» при поездке в ноябре 1974 года на свидание к мужу в Дубравлаг-ИТУ и на обратном пути останавливалась в Москве у КОРСУНСКОЙ, от которой получала материальную помощь в виде продуктов питания и денег.
В декабре 1974 года КОРСУНСКАЯ приезжала в г. Киев и, по данным службы «НН», конспиративно встречалась с «Тихой», которая передала ей тетрадь и какие-то бумаги с неизвестным содержанием.
В целях изучения поведения «Тихой», установления ее связей, характера взаимоотношений с ними, прежде всего с КОРСУНСКОЙ, 12 декабря 1974 года на «Тихую» было заведено ДОП № 579.
Однако, несмотря на принятые меры, установить характер ее связи и обстоятельства знакомства с КОРСУНСКОЙ не представилось возможным.
Вместе с тем через агентуру и литерные мероприятия получены данные, что «Тихая» поддерживает связь с объектами дела «Блок» «Лисой» и «Фарисейкой», а также женами осужденных за националистическую деятельность объектов дела «Блок» СВЕТЛИЧНОГО, СВЕРСТЮКА, СЕРГИЕНКО и др. Они между собой общаются и поддерживают друг друга.
Кроме того, зарубежная антисоветская радиостанция «Радио „Свобода“» 6 июня 1975 года передала интервью выехавшей вместе с родителями в марте с.г. из г. Киева на постоянное жительство за границу еврейки Аллы Глазман, в котором излагалась информация об арестованных за националистическую деятельность муже «Тихой» — ЛИСОВОМ, а также ПРОНЮКЕ, СЕРГИЕНКО, СВЕРСТЮКЕ и др.
Анализ сводки радиоперехвата указанной радиопередачи а/с [антисоветской] радиостанции «Радио „Свобода“» за 6/VI-1975 г. и связей Аллы Глазман в г. Киеве дает основание предполагать, что указанную информацию Глазман получила от «Тихой». Подтверждением тому может являться то обстоятельство, что Глазман на протяжении длительного времени находилась в дружеских отношениях с «Тихой» и посещала ее квартиру вплоть до выезда за границу. Об этом свидетельствует и то, что сообщенные подробности из личной жизни ЛИСОВОГО Глазман могла получить только от близкого ему человека — жены «Тихой».
18 июля 1975 года службой был отобран и легализован исходящий международный документ от «Тихой» в адрес Глазман в США, содержащий по существу продолжение ранее выданной информации об арестованных объектах дела «Блок».
В частности, «Тихая» в своем письме сообщала: адрес ИТУ, в котором отбывает наказание ее муж ЛИСОВОЙ; о роспуске в прошлом хора «Гомін» и его руководителе ЯЩЕНКО, который год находился без работы; подробности своей поездки в лагерь на свидание к мужу и процедуре предоставления этого свидания; подробную информацию о муже: его слабое состояние здоровья, что он за год в лагере имел 3 наказания, трижды объявлял голодовку, 5 месяцев находился в ПКТ; о встрече в лагере с ЧЕРНОВОЛОМ и СТУСОМ и др.
Как видно из содержания данного документа, он является не безобидным и направлялся за границу с определенным умыслом.
Заслуживает внимания и тот факт, что в 1975 году «Тихая» начала получать из различных капиталистических стран вещевые посылки от незнакомых ей лиц (Англия, Бельгия, Франция).
Получение вещевых посылок «Тихой» из-за границы можно расценить как оказание ей материальной помощи как семье арестованного за антисоветскую деятельность мужа.
По согласованию с 5 Управлением КГБ при СМ УССР, с санкции руководства УКГБ по г. Киеву и Киевской области, 25. VI. 1975 г. с «Тихой» установлен личный контакт с целью удержания ее от проведения враждебной деятельности, отрыва от националистической среды и положительного влияния через нее на ее мужа — ЛИСОВОГО В. С., осужденного за националистическую деятельность и отбывающего наказание в Дубравлаге-ИТУ. Оперработником проведено 2 беседы с «Тихой» воспитательного характера.
С учетом изложенного и в целях дальнейшей проверки «Тихой» в плане выявления и документации фактов возможно проводимой ею враждебной националистической деятельности, а также в соответствии с указанием КГБ при СМ СССР № 5/9-3473 от 11/IX-1975 г. «О пресечении враждебной деятельности лиц, занимающихся нелегальным изготовлением и распространением антисоветского сборника „Хроника текущих событий“», по ДОП № 579 на «Тихую» провести следующие агентурно-оперативные мероприятия:
1. В проверке «Тихой» используются агенты УКГБ «Медведев», «Антонов», а также агенты 2 отдела 5 Управления КГБ УССР «Мирослава», «Эдельвейс».
С целью выявления враждебных планов и намерений «Тихой» и создания условий для документации конкретных фактов ее преступной деятельности, каждому агенту отработать задание и линию поведения по выявлению интересующих нас сведений.
Исполняет т. Левчук. Срок: октябрь-ноябрь 1975 г.
2. Как установлено, отбывающий наказание в Дубравлаге-ИТУ за проведение националистической деятельности муж «Тихой» — ЛИСОВОЙ В. С. продолжает оставаться на враждебных позициях. В этой связи ЛИСОВОЙ этапируется в следизолятор КГБ УССР в г. Киев для проведения с ним индивидуальной воспитательной работы, которая будет проводиться по отдельно разработанному и утвержденному руководством УКГБ плану.
С учетом этого продолжать контакт оперработника с «Тихой» в плане положительного воздействия на нее, а через нее и на ее мужа — ЛИСОВОГО по разубеждению последнего и склонению к отказу и осуждению своей националистической деятельности.
Исполняют: т.т. Левчук, Балабан. Срок: октябрь-декабрь 1975 г.
3. В целях оказания положительного влияния на «Тихую» и ее мужа — ЛИСОВОГО В. С. во время его нахождения в следизоляторе КГБ УССР в г. Киеве, установить личный контакт и подготовить для предстоящих бесед бывшего сослуживца ЛИСОВОГО — ВАСИЛЬЕВА, члена КПСС, кандидата философских наук, который находился в дружеских отношениях с семьей ЛИСОВЫХ, а после ареста и осуждения Лисового неоднократно посещал квартиру «Тихой».
Исполняют: т.т. Балабан, Павленко. Срок: октябрь-ноябрь 1975 г.
СТ. УПОЛНОМОЧЕННЫЙ I ОТД-Я 5 ОТДЕЛА при
СМ УССР по г. Киеву и Киевской области –
ст. лейтенант (ЛЕВЧУК)
СОГЛАСНЫ:
НАЧАЛЬНИК I ОТД-Я 5 ОТДЕЛА УКГБ при СМ УССР
по г. Киеву и Киевской области – майор (ЗАИКА)
НАЧАЛЬНИК 5 ОТДЕЛА УКГБ при СМ УССР по
г. Киеву и Киевской области подполковник (ГАЛЬ)
24 октября 1975 г.
№ 5/1-7890
* * *
Лесное. Поскольку мой срок пребывания в ПКТ уже истёк, меня выпустили в лагерь, но не в Барашево, а в 19-й (ЖХ-385/19), станция Потьма, поселение Лесное. Этот лагерь был большим, самым большим из мордовских лагерей для политзаключённых. Я оказался в доброжелательной среде: уже упоминал, что во время моего отбывания первого заключения в ПКТ политзаключённые в этой зоне провели голодовку в знак солидарности со мной. Сначала администрация приставила меня к тяжёлой работе — резке досок на станке. К тому же несколько человек, которые это делали, должны были заносить в помещение цеха длинные и тяжёлые доски. Николай Кончакивский, пожалуй, самый сильный среди нас, несмотря на десятки лет, проведённых в лагерях, старался взять доску за толстый конец, а мне выпадал её хвост. Полный энергии и склонный к юмору, Николай был для меня воплощением несокрушимой воли. В конце концов, по совету кого-то из политзаключённых, я обратился к начальнику лагеря, чтобы меня перевели на какую-нибудь физически более лёгкую работу. В результате этой моей «покорности» был переведён на работу электриком. Это была самая лёгкая работа за всё время моего отбывания в лагерях.
Большинство моих общений в лагере были случайными. Николай Гуцул, в общем человек неразговорчивый, проходя по дорожке барака, вдоль которой расставлены койки, бросал какие-нибудь доброжелательные фразы, с юмором. Я что-то говорил ему в ответ. Иван Мирон (фамилия), схваченный в 21 год в схроне и осуждённый на 25 лет каторги, подарил мне несколько немецкоязычных книг, в частности, немецкую энциклопедию, немецкую грамматику английского языка и др., которыми пользуюсь и сегодня. Регулярно общался с Игорем Кравцивым из Харькова и Кузьмой Матвиюком из Умани. С Игорем меня объединяла общность нашего образа мыслей — рационализм и разумный прагматизм при рассмотрении общественных и национальных проблем. Мне было с ним легко общаться. У Игоря уже были продуманные взгляды, по отдельным вопросам мы спорили, следовательно, разговор был полезным.
Кузьма перед заключением преподавал в Уманском техникуме механизации сельского хозяйства и вместе с Богданом Черномазом проводил национально-просветительскую деятельность, в частности, распространяя самиздат. Оба общались с Надеждой Суровцовой. Был рассудителен в речи и поведении. Время от времени мы встречались, чтобы поговорить. Кузьма стремился дать мне какие-нибудь практические и полезные советы.
Из коллективных акций запомнилась дискуссия, организованная эстонскими диссидентами Сергеем Солдатовым и Артемом Юскевичем (псевдоним Мазепа), на которую пригласили также некоторых украинских диссидентов, в том числе и меня. Статья о Юскевиче, этническом украинце, есть в «Международном биографическом словаре диссидентов», а потому, как и в других таких случаях, не повторяю сказанное там. Замечу лишь, что взгляды и деятельность обоих интересны с точки зрения сочетания демократического и национального движения в деятельности диссидентов. Это была не только теоретическая позиция: оба причастны к созданию подпольных организаций в Эстонии — демократических (Солдатов) и национально-демократических (Юскевич). Книга Юскевича «Российский колониализм и национальная проблема» (подписанная псевдонимом «Юрий Мазепа-Бакаевский») была переведена с русского на эстонский язык. Насколько сейчас помню, расхождения в дискуссии касались прежде всего того, каким образом должно быть соединено демократическое движение с национальным. Моя позиция, высказанная в первом открытом письме («Антона Коваля»), заключалась в выборе пути через широкую автономию республик.
В 19-м лагере имел две встречи с сотрудниками УКГБ. Первая встреча внешне выглядела как случайная. С молодым украиноязычным мужчиной, который держался приветливо и убеждал меня, что незачем мне здесь сидеть: стоит написать покаянное заявление, и я буду на воле, я отказался разговаривать на эту тему. Вторая, как я предполагаю, произошла в официальный день моего рождения — 17 мая. Меня вызвали из барака и пригласили в какую-то комнату. В комнате было двое, на столе стояла бутылка вина и какая-то закуска. От угощения я отказался. Оба, в совершенно доброжелательной форме, настаивали на том, что как только я напишу заявление с признанием своей вины, сразу же буду на воле.
Моё пребывание в 19-м лагере длилось недолго — с начала февраля 1976 г. до второй половины августа, когда меня, вместе с некоторыми другими политзаключёнными, отправили в лагеря на Урал, в Пермскую область.
2. Пермские лагеря
Половинка. Прибыл в 37-й лагерь (ВС-389/37, посёлок Половинка Чусовского района) 6 сентября (сообщение начальника лагеря на запрос Веры). Лагерь — широкий ровный двор, прямоугольник, близкий к квадрату. На меньшей стороне прямоугольника барак: двухэтажное довольно приличное здание. На противоположной — цех для работы, в котором стояли токарные станки. В целом зона имела хороший вид, была хорошо благоустроена. В лагере было немного политзаключённых, пожалуй, около двадцати. Среди заключённых — члены Росохацкой юношеской подпольной организации: братья Мармусы, Владимир и Николай, Николай Слободян, Пётр Винничук. Из других — Василий Долишний, Олекса Ризныкив. Если выходишь из барака, то слева — длинный деревянный стол, со скамьями. Однажды за этим столом мы, украинские политзаключённые, провели какую-то дискуссию, содержания которой я уже не помню.
Но запомнил свои разговоры с Олексой Ризныкивым. Не только среди воинов УПА, но и среди украинских диссидентов есть люди с увлекательными жизненными историями борьбы, которую они начали в ранней юности. К таким принадлежит и Олекса Ризныкив из Одессы. Но наши разговоры с Олексой были сосредоточены вокруг идеи, к которой он склонился ещё будучи студентом филологического факультета Одесского университета. Я имею в виду его языковедческие интересы, в основе которых лежал взгляд на значение слов с точки зрения слогов. Его дипломная работа, с предисловием Николая Павлюка, теперь вышла в свет (Олекса Різників. Скла-дів-ни-ця. Одеса, 2003).
Ещё я проникся особой симпатией к Василию Долишнему, также человеку с легендарной биографией. В четырнадцать лет стал связным УПА, схвачен в шестнадцать, подвергся пыткам, каторге. Но меня, как, наверное, многих других, в нём очаровывало жизнелюбие и юмор. Он меня также втягивал в обсуждение сокровенного первоначального значения слов. Если к этому добавить некоторые письма Ирины Калинец, которые она мне присылала в ссылку (что-то из индоевропеистики — к сожалению, вместе с некоторыми другими, их у меня украли), то в лагерях я прошёл полный курс на темы архаичного первоначального значения слов.
Когда я вышел на работу в цех, оказалось, что никого не интересует наша работа. Токарные станки стоят, и никто нам не даёт производственного задания. Василий, не без юмора, предлагает взять веники и подметать цех и двор снаружи цеха. Он и вправду взял веник и начал это делать. Потому что переживал за меня: хотел предотвратить очередное обвинение меня в «тунеядстве». Но я отказался играть в игры и всё-таки перестал выходить на «работу». Думаю, у меня был разговор с кем-то из администрации лагеря, после чего произошло что-то странное, на первый взгляд. Меня поселяют в отдельную вполне приличную комнату, с кроватью или двумя кроватями. С тумбочкой, напоминающей письменный стол. Но я снова отказался «работать», потому что писал, видимо, не то, что должно было бы называться «работой». Так что оттуда меня отправляют в ШИЗО, а поскольку, отбыв его, я снова не приступил к «работе», то дней через два-три оказываюсь в карцере. Но по окончании срока пребывания в нём меня отправляют уже в другой лагерь — в Кучино.
* * *
Кучино. Итак, я оказался в 36-м лагере (ВС-389/36). В официальном сообщении начальника лагеря А. Г. Журавкова, отправленном Вере, сказано: «Ваш муж прибыл 24 ноября 1976 г. для отбывания наказания в учреждение по адресу Пермская обл., Чусовской р-н, пос. Кучино». Лагерь самый благоустроенный из всех политических лагерей. Образцовый лагерь системы ГУЛАГ, и хорошо, что на его основе основан Музей «Пермь-36» (каждый может ознакомиться через интернет как с историей этого лагеря, так и с его структурой). До начала 70-х в нём содержали «особо опасных государственных преступников». Готовясь к политическим репрессиям начала 70-х, его переоборудовали для наказания политических не только строгого, но и особого режима, фактически тюремного, но с выводом заключённых на работу. Первых политических сюда доставили в 1972 году. Через эти лагеря прошло много политзаключённых из старшего поколения и «новой волны» диссидентов.
Меня направили в цех, где изготавливали детали для утюгов. Сначала поставили к прессу, который отсекал концы проволоки ещё не согнутых нагревательных стержней для утюгов. Работа лёгкая и совершенно механическая: брать и подкладывать новый стержень и нажимать педаль пресса. Трудно было к чему-то придраться. Но положение изменилось, как только меня перевели работать на пресс, который заклёпывал на пластинке контакты для электрического питания утюга. Так что появлялся повод для обвинений в небрежном или сознательном изготовлении брака. Чтобы таким образом всё-таки навредить успешному строительству «светлого будущего»: не так поставил и зафиксировал деталь. Я отказался от работы, а, соответственно, — карцер.
* * *
Как и в других лагерях, в этом лагере я эпизодически общался со многими политзаключёнными, которые представляли разные нации. Из украинских диссидентов на время моего пребывания были Евгений Сверстюк, Игорь Калинец, Олесь Сергиенко, Семён Глузман, Дмитрий Грынькив, Дмитрий Демидов, Степан Сапеляк, если назвать только некоторых. Оставляя в стороне эпизодические общения, скажу только о более важных. С Евгением Сверстюком мы часто общались в перерывах между работой: когда я работал за прессом, наши рабочие места были рядом. Из его самиздатовских произведений я уже знал его способ философского мышления и речи, о чём уже упоминал. В лагере мы не вдавались в обсуждение философских проблем. Для меня были важны наши короткие разговоры скорее ощущением спокойной уверенности, которую излучала манера поведения и речи Евгения.
Несколько иными были впечатления от общения с Игорем Калинцом. Из его девяти сборников, написанных им до заключения, я прочитал лишь «Вогонь Купала». Поскольку я высоко ценил творчество Б.-И. Антоныча, то воспринял с восторгом этот его первый сборник. И стал считать Калинца самым элитарным поэтом в Украине. Оставляю здесь в стороне обсуждение эстетической концепции «искусства для искусства» или художественного модернизма. И не вдаюсь в обсуждение поэзии И. Калинца: литературоведы уже много чего сказали о его поэзии и, надеюсь, ещё скажут, лучше меня. Но в моей памяти осталось особое впечатление от чтения Игорем своих стихов. Особенно стихотворения «Вероніка, сльоза». Переписывал для Мирославы также стихи из «Книжечки для Дзвінки». Прогресс И. Калинца я отмечал как движение в направлении к росту смыслового пространства стиха вглубь: наличие многоуровневой смысловой структуры, в которой изменчивые смыслы в метафорах взаимно перекликаются. Это напоминает призму, которая втягивает игрой своих смыслов вглубь индивидуального или исторически-общественного бытия — памяти. Так я могу передать своё тогдашнее впечатление, если ограничиться несколькими предложениями. Из каких-то фраз я понял, что Игорь знает и о моих попытках писать стихи, но я считал неуместным читать свою «сырцовину» на фоне его филигранного поэтического стиля. А всё же мотив поэтического переосмысления символов этнокультуры был присущ и моим поэтическим визиям — больше в визиях, чем в артикуляции этих визий.
Постоянно общался с Олесем Сергиенко, сыном Оксаны Мешко. Он был заядлым полемистом. К некоторым его взглядам относительно украинско-русских и украинско-еврейских взаимоотношений я относился критически: считал, что острота его суждений содержит упрощения. Но мы не вступали в споры, а наши взаимоотношения были очень дружескими. Зато я был свидетелем очень «горячих» споров Сергиенко с Сергеем Ковалёвым по национальному вопросу. Большинство российских демократов в то время склонялись к мысли, что утверждение демократии само по себе решит и национальный вопрос. Я же помнил предостережение Ивана Франко в его переписке с Лесей Украинкой, что в случае демократизации России, украинская нация может оказаться не готовой утвердить себя в условиях демократии. Вследствие ослабленного национального сознания. В большой степени предостережение Франко оправдалось. Предполагаю, что, несмотря на высокую температуру споров Сергиенко с Ковалёвым, последний из таких споров в лагерях, возможно, вынес и положительное зерно. Как-то Иван Драч упомянул, что на одной встрече в Москве с украинскими культурными и общественными деятелями Сергей Ковалёв от имени русского народа попросил прощения за политику русификации. Редкое или даже единственное исключение среди российских демократов. Да и позиция Ковалёва, как ответственного в российской Думе за права человека, по отношению к событиям в Чечне, также указывает на его стремление отмежеваться от империализма. А для этого, как свидетельствует гибель Политковской, нужно гражданское мужество.
* * *
В 36-м лагере я встретил ещё одного участника Росохацкой юношеской подпольной группы — Степана Сапеляка. Помню, он решил штудировать латинский язык, так что я ему подарил свой учебник Попова. Значительно позже, аж в 2003 году, принял участие в презентации его книги «Хроніки дисидентські від головосіку», опубликованной издательством «Смолоскип». Некоторые страницы этих воспоминаний обжигают: через что прошёл молодой человек, чувствительный, эмоциональный, с богатым воображением? Также я познакомился с основателем Союза Украинской Молодёжи Галичины Дмитрием Грынькивым и членом этого же Союза Дмитрием Демидовым. Грынькив был энергичным и общительным, в противоположность своему соратнику, который был очень сдержан в общении. Эпизодически общался со многими другими заключёнными — из старшего поколения и диссидентами. Кто из политзаключённых не общался с Григорием Герчаком? Он был не только героической, но и колоритной личностью, с разнообразными дарованиями. Из коллективных акций помню проведение в лагере Шевченковского праздника с участием Е. Сверстюка, И. Калинца и др.
* * *
Второе пребывание в киевском следственном изоляторе. Пишу о втором пребывании в киевском СИЗО УКГБ, только полагаясь на рассекреченные документы, прежде всего из своего оперативно-следственного дела. Потому что моя память меня подвела: в первом варианте этого раздела своих воспоминаний я вообще не упомянул о втором моём пребывании в Киеве. А некоторые события, которые произошли во время этого пребывания, отнёс к пребыванию в СИЗО в 1975 году. Так что исправляю здесь эти свои ошибки, основываясь на документах. И разграничиваю события, которые хронологически объединил в описании своего первого пребывания в Киеве. Моей ошибке способствовало то, что переписка с женой, которая касается первого моего пребывания в СИЗО в 1975 году, составляет целую пачку писем. Между тем, когда я бросился проверять факт пребывания в СИЗО в 1977 году, то обнаружил лишь три Вериных письма, в которых очень невнятно упоминается об этом втором периоде моего «перевоспитания». Больше данных касается отправки из лагеря в Киев. В Выпуске 46 ХТС за 1977 год (в разделе «Пермские лагеря») есть такое сообщение: «23 июня должно было состояться свидание Василия Лисового с женой. За два часа до отъезда из Киева ей позвонили из КГБ и сказали, что ее мужа в лагере нет. Вера Лисовая, приехав в Москву, после двух дней хождений в ГУИТУ узнала, что его увезли в Киев. Как выяснилось позднее, он был отправлен из лагеря еще 13 июня. Как и в 1975 г. (Хр. 39), Лисового привезли в Киев на „перевоспитание“. От него хотят добиться письменного и, скорее всего, публичного раскаяния. КГБ давно уже пытается привлечь себе в помощь Веру ЛИСОВУЮ. Она отвечает, что не может уговаривать своего мужа, убежденного коммуниста, пересмотреть свои взгляды (Хр. З0). Вере говорят, что, отказываясь уговаривать своего мужа, она поощряет его „плохое поведение“ в лагере и увеличивает его страдания (больше половины отбытого им срока ЛИСОВОЙ провел в ПКТ и ШИЗО)».
Вера помнит, что перед своей поездкой на свидание действительно не могла выяснить, где я нахожусь. В киевском КГБ ей говорили, что они не знают, где находится Лисовой. Так что она, с детьми и сумками, поехала в Москву, чтобы узнать в МВД, нахожусь ли я всё-таки в лагере, перед тем как отправляться на свидание со мной. Детей и сумки оставила у Шихановичей (Юрий Шиханович бывал в Киеве и навещал Веру). На приёме в апартаментах Щёлокова один из его заместителей наконец дал ответ, иронично заметив: «Вы собирались на свидание к нему, а он поехал к Вам» — то есть в Киев.
Итак, пересказываю здесь некоторые факты из этого второго моего «перевоспитания» в киевском СИЗО — с 18 июня по 18 сентября 1977 года. Кроме свидания с женой и детьми, имел свидание с сестрой Любой и братом Павлом. Люба выглядела подавленной в этом «страшном» здании. Но за нашим свиданием наблюдал кагэбист, который своими агрессивными репликами спровоцировал меня сказать всё, что я думаю о деятельности кагэбистов. Думаю, что это был Киричек, который «опекал» жену, о чём скажу дальше. Так что я напомнил, что они продолжают дело своих кровавых предшественников и что в этом учреждении будут стоять памятники тем, кого они осудили за антисоветскую деятельность. И тому подобное. Для Любы эта вспышка моего гнева, пожалуй, была и полезной, чтобы хотя бы немного уменьшить страх перед этим учреждением. С братом Павлом я увиделся в последний раз (он умер, не дождавшись моего возвращения). Среди документов сохранилось сообщение моего сокамерника «Бодрого» от 12 июля 1977 г. (как правило, ими были агенты КГБ). В нём он сообщает: «В пятницу 8 июля Лисовой, придя со свидания со своим братом, рассказал, что брат советовал ему прекратить заниматься политикой». Далее сообщает, что «9 или 10 июля в камере было слышно, как плакала какая-то женщина. Её плач сопровождался словами „за что вы меня здесь держите“». В разделе о следствии я уже упоминал, что кагэбисты использовали это средство воздействия на психику заключённых. В общем же пересказам «Бодрого» моих разговоров с ним в камере нельзя доверять. Он слишком много придумывал, руководствуясь поставленной перед ним целью — работать на мою компрометацию. Но его донесения содержат фразы, неведомо для чего им придуманные: будто я заявил в первый день, когда его подселили ко мне, что я с Западной Украины, и тому подобное.
* * *
Из документов я узнал, что с моим вторым пребыванием в киевском следственном изоляторе КГБ связывало осуществление ещё раньше задуманного плана по моей компрометации. С этим связано написание какого-то письма «Бодрым», переданного им через кого-то Антоненко-Давидовичу. С предупреждением, чтобы он, прочитав письмо, сразу же его вернул. В этом письме «Бодрый» рассказывал, что я ругаю украинскую оппозиционную среду и что в моей тумбочке лежит покаянное заявление, которое я собираюсь подать. Но Антоненко-Давидович через Михайлину Коцюбинскую передал письмо Вере, с тем чтобы она его немедленно прочла и вернула. Так и было сделано. Прочитав письмо, Вера сразу же написала заявление-протест на имя Федорчука, предупредив, что их замысел уже известен и что им не удастся осуществить его. В связи с написанием этого заявления она была вызвана на разговор с В. Киричеком, который «опекал» её в течение длительного времени. Киричек заявил, что её Заявление безосновательно, что она всё выдумала. Хотя письмо Вера не скопировала, но отважилась ответить, что при необходимости сможет представить копию того письма. По словам Веры, было заметно, что это его смутило. Во всяком случае, свой замысел кагэбисты так и не осуществили. Я узнал о всей этой истории с письмом гораздо позже.
В пятом томе оперативного Дела Веры (л. 147-150) имеется Справка, подписанная Киричеком, из которой привожу здесь отрывки.
СПРАВКА
2 декабря с. г. в здании УКГБ была проведена разъяснительная беседа с «Тихой» по поводу ее заявления на имя Председателя КГБ при СМ УССР за № 1602 от 31.Х. 77 г. «Тихой» было разъяснено, что органы КГБ не имеют отношения к переписке осужденного валютчика, а также предупреждена о том, чтобы она прекратила клеветнические измышления.
«Тихая» заявила, что она не допускает нарушения закона, а все её действия (письма и жалобы в различные инстанции) обусловлены тем, что она хочет добиться досрочного освобождения мужа — Лисового В. С.
Здесь же она высказала просьбу помочь ей в этом, используя написанное Лисовым заявление, в котором он обещает в случае его досрочного освобождения не заниматься враждебной деятельностью. На разъяснение оперработника, что Лисовой В. С. обязан написать в адрес Верховного Совета УССР заявление с осуждением своей прошлой антисоветской деятельности, «Тихая» начала склоняться к тому, что ей необходимо в ближайшее время поехать на свидание и переговорить с мужем, попытаться его убедить в написании требуемого заявления.
Ей также была высказана «убедительная просьба» не распространять факты, изложенные в письме (учитывая, что они среди нужных нам лиц уже распространены), т.к. это вредит репутации Лисового, а органы КГБ, да и «Тихая» тоже, не заинтересованы в этом.
«Тихая» пыталась выяснить, в чем заключалась помощь Лисового органам КГБ, обещала, что она будет держать это в тайне, но ей был дан ответ, что она может не сдержать свое слово и этим «подсознательно» нанести вред мужу.
Зам. нач-ка 1 отд-я 5 отдела
УКГБ по г. Киеву и К/о
к-н Киричек
2. ХІІ. 77 г.
Понятно, что попытки Веры получить разрешение на свидание со мной якобы с целью убедить меня написать покаянное заявление нельзя воспринимать наивно. Но в этой же Справке поставлена под сомнение искренность этого намерения Веры: обеспокоенная этими действиями КГБ, нацеленными на мою компрометацию, она скорее хотела меня предостеречь.
С замыслом компрометации связано и намерение опубликовать какой-то текст, написанный «Бодрым». Об этом свидетельствует документ, который находится в 5-м томе Дела Веры (л. 133).
«31 августа 1977 г. № 5/2 – 6690
Начальнику УКГБ при СМ УССР
по гор. Киеву и Киевской области
генерал-майору тов. Евтушенко Н. К.
На № 5904 от 16.08.1977 г.
Публикацию в газете материалов «Бодрого», компрометирующих Лисового и его сообщников по ИТУ, преследуемой цели, по нашему мнению, не достигнет, так как агент является рецидивистом-уголовником и в националистической среде не известен.
Считаем целесообразным изучить возможность направления этих материалов, коренным образом переработав их, по легендированному каналу связи «Бодрого» с волей кому-либо из жителей гор. Киева, знающих Лисового в расчете на то, что это письмо доведут до сведения его единомышленников.
С намечаемыми предупредительно-профилактическими мероприятиями в отношении Лисового согласны.
Зам. председателя КГБ при СМ УССР
генерал-майор Евтушенко Вк. № 9664. 1.09.1977 г.
* * *
О планах компрометации в лагере говорит и такой документ:
3.11.1977
Начальнику отдела при СМ СССР
по Пермской области в
Скальнинском ИТУ УВД
Пермского облисполкома
майору Помазу И. К.
пос. Скальной Чусовского р-на
Пермской обл.
Учитывая, что нами осуществляются мероприятия по компрометации Лисового В. С. среди его связей в г. Киеве, просим одновременно, для возбуждения подозрения к нему в ИТК, провести с солагерниками объекта несколько бесед, в процессе которых, не ссылаясь на Лисового, дать им повод заподозрить, что информация о них получена от Лисового во время его нахождения в г. Киеве.
При этом просим учитывать, что находящемуся в настоящее время в г. Киеве Марченко В. В. через внутрикамерного агента «Бодрого» доведено, что Лисовой возможно завербован органами КГБ (копия сообщения агента и его беседы с Марченко прилагается).
Зам. начальника 5 отдела при УКГБ при СМ УССР
по г. Киеву и Киевской области
полковник (подпись) Галь.
Замечу, что в течение всего времени отбывания лагерей и ссылки считал для себя недопустимым написать что-либо, что могло бы читаться как признание своей вины или как отказ от своих убеждений. Пусть бы это даже звучало как тактическое действие, обусловленное особым моим положением — например, состоянием здоровья. Не писал и прошений о своём помиловании, потому что это также означало бы признание вины. Считал, что должен подтверждать свою позицию, заключавшуюся в защите нации и прав человека как сердцевины демократической политической системы. И в принципиальных моментах согласен был подтверждать эту свою позицию.
Хотя компрометация политзаключённых, в частности диссидентов, была общей стратегией КГБ, но в случае со мной, как с «объектом» компрометации, КГБ явно преувеличивал моё влияние как в среде политзаключённых, так и в диссидентской среде на воле. Непрерывно бросая меня в ШИЗО и ПКТ (а эти репрессии продолжались и после этого второго периода моего «перевоспитания»), КГБ фактически действовал вопреки своему замыслу по моей компрометации. В период моего второго пребывания в следственном изоляторе, если уж речь шла о снижении веса моей личности в диссидентском движении, КГБ мог бы разве что воспользоваться моим коротким заявлением, которое я всё-таки написал в конце этого второго пребывания в киевском следственном изоляторе. В документах я не нашёл копии этого заявления, а потому не могу его процитировать. Но помню его содержание и могу пересказать почти дословно: этим заявлением уверяю, что в случае моего досрочного освобождения буду избегать действий, которые привели бы к моему наказанию. КГБ мог бы воспользоваться этим заявлением, чтобы освободить меня, найдя для этого какое-то формальное основание. Но моё заявление не могло их удовлетворить. Да и с формальной стороны оно не означало, что я лишаю себя права протестовать против любых незаконных репрессий — таких, которые противоречат Конституции или признанным международным правовым нормам. А потому могу и дальше настаивать на неконституционности тех статей, на которые КГБ опирается в своих репрессиях.
И всё же написание такого заявления было уступкой. И здесь действует вышепроцитированное высказывание Черновола с ударением на «первопричинах». В противостоянии злу, которое стремится тебя уничтожить, любая уступка, как проявление слабости, провоцирует зло. Потому что она укрепляет его убеждённость, что тебя всё-таки удастся сломать. Ведь носители зла, как правило, негативно относятся к диалогу. И не склонны сами делать отступления, за исключением разве что хитрых манёвров, чтобы, усыпив бдительность, нанести более сокрушительный удар. Упомянутое моё заявление, я в этом убеждён, было оценено как возможность меня «доломать». Ведь впереди ещё три года лагерей, а вдобавок ещё и ссылка. Поэтому 18 сентября я был отправлен из следственного изолятора в Кучино.
* * *
Ближе к середине января 1978 года, в связи с ухудшением здоровья, был отправлен в больницу в 35-й лагерь. Жена в письме от 28.01 отмечает: «Если на 16.01 ты лежал в больнице лишь несколько дней, то откуда и кому известно, какие таблетки тебе давать». В своём письме к Вере от 2.02 пишу: «Получил я письмо от Василия Овсиенко. Если увидишься, привет ему, спасибо за фото (второе). У Ивана [Свитлычного] желтуха, он тут, в больнице. На что-то поэтическое для Оксена сейчас не способен, пусть подождёт немного, уже придумаю для него что-то подлиннее и литературнее. Жаль, что не дошли новогодние открытки всем, кого я хотел поздравить: Галину [Дидковскую, жену Е. Пронюка], Галину Поликарповну с Миросем [сын Е. Пронюка], Светлану [Кириченко], Юрия [Бадзё], Сергея [Кудру] и Ярославу [жену Сергея], Люсю [Стогноту] и её землячек-девушек, Лёлю [Свитлычную] и Наденьку [Свитлычную]».
* * *
По инициативе Сергиенко написал в 36-м лагере текст с критикой «брежневской» Конституции в связи с подготовкой республиканского варианта новой Конституции. Текст адресовался Президиуму Верховного Совета УССР — как мои предложения к проекту новой Конституции УССР. Текст, насколько помню (он не сохранился), получился слишком длинным, более десяти страниц, а это усложняло его передачу на волю. Основное направление моей критики заключалось в том, что текст «брежневской» Конституции насыщен идеологическими формулировками и содержит явные противоречия. Текст у меня забрал Олесь. Его прочитал также Семён Глузман, потому что сказал мне фразу, которая звучала примерно так: «Такой текст не Вы должны писать». Не знаю, что он имел в виду. В первом варианте этой главы, опубликованном на веб-сайте Виртуального музея диссидентского движения, я высказал предположение, что этот текст был уничтожен. Но, как мне стало известно в результате рассекречивания документов Службой безопасности Украины, написанный мной текст был изъят кагэбистами, хотя в моём оперативном деле оригинал текста не сохранился. Всё же представление о его содержании даёт документ, написанный сотрудником КГБ Гончаром (сохранился в пятом томе оперативного дела Веры, л. 217-220).
МЕМОРАНДУМ
по заявлению ЛИСОВОГО В.С., направленному 07.04.1978 г. в Президиум Верховного Совета УССР
Заявление ЛИСОВОГО носит враждебный характер с клеветническими выпадами на советский общественный и государственный строй, политику КПСС и Советского правительства.
Как бы упреждая возможные последствия за подготовку и рассылку антисоветского, националистического пасквиля, автор начинает его с обвинения руководителей госучреждений в необъективном подходе к критике и в качестве примера приводит привлечение его к уголовной ответственности в 1973 году за то, что он направил в инстанции «Открытое письмо к членам ЦК КПСС и ЦК КП Украины» с критикой национальной политики КПСС и Советского правительства.
В первом и втором разделах заявления, рассматривая с антисоветских позиций новую Конституцию СССР и проект Конституции УССР, и, в частности, их идейную основу, утверждает, что «марксистская идеология, как и любая иная, направлена на разъединение и противопоставление одних групп общества — другим, а не на их объединение».
В этой связи он считает, что «основа Конституции, которая претендует быть на уровне современной правовой науки, должна быть не идеологической, а моральной».
Касаясь предоставляемых Конституцией СССР демократических прав и свобод гражданам страны, предлагает «не ограничивать никакими политическими рамками свободу слова и печати, любые политические взгляды должны выражаться и пропагандироваться, кроме тех, которые ставят своей целью уничтожение демократических институтов».
Предлагает дать более точное «этико-юридическое или идеологически-философское» определение советского государства, клеветнически утверждая при этом, что «казарменно-упреждающее понимание социализма и коммунизма военно-бюрократическим аппаратом страны, на протяжении десятков лет приводят к массовому террору в стране против людей различных философских направлений, в том числе и марксистских».
Ссылаясь на ст. 50 Конституции СССР, провозглашающую свободу слова, печати, собраний, заявляет, что законодатель не указывает правовую норму этой статьи, «если ее понимать как полную свободу слова, то почему тогда в УК УССР имеются ст.ст. 62 и 187-1 (и соответствующие статьи в кодексах других республик)». Нечеткая формулировка этой статьи, по словам автора, «приводит к злоупотреблениям должностных лиц путем приклеивания ярлыков „враг народа“, „враг социализма“ и т. п. Кроме этого ЛИСОВОЙ считает, что в свободу слова включается и право критики, поэтому провозглашать его отдельной статьей, „за которую, кстати, советское законодательство считает правомерным наказывать, как за клевету (ст.187-1 УК УССР), нет необходимости, тем более, что оно широко используется органами КГБ для фальсификации обвинений“».
Рассматривая статьи 70, 72, 73, 76 Конституции СССР, автор утверждает, что они не последовательны, а в отдельных случаях и противоречат друг другу. Так, провозглашая союзную республику (ст. 72, 73, 76) суверенным социалистическим государством, статья 70 «полностью перечеркивает предоставленный им суверенитет, утверждая, что федеративные „союзные законы являются обязательными для автономных единиц... — и далее — в стране идет постоянный процесс уничтожения республиканского самоуправления путем сужения сферы компетенции ее государственных органов“».
Заявитель считает, что национальный вопрос в Конституции изложен с централистских, великодержавных позиций «....право на выход из федерации есть фраза, не имеющая фактической силы, а пропаганда за выход республики из состава СССР сразу же квалифицируется, как страшное преступление». В этой связи, по его мнению, ст. 7 Конституции СССР следовало бы записать в такой редакции: «Развитие самобытности и национального самосознания народов СССР является основанием их своеобразной культуры, источником взаимоинтереса, содержательного общения, культурного взаимообогащения народов. Любое преследование лиц и организаций, культивирующих национальную самобытность и национальное самосознание, запрещается законом».
Утверждает, что ст. 52 Конституции СССР не дает равноправия верующим и атеистам, «так как одни имеют право на атеистическую пропаганду, а другим права на религиозную пропаганду не предоставлено». В ст. 51 спорно трактуется статус политических организаций, а ст. 6 «вообще ставит КПСС выше конституционного закона». В понимании Лисового статью 40 (провозглашающую право на труд) и 60 (провозглашающую труд обязанностью) следовало бы свести в одну, «так как последняя полностью поглощает первую».
По мнению автора, текст Конституции СССР с юридической точки зрения написан небрежно и неграмотно, а «советы, как органы народовластия, при их современном участии в общественно-политической жизни страны — являются мертвой формой».
В третьей части автор клевещет на положение Украины в составе СССР и выдвигает ряд враждебных по своему содержанию предложений. Он пишет: «Высказанные замечания прошу учесть при редактировании Конституции Украинской ССР шестидесятилетняя история которой, сплошные унижения и репрессии, преследующие цель уничтожения национальной самобытности, примитивизации национальной культуры и, наконец, уничтожение народа, как такового». В этой связи главным условием удовлетворения национальных потребностей украинцев — ЛИСОВОЙ считает «выход Украины из состава СССР и образование суверенного государства».
В Конституцию Украины он также предлагает внести:
«Вместо идеологической основы закона — взять морально-юридическую, „как отвечающую гражданам с различными политическими взглядами и религиозными убеждениями“. Аксиомой Конституции считать равенство людей и народов, а политическим идеалом государственного устройства — демократическую республику.
Четко и в полном объеме указать основные права граждан, предоставляемых им свобод, и т.п. чтобы избежать их произвольного толкования».
Конституционно запретить:
Секретную слежку и преследование граждан за их убеждения;
политическую цензуру, санкционирующую публикацию литературно-художественных, философских, религиозных и других произведений;
КГБ, как орган политической слежки, преследование граждан и организаций, пропагандирующих национальное самосознание и агитацию за выход Украины из состава СССР.
Объявить равными в правовом статусе все самодеятельные организации, в том числе и Компартию Украины, с культурно-просветительными, философскими, политическими, религиозными и другими организациями» и т.п.
СТ. ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫЙ 2 ОТДЕЛА 5 УПРАВЛЕНИЯ КГБ ПРИ СМ УССР – МАЙОР
/ГОНЧАР/
8 июня 1978 года
Отмечу теперь, что Гончар, оценив в начале Меморандума моё Обращение как вражеский документ, далее вполне адекватно, без искажений и с пониманием, изложил основные его тезисы. Так что, в силу исторических обстоятельств, его изложение даёт представление о содержании моего Обращения. Ведь не известно, сохранился ли в каких-либо сейфах его оригинал. Соответствует истине и то, что не только в то время, но и в начале 90-х годов я продолжал использовать термин «идеология» преимущественно в ценностно-негативном значении. Только потом пришёл к выводу, что термин «идеология» должен употребляться в ценностно-нейтральном значении: всё зависит от того, с какой идеологией мы имеем дело.
* * *
Всехсвятская. Из Кучино был отправлен в 35-й лагерь (ВС-389/35) на станции Всехсвятская. В своих бумагах не нашёл документа с указанием точной даты прибытия в 35-й лагерь, не смог её уточнить также из переписки с женой. Но «Хроника текущих событий» (Выпуск 49 от 14.05.78) сообщила: «Василия Лисового перевели из 36 лагеря в 35-й. Одновременно его подельника Евгения Пронюка перевели из 35 лагеря в 36-й». Отсюда следует, что меня «перебросили» в 35-й лагерь в первой половине мая 1978 г. Украинцы и в этом лагере преобладали не только количественно, но и своей организованностью. Из старшего поколения — Мирослав Симчич, Василий Подгородецкий, Дмитрий Квецко, Дмитрий Верхоляк и др. Из диссидентов — Евгений Сверстюк, перемещённый раньше меня из Кучино, Николай Матусевич, Мирослав Маринович, Зиновий Антонюк, Валерий Марченко (которого поместили в этот лагерь после попытки «перевоспитания» в Киеве).
Сначала должен был осваивать профессию токаря. Моим учителем был Михаил Дымшиц (осуждённый по Ленинградскому процессу сначала, вместе с Эдуардом Кузнецовым, к смертной казни). Мне он нравился: был неразговорчивым, взвешенным, тактичным. Но токарем мне работать не пришлось, потому что вскоре меня «переквалифицировали» в кочегара: в кочегарке в разное время работал с Игорем Огурцовым, Евгением Сверстюком, Николаем Матусевичем. В течение некоторого времени по скользкому снегу завозил тачкой со двора в кочегарку уголь. Это был самый тяжёлый физический труд, который мне выпадал в лагерях. Потом набрасывал уголь в топку, это уже легче. Встреча и общение с Николаем Матусевичем стали для меня отрадой. Причина — особенности его характера: он излучал энергию и оптимизм, а свой разговор наполнял юмором. Меня он таким образом старался вывести из моей привычной «задумчивости». Частицу своей молодецкой энергии ему действительно удалось передать мне.
Имел неожиданную встречу с Юрием Орловым, руководителем Московской Хельсинкской Группы. Он незадолго до этого появился в 35-м лагере. Не помню отчётливо содержания разговора, да и, учитывая конспирацию, он, видимо, и не мог конкретизировать свой замысел. Его интересовало, согласен ли я присоединиться к его выполнению. Опасаясь очередных репрессий, я отказался от участия. Впрочем, учитывая содержание документа, это была не моя тема: в лагерях я не писал обращений и жалоб, которые касались бы условий содержания заключённых. Мог лишь подписывать уже написанные протесты или участвовать в отдельных коллективных акциях.
В чём заключался его замысел и каким образом он был осуществлён, Ю. Орлов рассказал в своей книге «Опасные мысли. Мемуары из русской жизни» (Москва, 2006), презентованной в издательстве «Смолоскип» в начале 2008 года. На эту презентацию он прибыл вместе с Людмилой Алексеевой. В этой книге он так выразил своё общее впечатление от 35-го лагеря: «Преобладали в этой зоне украинские националисты. Лидером среди них однозначно был Валерий Марченко, не родственник Анатолия Марченко, но он также погиб позже в заключении. Почти все они написали отказ от советского гражданства и держались очень твёрдо. Гэбисты ненавидели украинцев, кажется, сильнее других политических заключённых». А о своём замысле говорит, что решил предложить новым друзьям подготовить Хельсинкский документ о положении заключённых, составленный самими заключёнными разных национальностей. И подать этот текст следующей, Мадридской конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе. И дальше отмечает: «Мы сделали это. Украинцы Марченко, Антонюк, Маринович, литовец Плумпа, эстонец Кийренд и я поделили темы. Каждая часть шла за подписью того, кто её писал».
А всё-таки в конце своих лагерей, приняв участие в общей забастовке, начатой по инициативе Паруйра Айрикяна, я оказался в ПКТ. В «Хронике текущих событий» (Выпуск 49 от 14. 05. 78.) сообщается: «16 апреля Огурцов, Лисовой, Матусевич, Плумпа, Бутченко, Равиньш, Айрикян, Тилгалис и Квецко начали 10-дневную забастовку. В забастовке собирался принять участие и десятый заключенный — А. Альтман, но за день до начала забастовки его увезли из лагеря. Лисового наказывали ШИЗО, потом, в апреле — мае, он был наказан ПКТ, а в начале июня прямо из ПКТ он был взят на этап (6 июля у него кончался лагерный срок — 7 лет. Ему предстоит отбыть еще 3 года ссылки). Огурцов, Матусевич и Плумпа отбыли с короткими перерывами по 40 суток ШИЗО. В июне Огурцов был отправлен в Чистопольскую тюрьму до конца срока (до 15 февраля 1982 г.). Матусевич получил 5 месяцев ПКТ, Плумпа — 2 месяца. Бутченко отбыл 15 суток во время забастовки, а с 25 апреля его на 2,5 месяца поместили в ПКТ».
Я был вывезен из лагеря пятого июня 1979 г. (сокращение срока является следствием зачёта времени пребывания на этапах — трое суток за одни сутки этапа). Сажусь в «воронок» и вдруг неожиданность: в нём Евгений Пронюк, с которым ни разу наши пути не пересекались в лагерях. Радостная встреча. Говорили всю дорогу. Читал Евгению свои стихи, они ему нравились. Так что в пересыльных тюрьмах и в поезде мы были вместе, пока железнодорожные пути не разлучили нас. Он — в Казахстан, я — на восток, в Забайкалье, в Бурятию.
* * *
Взаимоотношения семей политзаключённых. Общение семей заключённых в «большой зоне» и тех, кто с ними солидаризировался, было «окном» в нашем окружённом колючей проволокой и зарешёченном мире. Далеко не каждый из политзаключённых, в частности из диссидентов, имел родных, которые могли общаться с диссидентской средой в «большой зоне». Ведь для обычных сельских или даже некоторых городских семей арест кого-то из родных воспринимался только как горе: у них не было ни соответствующего политического сознания, ни какого-либо общения с диссидентами. К тому же круги общения людей с диссидентскими настроениями были в Киеве, во Львове, но их не было во многих даже крупных городах, не говоря уже о городках. Это были среды, в которых передавалась информация о нашей жизни, а общение семей между собой было для нас важной моральной поддержкой. Письма дают лучшее представление об этом.
Вот отрывок из письма Веры от 2.IX.75: «А в воскресенье у нас тоже была большая радость, потому что устраивали предшкольный праздник. Евгению захотелось, чтобы Мирось так пошёл в школу, поэтому он на свидании и в письме дал примерный сценарий, а Светлана с Юрием разработали его в деталях и организовали на квартире у Гали. Зав хозяйственной частью была Галя с Галиной Поликарповной и бабушкой Груней. Первоклассников было трое: Мирось, Богданка и Роман, а второклассников двое: Славця и Дмитрий Васильевич. Очень было красиво. Когда-нибудь услышите этот праздник в записи. Просто-таки мило, хотя немного затянуто. Приветствия от родителей читали. Славця с Дмитрием и Серёжей Светланы также приветствовали первоклассников. И прощание с куклами и машинками, и задачки, и загадки, и стихи, и викторины, и к вам Славця с Дмитрием обращались. Фотографировались, пришлём вам потом. И бегали в лесу (помнишь, там, где мы с Галинкой и Евгением зимой гуляли). Приехали домой в 20:00 и сразу легли спать, потому что завтра школа. Так что привет тебе и Василию от всех, кто был с нами». [В этом отрывке из письма упомянуты: Мирось — сын Евгения Пронюка, Богдана — дочь Юрия Бадзё, Роман — сын Василия Бышовца, Славця — наша Мирослава, Дмитрий — сын Василия Стуса, Серёжа Светланы (сын Светланы Кириченко, жены Ю. Бадзё)].
В. Черновол в письме от 11.04.1976 г. сообщает: «Второго мартовского письма не ждите, потому что я его адресовал на Спокойную. Там писал и Тарасу [Черноволу], отдельно немного Елене. Знаю, что Тарас был на каникулах в Киеве и что они гостили в семье Лисового, потому что получил из Киева открытку». С Еленой Антонив у Веры были очень дружные отношения. Она была доброжелательной и лёгкой в общении, Вера чувствовала большое духовное родство с ней и любила её. Елена приезжала с Тарасом, они вместе были также в Кагарлыке. Тарас заходил на Братиславскую, когда ездил к бабушке в Вильховцы на Черкасчину. Несколько раз Вера с детьми навещала Елену, и они осматривали Львов. Когда Зиновия Красивского выпустили из психушки в 1979 году, то летом они вместе посетили могилу Ивасюка. По словам Веры, после похорон Ивасюка целое лето к вечеру у его могилы собирались сотни людей. Вере говорили, что «они спускаются с гор» — гордые люди с гор. Но значительно чаще посещала Львов Мирослава, иногда с друзьями, тогда Тарас становился гидом. Она была у Елены за день до её смерти, а ночью ей приснился вещий сон, она сказала, что что-то с тётей Леной случилось.
В письмах каждый раз нам передавали коллективные приветствия — от семей заключённых и от друзей. Вот типичный отрывок из письма Веры от 27.04.77: «Привет тебе от Юрия и Светланы, Галины, Вали [жены Стуса]. Как раз получила письмо от Василия [Стуса]. Он уже снял комнатку отдельно. Радуется, что в тишине будет писать стихи. Просит новейшие труды по горному делу на немецком языке» [так он умудрялся, чтобы в немецкий текст вставлялись стихи Рильке на немецком языке].
Семьи политзаключённых и те, кто с ними общался, собирались на дни рождения детей и взрослых. На день рождения Светланы Кириченко собрались друзья, среди которых были также Михайлина Коцюбинская и Борис Дмитриевич Антоненко-Давыдович. А на дне рождения Веры, кроме ближайших друзей, присутствовали члены УХГ Николай и Рая Руденко, Олесь Бердник, Николай Матусевич и Мирослав Маринович.
* * *
Вера, после рождения Оксена, была в декретном отпуске. Но однажды из УНИИП (Института педагогики) присылают лаборантку, через которую передали, чтобы она уволилась по собственному желанию. Но лаборантка одновременно передала Вере совет Тамары Ивановны Цвелых, чтобы она не подавала заявление, поскольку её не имеют права увольнять. Позже жена всё-таки написала заявление на увольнение, начала искать работу «надомницы» — редактирование, вышивание и т.п. Первой из диссидентского киевского круга Веру с детьми посетила Оксана Мешко. Семьи киевских политзаключённых общались между собой регулярно, передавая сведения, полученные преимущественно из писем, иногда догадываясь, что именно зашифровано в письме или что скрыто за каким-то намёком. Общение с семьями из других областей часто происходило во время поездок родных на свидания. Вера дважды ездила на Житомирщину, чтобы навестить мать Василия Овсиенко.
Большую помощь моей семье оказывали родственники Веры из Кагарлыка: сестра Анюта и её муж Фёдор Йовхименко, Мария и её муж Борис Вашека, сестра Наталья. Её родные пренебрегали угрозами, чтобы помочь ей. В то время уже появились районные отделы КГБ, их офисы без вывесок на дверях, действовали тайно. Они следили и за взаимоотношениями родственников с Верой. Младшая сестра Веры Мария была дважды уволена с работы по «собственному желанию»: первый раз за перепечатку самиздатовских текстов, которые в её рабочем столе нашёл секретарь райкома комсомола (она тогда работала машинисткой в райкоме комсомола); второй раз из районного отдела народного образования, где она работала секретарём. Второе увольнение состоялось по настоянию районного КГБ. Причина — муж её сестры осуждён за политику.
Из моих родных Веру навещали Надежда Бердник (дочь моей двоюродной сестры Марии), Галя Лисовая (дочь брата Петра), Оля Медведева (дочь тёти Василины). Из друзей не боялись навещать и помогать моей семье Сергей Кудра и Сергей Васильев, о которых уже упоминал. Часто проведывала Веру с детьми Ярослава, первая жена Сергея Кудры, изящно красивая, национально сознательная женщина. С ней Вера навестила Николая Бондаря, вернувшегося после отбытия семилетнего наказания в лагерях строгого режима. Бондарь с 1968 года преподавал философию в Ужгородском университете, за критику партийно-государственной политики был уволен в 1969 году. Перебивался случайными заработками, направил открытые письма в адрес Брежнева, Косыгина и Подгорного. Был арестован в Киеве, когда 7 ноября, смешавшись с демонстрантами, развернул лозунг примерно такого содержания: «Позор партийным вождям СССР». Осуждён Киевским областным судом на семь лет лагерей строгого режима. После освобождения проживал в селе на Черкасчине, жил в общежитии, работал в колхозе.
Вообще же киевский круг охватывал не только общение между семьями политзаключённых, но и тех людей с диссидентскими взглядами, кто не испугался усиления репрессий. Если речь идёт о жене, то более тесными были её общения со своими землячками (родом из Кагарлыка) Людмилой Стогнотой и Екатериной Высоцкой, а также Марией Овдиенко, Оксаной Мешко, Леонидой Свитлычной, Аллой Марченко, Светланой Кириченко, Николаем и Раей Руденко и др.
* * *
Защитные действия жены. Обвинения КГБ, адресованные Вере, можно свести к следующим: (а) передача за границу разного рода информации, нацеленной на защиту меня и других украинских политзаключённых и диссидентов; (б) общение Веры («связи»), непосредственное и письменное; (в) её участие в распределении помощи в Украине Фонда Солженицына. Основным мотивом этих действий, по мнению КГБ, были «антисоветские» и «националистические» убеждения, в специфическом для КГБ понимании этих терминов. Вера вспоминает, что к активной защите меня и других украинских диссидентов её в большой степени побудила Оксана Яковлевна Мешко, которая с горьким упрёком говорила, что «украинские женщины не достойны своих мужей».
Однажды, во время возвращения Веры с короткого свидания со мной, у железнодорожной кассы в Потьме к ней подошла женщина из Литвы, заговорила с ней. Так они познакомились. Вместе ехали в Москву. Эта женщина имела хорошие отношения с российскими диссидентскими кругами — со средой Андрея Сахарова. Она ввела Веру в эту среду, познакомила её с семьёй Юрия Шихановича, Андрея Твердохлебова и Галиной Любарской. Когда в следующий раз Вера с детьми ехала на многодневное свидание, то остановилась на квартире Шихановичей. Юрий Шиханович сообщил Вере, что сегодня на квартире Татьяны Ходорович должна состояться пресс-конференция с участием иностранных журналистов по вопросам прав человека и предложил ей принять в ней участие. Вера согласилась и представила краткую информацию о событиях в Украине, в том числе о репрессиях надо мной, Пронюком и Михайлиной Коцюбинской, которая особенно в то время подвергалась притеснениям. Об этом уже шла речь в процитированном документе относительно оперативного Плана мероприятий по Вере.
Что касается распределения помощи Фонда Солженицына, то с просьбой присоединиться к этому делу к ней обратилась Татьяна Ходорович во время встречи в Москве. При этом она заметила, что в Украине трудно найти людей, которые бы отваживались это делать. Потому что боятся. После такого предисловия Вере было неудобно отказываться. Поэтому она согласилась передавать помощь по уже готовому списку. Не обязательно напрямую, а используя круг своего общения. Помню, она сетовала, что списки далеки от взвешенности в отношении того, кому в Украине в первую очередь должна оказываться помощь. Как она и предполагала, эта её деятельность, продолжавшаяся около двух лет (до её переезда ко мне в ссылку), стала объектом обвинений и угроз со стороны КГБ.
Активность Веры в моей защите (об отдельных эпизодах я уже упоминал ранее), её общение с диссидентской средой и её причастность к деятельности Фонда побудили КГБ усилить давление на неё. С этим связано повышение её статуса в 1976 — перевод с режима ДОП (дело оперативной проверки) на ДОР (дело оперативной разработки), за чем мог последовать арест. В пятом томе её оперативно-следственного дела (л. 98-102) есть справка на неё за 1977 г., из которой видно, как КГБ оценивал её деятельность.
Аналитическая справка
по ДОР №193
Объект ДОР №193 «Тихая» –
Лисовая Вера Павловна, 1937 г. р.,
ур. Киевской обл. украинка, беспартийная,
образование высшее, временно не работает,
проживает по ул. Братиславская 4, кв. 192,
будучи женой осужденного за антисоветскую деятельность Лисового В. С. является близкой связью и единомышленником объектов дела «Блок» — «Крысы», «Яремы», «Кобры», «Лисы», «Фарисейки», «Фанатички» и др. Кроме того, «Тихая» поддерживает связь с московскими «диссидентами» Григоренко, Турчиным, Корсунской, в 1976 г. принимала участие в их сборище на квартире Амальрика, организованном для «проводов» последнего за границу.
«Тихая» на свой домашний адрес, а также через родственников, проживающих в г. Кагарлыке, поддерживает переписку с инкорреспондентами США. В июле 1976 г. разрабатываемая имела контакт с эмиссаром националистического центра Канады ОУН-с [в документе «-с», видимо, ошибочно] «Марией», которая посетила квартиру «Тихой».
6 июня 1975 года зарубежная антисоветская радиостанция «Свобода» передала интервью выехавшей из г. Киева на постоянное место жительства за границу еврейки Глазман А., в котором излагалась информация об арестованных за антисоветскую деятельность муже Лисовой В. П. — Лисовом, а также Пронюке, Сергиенко, Сверстюке и других. Глазман на протяжении длительного времени находилась в дружеских отношениях с Лисовой, посещала ее квартиру, узнавала подробности из личной жизни Лисовых.
В июле 1975 г. службой ПК был отобран и легализован исходящий международный документ от Лисовой в адрес Глазман в США, содержащий по существу продолжение ранее выданной информации об арестованных объектах дела «Блок». В настоящее время переписка Лисовой с Глазман ослабла.
В том же 1975 г. Лисовая начала получать из различных капиталистических стран вещевые посылки от незнакомых ей лиц (Англия, Бельгия, Франция), что дает основание расценивать эти факты как оказание ей материальной помощи в связи с арестом её мужа за антисоветскую деятельность.
По согласованию с 5 Управлением КГБ при СМ УССР, с Лисовой в июне 1975 г. установлен контакт с целью удержания её от проведения враждебной деятельности, отрыва от националистической среды и положительного влияния через нее на его мужа — Лисового.
В процессе работы с объектом, она постоянно заявляет, что не желает разговаривать с представителями органов КГБ и не намерена оказывать влияние на мужа, т.к. убеждена, что он осужден несправедливо, считает, что органы КГБ незаконно вызывают её на беседы, а сотрудники КГБ не являются представителями советской власти. Одновременно Лисовая постоянно информирует своих единомышленников о проводимых с ней беседах, получает от них инструктаж по линии поведения с КГБ, моральную и материальную поддержку. Так, после проведенной с ней беседы 9 марта с.г. мероприятием — С — [видимо буквой «с» обозначали подслушивание разговоров] зафиксированы разговоры со связями «Блок»: «Лисой», «Коброй», «Серой», а также объектами ДОР «Подстрекателем» и «Беглецом», в которых Лисовая подробно проинформировала их о состоявшейся с ней беседе. На основании этой информации членами т.н. «комитета» был составлен «Меморандум» №8 клеветнического характера. Кроме этого, 22 марта с.г. Лисовая беседовала с неким Юрой (г. Москва — международный разговор по автомату из г. Москвы) и подробно рассказала о проводимых с ней беседах и о том, что её уволили с работы.
Далее в таблице подаются «объекты связи» Веры. В большинстве случаев рядом с фамилией указывается псевдоним. Связи или общение Веры поделены на группы. В первой группе названы: Светличная Л. — «Кобра», Руденко Н. — «Радикал», Коцюбинская М. — «Фарисейка», далее названы фамилии Бадзё, Лукьяненко (без псевдонимов), а за ними Чередниченко — «Крыса», Чередниченко — «Ярема», Кириченко — «Фанатичка». Во второй группе: Матусевич — «Подстрекатель», Маринович — «Беглец», Стогнота — «Художник», Высоцкая — «хористка», Дидковская — «Дора». Третья группа обозначена как «иногородние связи»: Григоренко, г. Москва, Турчин, г. Москва, Корсунская, г. Москва. Четвёртая — «зарубежные связи»: «объект о/подборки» «Мария», Глазман Алла (США), Гук Теодор (США).
У Григоренко Вера бывала дома в Москве после того, как его освободили из «психушки», а также во время его приезда в Киев для встречи с Руденко. Под именем Теодор Гук скрыл себя Тарас Закидальский. В 1976 году он прислал Вере письмо из США под собственной фамилией, письмо было конфисковано (есть в Деле Веры, том 4-й, л. 211). Потом он пробовал присылать письма в Кагарлык отцу Веры под именем П. Лисового, с обратным адресом Лондона (одно из таких писем есть во 2-м томе моего оперативного дела, л. 101). Выслал в Кагарлык посылку, которую Вера вынуждена была не принять, поскольку в это время Киричек терроризировал её тем, что ей приходят заграничные посылки от «враждебных элементов».
* * *
В апреле 1978 года Вере было вынесено официальное предупреждение. В. Киричек в своём Рапорте, который содержится в том же пятом томе (л. 189-193), об этом говорит так:
РАПОРТ
(об объявлении официального предостережения)
6 апреля с.г. в здании УКГБ проведена профилактика и объявлено официальное предостережение объекту ДОР «Тихая» –
– Лисовой Вере Павловне,
1937 года рождения, уроженке г. Кагарлыка
Киевской области, украинке, беспартийной,
образование высшее, работающей по Дарницкой
сувенирной фабрике вышивальщицей на дому,
проживающей в г. Киеве по ул. Братиславской 4, кв. 192.
Указанное мероприятие проведено с использованием легализованных материалов о «Тихой» и её муже Лисовом, опубликованных в зарубежных антисоветских националистических изданиях «Сучасність» №9 за 1976 г.; «Смолоскип» №4 за 1976 г.; «Українське слово» за июнь 1977 г.
В процессе профилактики «Тихая» в своих действиях враждебной деятельности не признала и заявила, что отправлением документов о себе и Лисовом за границу преследовала цель помочь скорейшему освобождению мужа, по её словам, несправедливо осужденному. Клеветнической сущности в отправленных документах она не усматривает и о том, что «Сучасність», «Смолоскип», «Українське слово» являются националистическими издательствами ей, якобы, не известно и это её не интересует. Когда же оперработник попытался дать ей разъяснения, что указанные издания используют направленные ею документы в антисоветской пропаганде, «Тихая» назвала это разъяснение «перекручиванием фактов» и «оскорблением её личности». При этом она заявила оперработнику, что будет жаловаться на него в вышестоящие инстанции, так как он нарушает её права, безосновательно обвиняя её в антиобщественной деятельности.
Учитывая, что в процессе профилактической беседы объект правильных выводов не сделала и осталась на враждебных позициях, ей было объявлено официальное предостережение и потребовано письменное объяснение по существу фактов, на основании которых объявлялось предостережение.
«Тихая» пыталась отказаться от предоставления письменного объяснения, однако после настоятельных требований заверила оперработника, что явится в УКГБ 7 апреля с.г. (т.к. 6-го у её дочери день рождения) и напишет такое объяснение. 7 апреля «Тихая» действительно явилась в УКГБ (с 2-мя малолетними детьми) и принесла объяснение, которое она подготовила дома, мотивируя это тем, что у нее нет времени сидеть в УКГБ и писать, т.к. её ждут дети. Также как и из устной беседы, из объяснений видно, что объект в результате профилактических мероприятий выводов не сделала, с объявленным официальным предостережением не согласна и остается на прежних враждебных позициях, прикрывая их рассуждениями о своём стремлении облегчить участь якобы незаконно осужденного мужа.
В связи с этим оперработником объекту было заявлено, что органы КГБ, учитывая её упорное нежелание изменить свои враждебные идейные убеждения и прекратить распространение клеветнической информации, обязаны продолжить работу по разъяснению ошибочности её взглядов, недопущению с её стороны нанесения какого-либо политического ущерба государству и получению от нее объективных оценок по существу предъявляемых ей обвинений. На это «Тихая» ответила, что она от своих убеждений не откажется, т.к. считает их правильными и требует, чтобы органы КГБ оставили её в покое.
Исходя из изложенного, несмотря на объявленное объекту официальное предостережение, считаю, что проведенные мероприятия цели не достигли и работу с объектом по оказанию на нее идеологического влияния и сдерживанию от проведения активной враждебной деятельности необходимо продолжить. Целесообразно также, учитывая стремление «Тихой» получить соответствующие разъяснения по поводу предъявляемых ей обвинений у более авторитетных лиц, чем оперработник, организовать беседу с ней на уровне руководства Управления КГБ.
Зам. начальника 1 отделения 5 отдела УКГБ
к-н Киричек 8. 4. 78 г.
Киричек вызывал Веру на допросы, грубо разговаривал с ней. Однажды довел её до предынфарктного состояния, и она оказалась в больнице. Поэтому Вера вынуждена была написать Заявление на имя Федорчука, в котором, среди прочего, выразила возмущение его поведением и заявила, что не хочет иметь с ним никаких разговоров.
Вместо Федорчука разговор с ней провёл заместитель председателя КГБ генерал-майор Евтушенко В. М. В пятом томе её оперативного дела содержится Справка об этой встрече (л. 203-206), написанная Киричеком по поручению Евтушенко. Киричек пересказывает совет Вере, высказанный Евтушенко, чтобы она, вместо обращений в «антисоветскую» организацию «Международная амнистия», убеждала меня подать заявление в советский суд с просьбой о помиловании. Это была позиция КГБ: досрочное освобождение Лисового, мол, возможно, если он признает свою вину, отказавшись от своих «антисоветских» и «националистических» убеждений. В конце справки Киричек записал рекомендацию Евтушенко, касающуюся жалобы Веры на поведение Киричека: «Рекомендовано, учитывая просьбу Лисовой, продолжить с ней профилактико-воспитательные беседы другому оперработнику, а Киричеку В.В. периодически подключаться к беседам, создавая таким образом выгодные органам УКГБ психологические контрасты у объекта и побуждая её к положительному эмоциональному стремлению к „новому“ оперработнику.
Зам. нач. 1 отд-я 5 отдела УКГБ к-н /подпись/ Киричек 19.5.78 г.».
И действительно, ею начал «опекаться» майор Лысенко С. А., который старался быть вежливым, а Киричек подключался лишь иногда. Вера, несмотря на свои отказы от «разговоров» с кагэбистами, была вынуждена использовать эти разговоры, чтобы узнавать обо мне (во многих ситуациях её, видимо, умышленно держали в неведении относительно моего места пребывания). И выяснять намерения КГБ относительно меня. Как свидетельствуют документы, кагэбисты упрекали её, что она использует КГБ в своих интересах, но не идёт на желаемые для КГБ уступки: продолжает общаться с диссидентской средой, передаёт разного рода информацию и т.п. И всё же, видимо, следствием этой её «дипломатичности» стала замена в 1978 году её режима ДОР (дело оперативной разработки) на ДОН (дело оперативного наблюдения). Правда, в 1979 году её снова перевели на режим ДОР.
* * *
Оксана Яковлевна Мешко часто оставляла на квартире у Веры материалы самиздата и тексты Украинской Хельсинкской группы (УХГ) для дальнейшего их хранения где-либо ещё, в частности, за пределами Киева. Как-то она пришла к Вере и сказала, что она кругом «обставлена», за ней неотступно следят, а ей нужно передать тексты УХГ Алле Марченко. Это были, видимо, 1978-1979 годы, когда многих членов УХГ арестовали. Оксана Яковлевна часто передавала тексты, написанные членами УХГ, Алле, чтобы та передала их Павлу Проценко, который доставлял их в Москву, людям из Московской Хельсинкской группы. Вера сказала, чтобы Оксана Яковлевна оставила тексты у неё, хотя и боялась: что будет с детьми, если её арестуют. На следующий день, очень рано, она вышла из дома и увидела, что у подъезда стоит какой-то мужчина. Это её насторожило, но она пошла, не оглядываясь, к трамвайной остановке. Лишь входя в трамвай, убедилась, что мужчина не пошёл за ней. Так она поехала и передала те бумаги Алле.
* * *
На нашей квартире трижды проводили обыск. Один обыск милиция провела в ответ на жалобу Веры, что кто-то тайно бывает в квартире (тайные обыски были одной из разновидностей оперативных действий). Второй был произведён на том основании, что фамилия Веры была найдена, среди фамилий других диссидентов, в записной книжке арестованного при попытке ограбления универмага на Львовщине. В письме ко мне от 28.01.78 года Вера написала: «Про обыск, который был у нас 23.01 в связи с ограблением универмага где-то на Львовщине. А грабитель якобы назвал меня как свою знакомую, у которой могут быть краденые вещи. Фамилия грабителя Дикий. Среди своих знакомых никогда не слышала, конечно, такой фамилии. Снова спрашивали про какое-то якобы твоё заявление». Во время обыска Мирослава, по знаку Веры, сумела выбросить одну зашифрованную записку в туалет и спустила воду. В записке была информация о помощи семьям политзаключённых из фонда Солженицына, которую Вера должна была отправить в Москву для отчёта. Хотя в Украине распределение помощи из этого фонда было ограниченным, КГБ пыталось прекратить в Украине эту деятельность.
В тот же день пришли проводить обыск у Аллы Марченко, объявив, что делают его в связи с делом №13. Она отказалась им открыть дверь, тогда они выломали её и ворвались в квартиру. Нашли у неё деньги, пять тысяч рублей. Она же заявила, что это деньги её отца, известного историка, профессора Михаила Марченко. Позже ей всё-таки удалось отсудить изъятые у неё деньги.
В пятом томе оперативного дела Веры имеется документ, который касается ареста Дикого 30 октября 1977 года в связи с ограблением универмага «Верховина» в г. Бориславе Львовской области. В документе сказано, что Дикий Степан Иванович, 1927 г. р., уроженец села Подгородцы Сколевского района Львовской области и что против него возбуждено уголовное дело по ст. 81, ч. I УК УССР. А дальше идёт текст: «2 ноября у „Тарантула“ [таким псевдонимом его назвали] органами милиции произведён обыск, в результате которого обнаружены и изъяты 6 блокнотов с записями антисоветского, клеветнического содержания, адреса связей, в том числе объектов дел оперучета». Далее — список фамилий многих диссидентов, написанный с ошибками, и их адреса. В документах отсутствует более подробная характеристика Дикого, чтобы можно было выяснить, имеем ли мы дело с провокацией или с чем-то другим. Может, Дикий и вправду совершил попытку ограбления, а КГБ только воспользовалось случаем, подбросив ему записные книжки с длинным списком фамилий украинских диссидентов? Чтобы иметь основание для выборочных обысков. Эти вопросы, видимо, уже останутся без ответа.
Третий обыск был проведён 29 ноября 1979 года в связи со сбором кагэбистами материалов, чтобы арестовать Григория Приходько в Днепропетровске (осуждён вместе с Иваном Сокульским в 1981 году). Но это была лишь зацепка: об этом свидетельствует Справка о разговоре с Верой о её взаимоотношениях с Приходько, помещённая в пятом томе её Дела (л. 302-304). Основанием для обыска было опять-таки обнаружение фамилии Веры в записной книжке Григория и, видимо, его письмо Вере, изъятое кагэбистами (есть в четвёртом томе Дела Веры, л. 45).
* * *
В течение всего времени моего отбывания лагерей Вера неутомимо обращалась с заявлениями о пересмотре моего дела и с жалобами на незаконность репрессий в отношении меня в лагерях в различные инстанции — в ЦК КПСС, к делегатам XXV съезда КПСС, в Президиум Верховного Совета УССР, в МВД СССР. На все обращения в официальные инстанции СССР приходили ответы, что приговор суда по моему делу обоснован, как и наказания в виде ШИЗО или ПКТ. Поэтому Вера возлагала надежды на международные правозащитные организации. Её письмо в «Международную амнистию» было опубликовано в журнале «Сучасність» (№9, 1976 г.), которое в сжатом виде было перепечатано в англоязычной брошюре «Three Philosophers – Political Prisoners in the Soviet Union», опубликованной издательством «Смолоскип» в 1976 году. В этой брошюре были помещены краткие информации обо мне, Пронюке и Бондаре. Тексты схожего содержания Вера направила в другие международные правозащитные организации. Обратилась также к генеральным секретарям компартий Канады и Франции. Ответ пришёл от Жоржа Марше (на французском языке), который Вере перевёл кто-то из знакомых Марии Овдиенко: в нём говорилось о невозможности чем-либо помочь в моём случае.
3. Ссылка
Новая Брянь. Сначала замечу, что здесь подаю существенно обновлённый рассказ о ссылке по сравнению с его предыдущим вариантом. Это обновление стало возможным благодаря уже упомянутому обстоятельству — рассекречиванию документов, касающихся дела «Блок». Благодаря этому я смог внести целый ряд уточнений и устранить отдельные ошибки. В ссылку прибыл 21.06.1979, 16 дней в пути (потом сократили срок ссылки — три дня за один в дороге). В «столыпинском» вагоне отчитывал конвой за матерщину и грубое отношение к уголовникам. По прибытии меня передали в распоряжение спецкомендатуры Заиграевского районного отдела внутренних дел Бурятской АССР. 21.06 высылаю телеграмму Вере, что прибыл на место по адресу: Бурятская АССР, Заиграевский район, посёлок Новая Брянь, ул. Терешковой, 3, общежитие № 2, комната 8. Должен был работать на местном заводе («Ново-Брянский головной завод, производственное объединение «Бурятавторемонт»), поселили в заводском общежитии. По совету Евгения Пронюка в первый день сделал фото в местном фотоателье в одежде заключённого строгого режима. На несколько дней приехала Вера с Оксеном, которому скоро должно было исполниться семь лет. За много лет наконец-то имел возможность дольше и уже совсем свободно побыть с обоими и ближе познакомиться с сыном.
Начал выходить на работу к токарному станку. Сначала поручили очень простое дело — нарезание винтов: держи только ровно плашку! Мог бы терпеливо нарезать эти винты хотя бы все три года ссылки. Но такая перспектива была для КГБ нежелательной. Ведь как же с «перевоспитанием»? Не помню, сколько прошло недель, может даже месяц, и вот прихожу в цех и оказываюсь в знакомой мне ситуации: нет для меня свободного станка. Мог бы догадаться, чем это должно закончиться. Как и следовало ожидать, перестаю выходить в цех. Даже изготовил для себя картонку с надписью, что я политзаключённый и что меня лишили работы. Повесил её за шнурок и пошёл в центр городка, почти безлюдный, зашёл на почту, где мне посочувствовала женщина, которая там работала. Это была Нина Георгиевна Непитаева, одна из двух женщин, работавших на почте.
Как мне удалось уточнить (благодаря ставшим доступными текстам), я переселился из общежития на квартиру летом, ещё до увольнения с работы на заводе. Помогла мне найти эту квартиру Нина Непитаева. Это была небольшая комната в двухкомнатном одноэтажном доме на улице Ленина, 35, расположенном за пределами центра с его многоэтажками. Дома на ней были преимущественно одноэтажные, часто обычные деревенские хаты, но среди них были и получше, иногда двухэтажные. Дом, в котором я поселился, напоминал деревенскую хату с двумя комнатами. В нём жила одинокая бабушка Михайлова, которая была, как потом мне сказали, из семьи старообрядцев. Она относилась ко мне с сочувствием. Впоследствии Вера познакомилась с ней и даже сфотографировалась в её старинной одежде.
В конце лета я уже совсем оставил свои попытки выходить на работу в цех. В конце концов, 13 сентября 1979 года заводской комитет профсоюза единогласно принял решение «Дать согласие администрации завода на увольнение с завода ученика токаря, цех №5, Лисового Василия Семеновича по пункту 4 ст. 33 КЗОТ РСФСР». На следующий день Генеральный директор «производственного объединения „Бурятавторемонт“» Пуховской В. М. уволил меня своим приказом.
* * *
Вера, обеспокоенная моей ситуацией, приехала, чтобы мне помочь. Мы ходили в разные учреждения. В одном учреждении женщина из администрации отважилась сказать нам, чтобы мы не тратили усилий, потому что есть указание не принимать меня на работу. И всё же переговорили с председателем местного колхоза (с символическим названием «Гигант»), который пообещал работу в своём хозяйстве. Вера немного успокоилась и уехала. В октябре 1979 года я всё-таки устроился на работу в том колхозе. Но на какую? Кто-то из рабочих завёл меня в коровник, уже без коров, полный навоза, и сказал, что я должен прочищать неглубокую канавку, чтобы стекала вода из большой тёмной лужи, образовавшейся посреди куч навоза. Явное издевательство. Я мог действовать, как делал раньше в таких ситуациях: в ответ на насмешку — бросить эту «работу». Но решил быть терпеливым. Но через неделю не только почувствовал себя плохо, а совсем пожелтел. Меня забрала скорая помощь. Я оказался в больнице (Онохойская больница, инфекционное отделение).
Больнице несколько странной. В ней были преимущественно дети, может, только трое-четверо взрослых. Но двое старших мальчиков, лет 11-14, имели привычку издеваться над младшими девочками и мальчиками: щипать их, дёргать, те плакали. Так я начал урезонивать этих хулиганов, говорил об этих издевательствах медсёстрам. Вообще-то подумал, что это странная больница. Скорее для детей, чем для взрослых. Мне давали какие-то таблетки. Пробыл в больнице чуть больше месяца. Врачи и медсёстры относились ко мне хорошо, и я благодарен им, что вылечили меня. Среди документов нашёл медицинскую справку, в которой сказано, что я находился в больнице «с 25.10.1979 по 5.12.1979. Диагноз: инфекционный гепатит». Вернулся к своей бабушке. На работу в «Гигант» уже не выходил.
Узнал из радиоприёмника о «вводе» войск в Афганистан и 29 декабря отправил телеграмму опять-таки Брежневу. Несколько фраз: считаю это действие ошибочным, которое будет иметь тяжёлые последствия. Не только разум, но и предчувствие тяжёлых последствий побудили меня к противодействию, хотя и осознавал его безрезультатность.
Внук моей бабушки (он жил в центре, в многоэтажном доме) пригласил меня встретить новый, 1980-й год у него дома. Я пришёл с опозданием, когда гости уже разошлись. Общение внука со мной дало основание КГБ заинтересоваться им. Об этом я теперь узнал из документа от 11.03.1980 года, подписанного начальником Заиграевского районного отдела КГБ Бурятской АССР Битуевым. В нём сказано: «Лисовой проживает на квартире у одинокой престарелой женщины Михайловой в с. Новая Брянь, у которой на заводе работает внук Кокшин Н. А. По словам Михайловой объект бывает на квартире Кокшина и, иногда, ночует у него. Последний также в период болезни объекта брал его корреспонденцию, поступающую в почтовое отделение с. Новая Брянь до востребования.
В целях установления оперативного контакта изучить Кокшина по месту работы и жительства. Срок исп. — апрель. Битуев»
Среди документов есть объяснение Кокшина, что бабушка согласилась взять меня на квартиру с тем, что «Лисовой будет немного оказывать помощь ей по хозяйству». Но, видимо, для бабушки важнее было не быть совсем одинокой в своей хате. Сухенькая, аккуратная, немногословная, она редко обращалась за моей помощью, старалась всё делать сама. Правда, зимой я вносил дрова, закладывал их в печь, которая разделяла и обогревала две наши небольшие комнаты. Туалет, как во всех деревенских хатах, находился во дворе. Зимой 1980-го года я неожиданно заболел: что-то похожее на грипп, высокая температура. Учитывая же мои бытовые условия, я не имел права болеть. Поэтому принял очень радикальные меры. Выпил, наверное, две таблетки аспирина, укрылся своим тулупом и горел в течение ночи, выбрасывая из-под тулупа совершенно мокрое бельё и надевая сухое. Отлежавшись так ночь и, возможно, ещё день, сбил температуру и в течение нескольких дней выздоровел.
* * *
Вся моя почта контролировалась. Как видно из имеющихся документов, КГБ уполномочило это делать женщину, которая работала на почте вместе с Ниной Георгиевной Непитаевой. Никакая корреспонденция или посылка не могла быть вручена мне без санкции местного КГБ. Женщину кагэбисты обязали подавать регулярные, ежемесячные отчёты обо всём, что я отправляю, и что приходит мне. Кагэбисты решали, что должно «выходить» от меня и что можно мне вручить. Как видно из количества изъятых почтовых единиц (об этом можно судить, просматривая второй и третий тома моего оперативно-следственного дела), только что-то мне отдавали и только некоторые из моих писем попадали в руки адресата). Привожу ниже отрывки из двух обзоров за декабрь 1979 – январь 1980 г. (пропуски обозначаю значком …).
Декабрь 1979 г. — начало января 1980 г. «13 декабря Лисовой направил заказное письмо в ФРГ Бригитте Бехер, в котором запросил стилистические и философские тексты на немецком языке. В ответном письме 8 января 1980 года Бригитта обещала выслать их ему в ближайшее время. 13 декабря Лисовой написал в Бельгию Н. Детроукс (относительно книг по философии — прим. моё). 13 декабря в адрес отбывающего наказание Руденко Николая Даниловича … Подобные письма Лисовой направил также отбывающим наказание Матусевичу Николаю и Верхоляку Дмитрию, Дасиву Кузьме. 20 декабря Лисовой направил письмо в ФРГ Анне Горбач, которую благодарит за присланную ему книгу, которую он очень хотел у себя иметь. … 2 января этого года Лисовой написал письмо своей жене в Киев … 8 января Лисовой пишет своей сестре Садунайте Ниёле: …. За истекший период Лисовому направлялось свыше 40 документов из-за рубежа (Англия, ФРГ, Голландия, США, от имени объединения «Международная амнистия») … Почти все конфискованы …
Январь 1980 года.
«Начальнику Заиграевского РО
КГБ Бурятской АССР
майору Битуеву П.А., с. Заиграево
30 января от Лисового проследовал документ в адрес Черновола В. М., в котором он пишет: «… судя по всему, они и правда чистят Москву (да может быть не только Москву, в России они делают так же, как в Киеве). Ты наверное уже слышал о Сахарове. Разумеется, если они теперь не прислушиваются к серьёзным протестам зарубежных компартий и т.д., то наши протесты и подавно ничего не значат, но я все таки направил протест по поводу Сахарова Генеральному прокурору (действительно, 28 января проходило заказное письмо на имя Генерального прокурора СССР — нами не вскрывалось, как и раньше подал протест против интервенции Афганистана на имя Брежнева — нами не вскрывался). Так как в таких чрезвычайно серьёзных по своим последствиям случаях и поступках молчать не годится. Как ты думаешь по этому поводу, сообщи мне. От Овсиенко получил открытку, кроме того, Нийоле переслала мне его письмо. Ему там очень плохо, но что тут поделаешь, если только снова какие-либо заявления в адрес его тамошнего начальства. Я собираюсь это сделать, так как ничего лучшего не придумаю…».
Кроме этого, Лисовой направил запросы в различные магазины книга-почтой в г.г. Киев, Москву, Минск с просьбой прислать ему следующие книги: 1. Барменков В. И. «Свобода совести в СССР», 2. Бурмистров К. Д. «Роль прокурорского надзора», 3. Гричкявичус П. «Советская политическая система», 3. Блатова «Международное право», 4. Ядов Л. «Самоорганизация и прогнозирование социального поведения личности», 6. Антонов Б. Г. «Под маской борцов за права человека». Также заказал два десятка пластинок на Апрелевскую базу посылторга (характер пластинок пока не известен).
Из Богучанского РО УКГБ СССР по Красноярскому краю в отношении Лисового поступил запрос по поводу его связи с Садунайте Ниёле, которая проверяется по делу оперативного учёта (соответствующий ответ нами направлен).
29 января в адрес Лисового последовал документ от дочери Мирославы … Призывает его к благоразумию. Сам Лисовой в нескольких письмах писал жене о нецелесообразности переезда семьи в Бурятию на период ссылки, так как он не хочет, чтобы они терпели какие-то гонения и ограничения.
Сообщается для возможного оперативного исполнения. Начальник 5 отдела КГБ — полковник /Шапаев/
* * *
Не цитируя других такого рода сообщений, привожу здесь отрывки из ещё одного (2-й том моего оперативно-следственного дела, л. 54).
15 июля 1980 г. Нач. Заигр. РО КГБ Б. АССР
№ 5/4 – 1282 майору Битуеву
г. Улан-Удэ с. Заиграево
Также сообщаем, что гражданка ФРГ Анна-Галина Горбач, поддерживающая постоянную письменную связь с Лисовым, оказывающая ему материальную помощь, по данным 5 Управления КГБ СССР является объектом оперативной подборки «Слава». Объект и её муж, Горбач Алексей Фёдорович, также активно занимающийся антисоветской деятельностью, а их сын Марк в 1973 году находился на Украине с заданием украинских наццентров, был пойман с поличным и был выдворен из СССР.
В связи с изложенным 5 Управление КГБ СССР просит принять меры к пресечению передачи Лисовым антисоветской и клеветнической информации указанным лицам …
Жуковский Аркадий Илларионович, проживающий в Париже и поддерживающий стабильную связь с Лисовым аналогично Горбач, является одним из главарей зарубежной организации украинских националистов-мельниковцев, организовывает и лично принимает участие во враждебной СССР деятельности оуновцев по прокладыванию нелегальных каналов связи с националистически настроенными лицами в СССР. В связи с этим 5 Управление КГБ УССР осуществляет мероприятия по перехвату прокладываемой мельниковским наццентром каналов связи на Украину …
Приложение: Вход 4373 – 2 листа,
вход 4374 – 4 листа,
ксерокопия № 585 от 7. 07. 80 г. – 4 листа
* * *
В конце апреля Непитаева Нина предложила мне переселиться к ним в летнюю комнату (рус. горница) — в их доме на ул. Ленина, 74. Её муж, Непитаев Иван Сергеевич, 1951 года рождения, имел среднее техническое образование, работал столяром на уже упомянутом Ново-Брянском головном заводе. У супругов было двое маленьких детей — девочка и мальчик. Оксен подружился с мальчиком. Ведь Вера с детьми приехала на второй день после моего ареста 11 июня и вынуждена была ждать моего суда, который состоялся 15 июля. В течение этого времени две семьи подружились, и я дальше ещё упомяну о нашем общении с Непитаевыми после моего возвращения из лагеря. В Справке из пятого тома оперативного Дела Веры (л. 254-285) сказано: «10 июня состоялась встреча с объектом ДОН «Тихой». На встрече «Тихая» рассказала, что 11 июня в 10-30 из аэропорта «Борисполь» улетает вместе с детьми к мужу в Бурятию».
* * *
Я мог избежать заключения и лагеря, обратившись в районное КГБ с просьбой помочь мне найти работу. КГБ мог бы помочь, но на соответствующих условиях. На это кагэбисты и рассчитывали, устроив мне безработицу. По опыту я уже знал: если КГБ решил использовать отказ от работы как повод для репрессий, то у этого учреждения есть множество способов заставить меня отказаться от работы. Создав соответствующие условия, в частности и крайне унизительные, как это было в колхозе «Гигант». Да и не только в нём. В «Выписке» из Протокола заседания правления колхоза, которое состоялось 22.04.80 г., подписанного председателем колхоза Лукашевичем, говорится: «Прибыл в колхоз «Гигант» на работу в октябре месяце 1979 года, проработав 6 дней, Лисовой заболел. После выздоровления Лисовой к работе не приступал с 4/XII-79 г. Правление неоднократно вызывали его, беседовали… Поступило одно предложение: освободить от работы с 22/IV-80 г. Лисового Василия Семеновича».
Так что с конца апреля я уже не искал работы, хотя и предвидел, чем это должно закончиться. Да и напрасно было её искать, без соответствующего разрешения КГБ. Занимался интеллектуальным трудом в своей комнатке, стены которой были сложены из могучих горбылей, гладких и покрашенных внутри помещения. В частности, написал и несколько стихотворений: в одном из конфискованных писем, которое попало мне в руки только теперь, в результате рассекречивания документов, обнаружил предварительный вариант своего стихотворения «Сквозь боль», опубликованного в более поздней редакции в журнале «Украина» (№16, апрель, 1990 г.). Перед приездом Веры с детьми разрисовал одну из стен своей комнаты (у Непитаевых) пейзажем с деревьями и цветами. Но кагэбисты решили не допустить моего свидания с семьёй, забрав меня из моей комнатки 11 июня. За день до приезда моего семейства. Истинные мотивы, которые побудили КГБ прибегнуть к очередным репрессиям (нельзя же меня в ссылке сажать в ШИЗО и ПКТ), частично объясняет Справка, которая есть во втором томе моего оперативно-следственного дела (л. 61-64), отрывки из которой привожу ниже.
СПРАВКА
/на объекта КНД №3 Лисового Василия Семёновича/
11 июня 1980 года объект ДОН-56 / КНД №3 / Лисовой В.С. был арестован органами МВД по возбуждённому на него уголовному делу по ст. 209, ч.1 УК РСФСР за ведение паразитического образа жизни, выражавшегося в отказе от устройства на работу. До ареста Лисовой, в ожидании приезда семьи, занимался вопросами своего бытового устройства, хотя 5 мая с.г. органами милиции ему было объявлено официальное предупреждение в связи с его упорным нежеланием устроиться на работу, которое он сам безосновательно мотивирует наличием болезни. /По результатам последнего комиссионного обследования состояния его здоровья, проведённого 26 июня с.г. в консультативной поликлинике Республиканской больницы, Лисовой признан практически полностью трудоспособным/
13 июня с.г. к нему приехала жена с двумя детьми и поселилась в с. Новая Брянь на снимаемой им квартире. Узнав об аресте мужа, она сразу же сообщила об этом его связям. В частности Е. Пронюку она писала: «Ломаю голову над теперешним арестом. Думаю, что не иначе как за Афганистан с ним расправились...» /Имеется в виду письмо, которое Лисовой направлял в адрес Генерального секретаря КПСС с требованиями прекратить «оккупацию» Афганистана/.
Следует отметить, что за рубежом к Лисовому проявляется повышенный интерес со стороны представителей зарубежных антисоветских и националистических центров. Так, с ним поддерживают регулярную переписку, присылают запрашиваемую им литературу, посылки, бандероли, оказывают материальную помощь следующие лица: Аркадий Жуковский из Франции — по данным 5 Управления КГБ СССР является одним из главарей зарубежной организации украинских националистов-мельниковцев, Анна-Галина Горбач из ФРГ — по данным 5 Управления КГБ СССР и 5 Управления КГБ УССР занимается националистической деятельностью, поддерживает письменную и телефонную связь с разрабатываемыми по делу «Блок», получает от них антисоветскую и клеветническую информацию, которая затем используется в антисоветских кампаниях за рубежом.
Также в его адрес поступает очень много писем и открыток от инкорреспондентов с выражением сочувствия и поддержки, только в мае этого года проходило свыше 40 поздравлений с днём рождения. За период пребывания в ссылке на имя руководства МВД, ОВД, прокуратуры поступило около 20 запросов из-за рубежа об условиях пребывания Лисового в республике, а в течение двух недель со дня ареста в адрес городской и республиканской прокуратуры поступило 14 писем и телеграмм из Бельгии, ФРГ, Франции, Англии с выражением протестов по случаю его ареста. На июнь месяц Лисового приглашали на юбилейную конференцию Канадского сообщества философов в Монреаль. Приглашение направлено самим президентом названной организации, а в июле его приглашает на Съезд философов во Францию, в Страсбург Президент университета гуманитарных наук некто Браун. В приглашениях Лисового всячески возвеличивают, называя Профессором, известным философом, чьи труды, якобы, широко известны за рубежом, просят оказать честь и присутствовать на этих форумах.
Сам Лисовой за период ссылки занимался чтением научной литературы по вопросам философии, экономики, социологии, изучением иностранных языков /немецкого и английского/ книги он заказывал в магазинах книга-почтой, а также получал от своих корреспондентов из-за границы. Кроме того, писал стихи на украинском языке и рассылал их своим знакомым на рецензию или просто для ознакомления.
9 июля этого года органами МВД Лисовому было предъявлено обвинительное заключение по уголовному делу, но он виновным себя не признал, заявив, что не является трудоспособным в связи с болезнью. Такое заявление он сделал, не взирая на официальные медицинские документы по результатам обследования состояния его здоровья в которых прямо указывается, что он, Лисовой, является практически трудоспособным.
Ст. О/У 1 отд. 5 отд. КГБ Бурятской АССР
капитан /подпись/ /Антонов/
Я сказал, что сказанное в этой справке отчасти объясняет, почему КГБ взялось снова репрессировать меня. Потому что, как я уже замечал, нарезая винты плашкой на заводе, я мог бы спокойно работать все три года. Не перевоспитываясь. Это кагэбистам не подходило. Поэтому лишили токарного станка. Побуждение, чтобы обратился к ним за помощью. А первым было бы условие отказаться от «связей» (пусть даже письменных), названных в этой Справке. Как этого требовали и от моей жены. Эту технологию загона в безысходность КГБ повторил позже — после моего отбытия ссылки и возвращения нашего семейства в Киев. Вера хотела, чтобы я проявил некую меру дипломатичности. Чтобы сделать возможной нашу совместную жизнь в Новой Бряни до окончания ссылки. Имею в виду дипломатичность, о которой сказал Михаил Хейфец, рассказывая, как он смог найти себе работу в ссылке. Но я настолько убедился в настойчивости КГБ превратить меня в запуганное насилием беспринципное существо, что для меня это был отрезанный путь. Тем более в ситуации принуждения к контактам путём коварного насилия. Так что я просто смирился с любыми последствиями своего выбора. Что касается перечисленных проявлений солидарности со мной западных интеллектуалов, то КГБ хорошо меня изолировал, конфискуя упомянутый поток корреспонденции. И пропуская лишь единичные письма по своему выбору. За этим стоял определённый расчёт, не всегда мне известный. За исключением разве что обычной проверки: общается, значит, не боится нас. А потому нужно принять дополнительные меры перевоспитания.
* * *
В «пресс-хате». В день ареста я был помещён в следственную тюрьму в Улан-Удэ. Я уже кратко упоминал о моей жизни в камере этой тюрьмы в своей публикации в упомянутом номере журнала «Украина». Там же упоминал, что в этом же следственном изоляторе примерно в то же время держали Александра Болонкина, который потом, в своей публикации в журнале «Огонёк», рассказал о своём пребывании в особой камере — «пресс-хате». Выражение «пресс-хата» из жаргона заключённых, может, и подброшено им для запугивания. Некоторые заключённые намекали мне, что это ещё не настоящая «пресс-хата». То есть, всё зависит от того, как кого «прессуют». Речь идёт о «рукоприкладстве» — причинении боли физическими действиями некоторыми из сокамерников, содержавшихся в той же камере. По крайней мере, в моём случае такие действия кажутся невинными по сравнению с пытками, через которые прошли все «враги народа», в частности члены ОУН или бойцы УПА. Речь идёт об ограниченных действиях: не знаю, насколько эти ограничения являются следствием соблюдения указаний КГБ или изобретением самих сокамерников.
В камере с двойными нарами, где находилось около десяти заключённых, только двое-трое были наиболее агрессивными. Одного из них я потом встречал в лагере. Там он уже совершенно нормально ко мне относился. Один из них подходил и бил кулаками преимущественно в одну и ту же руку выше локтя, иногда также в бок. Когда моя рука посинела и распухла, а боль стала интенсивной, пришлось подставлять вторую руку, она также начала болеть. Заключённый делал это спокойно, как выполнение некоторой процедуры, а я ему читал «мораль». Разные другие мелкие толчки не в счёт, как, например, стрельба из резинки бумажными свёртками: от них можно было защититься, спрятав оголённые руки и ноги под одеяло. Говорю об ограниченных действиях, потому что не били по жизненно важным органам.
Только один случай вышел за эти «рамки». Мне пришла посылка от Веры. Когда, открыв «кормушку», об этом объявили, я попытался сам её получить, сказав об этом тому, кто уже намеревался это сделать. В ответ он набросился на меня с боксёрскими безоглядными ударами в грудь. У меня перехватило дыхание, я упал. Оставляю без оценки, как и в других таких случаях, нужно ли было мне получать ту посылку и есть эти переданные мне продукты. Отмечаю это, даже если некоторые из моих читателей подумают о моей чрезмерной подозрительности. Но, в конце концов, я бы и не ел те продукты сам, и всё, следовательно, можно было сделать иначе, без применения грубой силы. Но, как ранее замечал, в условиях лагерей и тюрем простая логика часто неприменима. Когда однажды в лагере мне пришёл в посылке шоколад, а мне сказали, что его нам «не положено», то я сказал в ответ: зачем же его выбрасывать, лучше передать каким-нибудь детям. Не было ли это проявлением моей наивности?
Второй случай угрожал стать ещё большим «беспределом». В камере был добродушный заключённый, который безропотно делал всё, что ему приказывали. Я попытался заменить его и, видимо, сказал, что не он один должен убирать: общую уборку делали все, за исключением нескольких, которые перекладывали её на таких, как этот заключённый. Не помню конкретнее, что ещё говорил, но в итоге один или двое из наиболее агрессивных вынесли приговор, чтобы я избил этого человека. А если этого не сделаю, буду сам избит или изнасилован. Поскольку я отказался выполнять такой приказ, то те двое тянут меня и кладут на кровать, становятся надо мной. Но в миг, когда увидели мою готовность к любому продолжению, вдруг оставили меня и отошли. Но в какие-то вечера перед сном, когда все уже укладывались в постели, я мог рассказывать заключённым о диссидентском движении. Они слушали внимательно, некоторые даже задавали вопросы, лишь отдельные иронизировали, видимо, из предосторожности. Этими своими рассказами я как бы компенсировал себе всё остальное. Рассказывал и о своём политическом обвинении. Видимо, накануне или в день суда должен был пройти осмотр врача. Осматривала ещё молодая женщина: когда я снял одежду, и она увидела синяки на теле, слезами наполнились её глаза. И до сих пор в памяти своей храню страдальческое выражение её лица и храню чувство благодарности за это её сочувствие.
* * *
Суд. Лагерь в Цолге. Жена с детьми приехала на второй день после моего ареста. О моём аресте узнала от Непитаевых. Можно представить её состояние. С детьми она ждала больше месяца суда, который состоялся 15 июля 1980 года. Заявила, что будет выступать на судебном процессе в роли защитника. Эту её просьбу удовлетворили. Первый вопрос ко мне во время судебного следствия: как я отношусь к своему предыдущему приговору. Я мог бы не отвечать на этот вопрос как на не относящийся к сути дела. Но мне важно было ещё раз подтвердить свою позицию. Поэтому ответил совершенно спокойно, что не признавал и теперь не признаю за собой вины. Суд длился недолго. Аргументы Веры, что я пытался найти работу и что «безработицу» мне устроили сознательно, конечно же, не были приняты во внимание. Приговор, в соответствии со статьёй 209, ч. I, 41 УК РСФСР (уклонение от труда) определил заключение в лагере на один год. То есть «на полную катушку».
Отбывал наказание в лагере для уголовников — в селе Цолга (ОВ-94-5-«В») Мухоршибирского р-на Бурятской АССР. Наиболее отчётливо запомнилась картина: просторный двор лагеря, на котором длинной колонной выстроены заключённые с металлическими мисками в руках — за едой. Нам бросали половник какой-то каши, картошки или супа. Заключённые, в том числе и я, голодали. Заключённые относились ко мне нейтрально, одни — грубо-нейтрально («ступай себе мимо»), большинство — просто нейтрально, некоторые — доброжелательно, а то и дружески. Видимо, отчасти потому, что я выпадал из их категорий, так как стало известно, что я «политический». Но, видимо, только отчасти. Потому что однажды кто-то из заключённых позвал меня, сказав, что меня кто-то хочет видеть. Оказалось, что со мной захотел познакомиться «авторитет», как я уже потом узнал. Содержания разговора с ним не помню, но думаю, его интересовало, кто я и за что осуждён. Но хорошо запомнил, как на прощание он бросил кому-то из присутствующих фразу: дай этому «мужику» чаю. Так что, меня отнесли к этой категории. Чай, как и в политических лагерях, был плиточным, так что заключённый передал мне аккуратно отрезанную часть плитки, может, размером в спичечный коробок. Помню случай (кажется, не единичный), когда в туалетной комнате молчаливый заключённый меня предостерёг: «Осторожно, законтачишься». То есть, я не должен был мыть руки в умывальнике, где умываются гомосексуалисты.
Администрация относилась к заключённым, в том числе и ко мне, грубо. Но я не был свидетелем каких-либо крайностей, например, побоев. Кто-то мне посоветовал написать заявление с просьбой зачислить меня в лагерное техническое училище. Я это сделал и в течение некоторого времени посещал занятия. Осваивал профессию токаря. Перед новогодним праздником (накануне 1981 г.) многих заключённых, в том числе и меня, бросили в ШИЗО. Потом приставили к относительно лёгкой работе — набивке матрасов ватой. За этой работой я уже более-менее спокойно и добыл год своего заключения. Из лагеря меня забрали вовремя (11.06.81), сначала отправили в следственную тюрьму в Улан-Удэ, а через несколько дней — в распоряжение спецкомендатуры в Заиграево. Как мне было сказано, ссыльных отправляют туда, откуда их взяли.
* * *
Только в связи с рассекречиванием СБУ документов, касающихся дела «Блок», я узнал о мощной волне протестов, которую вызвал в западных странах мой арест. Правда, Тарас Закидальский в начале 90-х годов говорил мне, что в США, в частности в среде философов, было организовано движение протеста против ареста украинских философов. Понятно, что КГБ скрывало от меня все эти протесты и обращения. И не только те, что адресовались Прокурору или Прокуратуре Бурятской АССР, но и мне лично. Подавляющее большинство этих протестов было отправлено от лиц, ассоциированных с Amnesty International. Но значительная часть обращений и протестов поступала от отдельных лиц. Как я теперь узнал, значительное количество этих протестов поступило от профессоров, и, видимо, также студентов различных колледжей Оксфордского университета (Англия). В целом же протесты поступили от лиц из многих стран Европы: больше всего из Англии, Бельгии, ФРГ, Франции. Такие обращения продолжали поступать и после отбытия мной годичного срока заключения, большая часть из них датирована 1982 годом. За этим стояла тревога, что статью о «тунеядстве» КГБ снова может использовать, чтобы не позволить мне вернуться в Киев после окончания ссылки. В виде предостережений на это прямо указывается в некоторых обращениях. Это была распространённая практика. Особенно неожиданным для меня стало приглашение на философский съезд, который готовил Страсбургский университет, от имени Люсьена Брауна (Lucien Braun). Привожу здесь его текст в русском переводе (этот перевод был сделан после его получения для нужд КГБ).
Université des Sciences Humaines
de Strasbourg
Faculté
Langues, Littératures
et Civilisations étrangères.
Esplanade – 22,
rue Descartes.
Tel (33) 61, 39, 39 –
Paris 385 Strasbourg, le 25 juin 1980
CCCР
Бурятская АССР,
Заиграевский р-н,
Новая Брянь,
ул. Ленина 35
Василию Лисовому
Глубокоуважаемый г-н Профессор,
я имею честь Вам прислать прилагаемые документы (программу, бланк для записи), касающиеся XVIII-го Cъезда Общества философии.
Вы оказали бы большую честь Страсбургскому Университету Гуманитарных наук, Президентом которого я являюсь, если бы Вы согласились участвовать в работе этого Съезда.
Надеюсь, что могу рассчитывать на Ваше участие, примите г-н Профессор, заверения в моем уважении.
Л. Браун,
Профессор философии,
Президент Страсбургского университета гуманитарных наук.
Учитывая, что я лишь успел закончить аспирантуру и защитить диссертацию, а свои первые публикации позже оценивал как начальные, ясно, что большую роль в данном случае сыграло чувство солидарности коллег, которые таким образом хотели защитить и поддержать меня. Думаю, что волна протестов, вызванная моим вторым арестом и заключением, была важным, если не решающим фактором, благодаря которому меня не заключили в третий раз, опять-таки по статье о «паразитическом образе жизни».
* * *
Илька. Спецкомендатура в Заиграево отправила меня после отбытия лагеря не на старое место, в Новую Брянь, а в посёлок Илька того же Заиграевского района. Спецкомендант посоветовал по поводу трудоустройства обратиться к директору Илькинского авторемонтного завода. В справке от 15 июня, подписанной директором завода А. Мупкиным, сказано, что с 1 июля 1981 г. меня зачислили токарем в механический цех этого завода. Сначала жил на квартире у какой-то одинокой бабушки, напротив завода. Но поскольку Вера с детьми решила переехать ко мне, то во время её приезда мы купили половину дома, починили его и жили в нём до конца ссылки. Дом наш (на ул. Профсоюзной, 20), как пересказывали нам местные жители, был построен вывезенными литовцами и их семьями, наказанными за участие в национально-освободительном движении.
Семья переехала ко мне во второй половине августа 1981 года. Перед этим Вера посетила КГБ и предупредила их, что будет соблюдать закон, что не будет отсутствовать на квартире более полугода. И надеется, что они не поступят так, как в Москве поступили с квартирой Подрабинеков (Саша Подрабинек был политическим ссыльным, жена приехала к нему в ссылку, родила ребёнка, не могла приезжать в Москву, квартиру опечатали). Но в случае Веры КГБ было заинтересовано в её переезде ко мне в ссылку. Об этом сказано в справке, текст которой здесь привожу.
СПРАВКА
по материалам ДОН № 312 на «Тихую».
По ДОН «Тихая» изучается:
Лиcовая Вера Павловна, 1937 года рождения, уроженка г. Кагарлыка Киевской области, украинка, беспартийная, с высшим образованием, работает библиотекарем в СШ № 183 г. Киева, проживает в
Киеве по ул. Братиславской, 4, кв.192
В поле зрения органов КГБ «Тихая» попала в 1974 году. Основанием для заведения на нее ДОП (в декабре 1974 года) послужили агентурные, следственные и другие оперативные материалы, свидетельствующие о националистических убеждениях объекта, причастности к хранению и распространению антисоветских документов, в том числе «Видкритого листа до членів ЦК КПРС», автором которого является её муж Лисовой В., осужденный в 1974 году за националистическую деятельность по ст.62 ч.1 УК УССР к 7 годам лишения свободы и 3 годам ссылки.
«Тихая», являясь единомышленником и близкой связью многих объектов дела «Блок», при выездах на свидания к мужу, встречалась также с антисоветски настроенными лицами, проживающими в Москве — Корсунской, Великановой и другими.
В процессе работы по ДОП через агентуру и ОТМ было установлено, что «Тихая» обрабатывала близкие связи во враждебном духе, порочила и возводила клевету на советскую действительность, в частной переписке с инокорреспондентами пыталась передавать клеветническую информацию.
В июле 1975 года зарубежная а/с [антисоветская] радиостанция «Свобода» передала интервью выехавшей на постоянное место жительства за границу еврейки Глазман А. (близкой связи «Тихой»), в котором излагалась информация об арестованных за а/с деятельность Лисовом, Пронюке, Сергиенко, Сверстюке и других, а в июле этого же года службой «ПК» был отобран и легализован исходящий международный документ от «Тихой» в адрес Глазман А. в США, содержащий по существу продолжение использовавшейся радиостанцией «Свобода» информации об арестованных объектах дела «Блок».
Кроме того, с 1975 года «Тихая» начала получать из различных капстран материальную помощь в виде вещевых посылок от незнакомых ей лиц (Англия, Франция, Бельгия и др.)
В связи с изложенным, в июле 1976 года на «Тихую» было заведено ДОР.
В ходе разработки объекта были получены данные, что она поддерживала тесные контакты со многими объектами дел оперучёта, в частности, с «Фарисейкой», «Фанатичкой», «Мартой», «Дорой», а также с ныне осужденными за а/с деятельность Матусевичем, Мариновичем, Руденко, Мешко, Бердником и другими, принимала участие в сборище, организованном московскими диссидентами по случаю «проводов» антисоветчика Амальрика, выдворенного из СССР.
Кроме того, были получены данные, что она передает клеветническую информацию в зарубежные наццентры, которую использовали в антисоветской пропаганде такие националистические издания, как «Сучаснисть», «Смолоскип», «Украинске слово» (Пресова служба ЗП УГВР), радиостанция «Свобода» и другие.
В 1977 году «Тихая», возвращаясь с несостоявшегося свидания с Лисовым (в это время с ним проводилась индивидуально-воспитательная работа в условиях следизолятора КГБ УССР), останавливалась с детьми у своих московских связей, которым дала клеветническую информацию о якобы существующих преследованиях со стороны органов КГБ. Впоследствии эта информация использовалась во враждебных кампаниях за рубежом против СССР.
На основании легализованных материалов «Тихая» в апреле 1978 года была профилактирована в здании УКГБ и ей объявлено официальное предостережение согласно Указу ПВС СССР от 25 декабря 1972 года.
После профилактики (в ходе которой объект враждебной деятельности со своей стороны не признала) «Тихая» написала заявление на имя Председателя КГБ УССР, в котором просила оградить её от якобы имеющих место преследований со стороны органов КГБ. В связи с поступившим заявлением с объектом 20 апреля 1978 года была проведена беседа заместителем Председателя КГБ УССР генерал-майором тов. Евтушенко В.М.
С учетом того, что объект после профилактики активной враждебной деятельности не проводила, однако, оставаясь на националистических позициях, продолжала поддерживать контакты с объектами дела «Блок» и их связями, в июне 1978 года ДОР на «Тихую» было переведено в ДОН и с ней продолжена индивидуально-воспитательная работа на основе личного контакта.
В процессе встреч с оперработником, «Тихая» пыталась доказать свою лояльность к существующему строю, убедить в том, что она не занимается враждебной деятельностью. Однако, как свидетельствуют поступающие агентурно-оперативные материалы и беседы с объектом, она вела себя неискренне, пыталась прикрыться личным контактом для проведения враждебной деятельности.
В октябре 1980 года от агента «Мирославы» поступили материалы о том, что «Тихая» причастна к получению и распределению материальных средств из т.н. «фонда помощи политзаключённым».
В 1979-1980 гг. в процессе личного контакта оперработника майора тов. Лысенко С.А., «Тихая» была склонна к выезду с детьми к своему мужу Лисовому В., отбывающему ссылку в поселке Новая Брянь Бурятской АССР, и проживать с ним до окончания срока ссылки.
В июле 1980 года объект выезжала в пос. Н. Брянь, однако в связи с тем, что её муж в это время был арестован и привлечен к уголовной ответственности к одному году лишения свободы за тунеядство, объект возвратилась в г. Киев.
В настоящее время «Тихая» (в июле сего года) намерена вновь выехать на жительство к мужу, который после отбытия срока наказания в ИТУ, с июля 1981 года, будет отбывать ссылку в пос. Н. Брянь в течении 2 лет.
«Тихая» намерена удержать Лисового от необдуманных поступков и не допустить повторного привлечения к уголовной ответственности за враждебную деятельность.
В целях нарушения и разрыва связей с единомышленниками, снабжающими «Тихую» в г. Киеве средствами из т.н. «фонда», которые она впоследствии распределяет среди осужденных и их семей, целесообразность выезда объекта из Киева к мужу очевидна. Кроме того, есть основание полагать, что «Тихая» передает все связи, причастные к «фонду», проверенному и надежному агенту «Мирославе», которой объект полностью доверяет.
Зам. начальника 5 отдела УКГБ УССР
по городу Киеву и К/о
майор Левуцкий
18.V. 1981 г.
Ст. опер./уполн. 1 отд. 5 отдела КГБ
Бур. АССР
майор /Дамбаев/
14. I. 1982 г.
Замечу, что потом в некоторых документах оперативного следствия было высказано недовольство тем, что Вера не передала «Мирославе» никакой информации о «фонде». Да и какую информацию она могла передать? Ведь люди в Москве, распределявшие помощь, сами выбирали того, кому они могли доверять. И кто в Киеве мог бы её распределять.
* * *
Итак, в сентябре вся наша семья была вместе. Оксен пошёл в третий класс Илькинской СШ, а Мирослава — в девятый. Хорошо относились жители Ильки к нам, и учителя к детям в школе. Мирослава пользовалась авторитетом, она и вправду была начитанной. Хотя её любимым предметом была биология, но она много читала из мировой, украинской и русской литературы.
Школу окончила почти на отлично, с несколькими четвёрками. Мне, после каких-то мелких работ на токарном станке, поручили просверливать отверстия для автомобильных дисков. Диски были тяжёлые, но я был доволен простотой своей работы. Так и сверлил эти диски до окончания своей ссылки. Рабочие ко мне относились хорошо, на заводское начальство также не имел оснований жаловаться.
Вера вела домашнее хозяйство. У нас возле дома был небольшой садик, где росли кусты смородины, а также небольшой огород, на котором мы выращивали картошку. Посадили во дворе цветы, на стене у входной двери я нарисовал большой яркий подсолнух. Фруктовые деревья, к которым мы привыкли на Украине, здесь не росли. У нашего дома росла лишь яблонька с яблоками чуть больше «райских». Покупали дрова для отопления печи: самосвал привозил брёвна мощных деревьев — лиственниц и сосен. Я получал удовольствие, соприкасаясь с силой этих деревьев, когда своим колуном рубил их стволы.
Буряты жили в отдельной части Ильки, за рекой: ходили к ним через мостик покупать молоко. Зимой молоко сначала замораживали в посудине, а потом хранили замёрзшими кругами, которые ставили на полочку в сенях. Зима была суровая, никаких оттепелей. Климат контрастный: сухое, солнечное лето, с ветром, дувшим в одном направлении, и суровая зима. Больше сорока градусов мороза — не редкость. Но мы переносили тридцатиградусный мороз в Бурятии легче, чем на Украине десять-пятнадцать градусов. Сухой воздух. В магазине скудный выбор — вермишель, консервы, иногда осенью привозили яблоки, арбузы и некоторые овощи. Как и в Новой Бряни, местные жители покупали много водки. Но, в отличие от Новой Бряни, где во время «получки» вспыхивали пьяные драки, здесь было спокойнее.
* * *
Через дом от нас жила одинокая бабушка (Афанасьева), очень старая, мы с Верой заходили её проведывать. Её муж был после революции энтузиастом внедрения коммун. Она рассказала, как жили в тех коммунах: у людей забрали жильё, землю и поселили в барак. В таком бараке в течение какого-то времени и жила эта бабушка, тогда ещё молодая женщина. Всё делали по команде: шли по сигналу к общему столу и ко сну. Жили впроголодь, были вынуждены воровать хлеб, пряча его между ногами. Но однажды о них забыли, еду не привезли, сторожа исчезли. Пришлось покинуть барак, и каждый оказался перед проблемой, как им, лишённым всего, теперь выживать. Её же мужа арестовали и расстреляли. Бабушка ещё была подвижной, даже иногда ходила через дорогу к колодцу за водой. Всё же соседи, в том числе и мы, заходили и спрашивали, не принести ли ей воды и в какой помощи она нуждается. Как-то зимой её ведро оторвалось и упало в колодец. Пришлось тогда вспомнить свою подростковую практику — спуститься в колодец, чтобы достать то ведро. К счастью, колодец не был глубоким: лестницы, которую принёс, было достаточно; поглядывал лишь на ледяные глыбы, свисавшие над моей головой.
* * *
Однажды учительница истории Илькинской средней школы пригласила Веру и меня на «пикник» в тайгу, взяли с собой также Оксена. Муж учительницы (инженер, работал на Илькинском авторемонтном заводе) отвёз нас всех в тайгу на своём легковом авто. Это был наш первый выезд в тайгу. Она поразила нас своим величием: могучие лиственницы, кедры, сосны, некоторые из них повалены. Это было незабываемое впечатление. Но, среди прочих разговоров, вспомнили о требованиях студентов университета в Улан-Удэ о переходе на преподавание на бурятском языке. Это было событие, получившее тогда огласку. Учительница истории сказала примерно так: «До тех пор, пока секретарём ЦК Бурятии был русский, они были покорнее, а как только стал бурят, они даже захотели свой университет на бурятском сделать». Вера в ответ сказала: «А где же им делать свой университет, не в Москве же?» После этого учительница изменила своё отношение к Вере, перестала с ней общаться.
Здесь, в Бурятии, действовала такая же национальная политика, что и на Украине: центры городов заселялись переселенцами, с преобладанием русских и русифицированных национальных меньшинств. Это вместо того, чтобы города формировались с преобладанием местного населения, что привело бы к появлению бурятоязычных городов. Отсюда распространённость слова «посёлок», где жили переселённые и поселённые. Популярным среди этнических русских было слово «перекочевали», которое мы услышали именно в Бурятии.
Буряты же компактно проживали отдельно, в селе. Поэтому центр города или весь город действовал как «насос», втягивающий и русифицирующий бурят — тех из них, что решили переселиться в город. Переселившись, они вынуждены общаться на русском языке, их дети ходили в русскоязычные детские сады и уже забывали язык родителей. «Насос» работал. Более того, пока село жило относительно изолированно, традиционная культура сохранялась сама собой. Но процесс модернизации, первым показателем которого является рост роли городов (и городской, современной культуры), вследствие господства инородной культуры в городах начинает деформировать также традиционную сельскую культуру. Не модернизировать, а деформировать её. Ведь сельские жители всё больше ищут работу в русифицированных городах. Первым следствием является деформация языка — явление, которое на Украине обозначаем словом «суржик». Политика для украинцев хорошо известна: то, что хотели сделать украинские национал-коммунисты — создать в городах украиноязычный рабочий класс — было оценено как серьёзная угроза для коммунистической империи. Ибо это означало создание украинской современной нации. Отсюда общая практика в СССР — превращение городов в центры русификации.
В 1982 году Леонида Светличная должна была оставить больного Ивана, который был в ссылке в Майме (Горно-Алтайская обл.). Недели на две, чтобы побыть в квартире в Киеве, в соответствии с уже упомянутым требованием. Поэтому она попросила Веру побыть с Иваном в это время. Вера согласилась, поехала ухаживать за Иваном. Её общение с Иваном было интересным и достойно отдельного рассказа. Оттуда Вера писала письма Надежде Светличной в США (жила недалеко от Нью-Йорка). Но, в связи с упомянутой выше национальной политикой, в Майме, как и в Бурятии, существовала та же напряжённость между русскоязычным населением (с преобладанием этнических русских) и носителями местной культуры — с преобладанием алтайцев. И причиной этого были всё те же попытки превратить города или «поселения» в центры плавильного котла, русификации.
Ещё одну незабываемую поездку стоит здесь упомянуть. Это случилось уже незадолго до нашего отъезда на Украину. Супруги Непитаевы предложили нам посетить места декабристов в Петровске (Читинская обл.). Хозяин Иван Сергеевич имел легковой автомобиль, вместивший пятерых нас — Ивана, Нину, Веру, меня и Оксена. Ощущение переклички через столетия с судьбами политзаключённых-декабристов не оставляло нас, как только мы ступили на место их каторги и ссылки. Побыли у хорошо сохранившегося деревянного дома украинского декабриста Ивана Горбачевского, я даже посидел на ступеньках дома. Нас поражали эти добротные строения, построенные из могучего дерева, над которыми, кажется, было невзластно время. Хорошей их сохранности способствовал сухой климат Бурятии. Посетили также могилу Горбачевского.
Но вместе с тем проездом увидели в тайге поразительные последствия бесхозяйственной деятельности человека: большие площади срубленных деревьев, так и оставленных гнить — будто какая-то катастрофа промчалась и оставила за собой руины. Второе, что мы наблюдали в Новой Бряни, и, может, в несколько меньших масштабах в Ильке — равнина за городом, сплошь забросанная мусором, преимущественно бытовыми отходами. Мусор совсем не вывозился на какие-то свалки? А высыпали его за городом, чтобы ветер разносил по всей равнине?
* * *
Кагэбисты в течение всего времени пребывания в Ильке меня и Веру не беспокоили. Как и в течение моего пребывания в Новой Бряни, у меня не было с ними никаких разговоров, да и они не вызывали на такие разговоры. За одним исключением. Поводом для допроса 2 декабря 1982 года стало следствие над Зоряном Попадюком, отбывавшим ссылку в Казахстане, в Актюбинской области. В сентябре 1982 года он был арестован (в начале апреля осуждён по ч. II статьи об антисоветской агитации). Но это был лишь повод, ведь произвести в нашей квартире тайный обыск не составляло проблемы. И если бы у нас хранилось какое-либо письмо Зоряна, которое могло бы понадобиться для «дела», они бы его изъяли на почте или произвели бы для этого официальный обыск в нашей квартире. Скорее в данном случае следствие над Зоряном стало лишь предлогом для разговора.
СПРАВКА
о допросе Лисового В.С.
2 декабря 1982 года следователем КГБ Бурятской АССР тов. Кожевиным В. Г. по поручению следственных органов КГБ Казахской ССР в качестве свидетеля был допрошен отбывающий в Заиграевском районе наказание в виде ссылки объект ДОН-56 Лисовой В. С.
При допросе присутствовал оперработник.
В процессе допроса «Л» задавались вопросы о его быте, связях в районе и за его пределами, взаимоотношениях с коллегами по работе, мировоззрении, дальнейших намерениях.
Лисовой рассказал, что своим положением нынешним он, в основном, удовлетворен: отношения к нему со стороны окружающих враждебного характера не имеет, материально он обеспечен в одинаковой со всеми мере, жалоб на здоровье, за редким исключением, у него не бывает. Взаимоотношения в семье нормальные, жена постоянно заботится о нем и детях. Детей он воспитывает, не навязывая своих взглядов на существующую действительность, так как, по его словам, «они сами всё видят, делают выводы, а действительность учит их лучше всяких наставников». Свое положение ссыльного он охотно променял бы на проживание за границей, но после отбытия срока ссылки выезжать за рубеж не намерен и действий в этом направлении не предпринимает.
На вопрос о его отношении к своей прошлой деятельности Лисовой пытался уклониться, но сказал, что зрелый человек свои убеждения меняет очень редко и даже внешнее согласие зачастую скрывает его внутреннюю убежденность в своей правоте. Он, в настоящий момент, никаких попыток к возобновлению своей деятельности не предпринимает, так как за последнее 10 лет устал, но будущее покажет, кто был прав.
В настоящий момент его беспокоит вопрос о дальнейшей жизни – где ему удастся устроиться работать, отношение к нему знакомых и окружения по возвращении на Украину.
Допросом требовалось установить когда, где и при каких обстоятельствах «Л» познакомился с подследственным и поддерживал ли с ним связь. «Л» рассказал, что познакомился с подследственным, когда отбывал срок наказания в ИТЛ в Мордовской АССР. Его везли из отряда в медсанчасть, а по дороге посадили из другого отряда молодого человека для доставки в ШИЗО или в ПКТ, они познакомились и обменялись адресами. Писал ему «Л» всего 2 или 3 раза и столько же получил писем в ответ. Письма он не стремился сохранить, но возможно они лежат дома и он готов их предъявить. Кто ему послал адрес подследственного, когда тот был отправлен отбывать ссылку, «Л» не помнит.
По дороге к дому, где проживает «Л», следователю и оперработнику с «Л» встретилась объект ДОР-673 «Тихая». Она сразу же поняла, о ком идет речь, когда «Л» назвал его имя, и заявила, что от него было письмо одно бытового содержания, которое не сохранилось.
Войдя в квартиру, «Тихая» достала пачку писем и предложила их просмотреть, а затем и осмотреть всю квартиру. Она постоянно говорила о том, что этого человека Василь не знает, что письмо было единственное и никакой «крамолы» в нем не было, что никаких писем, кроме деловых, и от Сверстюка, являющимся их другом, не хранится.
«Л» в это время никаких действии к обнаружению писем не принимал.
По возвращении в кабинет допрос был продолжен.
По существу вопросов допроса «Л» отвечал уклончиво, конкретных лиц и адресов не называл. Факт знакомства со многими осужденными за антисоветскую деятельность не отрицал, но «забыл», где, с кем и с чьей помощью с ними познакомился.
В процессе допроса внешне держался спокойно, встречными вопросами в корректной форме пытался выяснить, что известно следствию о деятельности вновь привлеченного к ответственности лица.
Допрос продолжался около 3-х часов, новых данных о связях «Л» в районе и за его пределами не получено.
Оперуполномоченный Заиграевского
РО КГБ Бурятской АССР капитан /подпись/ (Г. Черемных)
* * *
Срок ссылки (по отдельному постановлению суда, который его уточнил) истёк 8 мая 1983 года. После этого я ещё добровольно работал на заводе до середины июня. В течение нескольких последующих дней наше семейство собралось и отбыло самолётом в Киев, за исключением Мирославы, которая уже сдала экзамены за среднюю школу, но осталась на выпускной вечер. Жила в семье своей одноклассницы. Как и спланировали ранее, сначала самолётом из Улан-Удэ прибыли в столицу Узбекистана, побыли один день и переночевали у знакомых, а оттуда, с посадкой самолёта в Алма-Ате, прибыли в Борисполь.
Наше возвращение домой, как и любого другого политзаключённого, рассматривалось службистами КГБ как событие, которое должно пристально контролироваться. На это указывает документ с пометкой «Секретно. Срочно». В нём, между прочим, сказано: «Лисовым приобретен авиационный билет по маршруту Улан-Удэ – Иркутск – Ташкент – Киев. В Иркутск вылетают 23 июня рейсом 457. В Ташкент из Иркутска 23 июня рейсом 3717, цель поездки в Ташкент не известна.
Спецкомендатурой Заиграевского ОВД на Лисового оформлены документы для установления над ним административного надзора по месту жительства. Документы будут направлены в МВД УССР. Иркутское и Ташкентское УКГБ просит проконтролировать пребывание Лисовых в названных городах. Председатель КГБ Бурятской АССР генерал-майор Верещагин. 22/VI-83 г.»
Раздел Х. Истощение Левиафана (1983-91)
1. Музей истории Киева.
Возвращение в «большую зону». Итак, с приездом Мирославы всё наше семейство собралось в своей квартире на Братиславской. Для меня это было новое, лучшее жильё по сравнению с нашей «коммуналкой» на Дарницком бульваре. Когда подошла очередь Веры на получение квартиры (я был тогда под следствием в Следственном изоляторе КГБ), ей сказали, что наша семья (нас двое и двое детей) имеет право на получение трёхкомнатной квартиры. И что Вера может подождать с получением квартиры до конца следствия. Если после завершения следствия я буду освобождён, то мы получим трёхкомнатную квартиру. Надеяться на это у Веры не было оснований. Поэтому она согласилась на получение двухкомнатной квартиры в «хрущёвке», с проходными комнатами, в которой мы до сих пор вдвоём живём. В начале 90-х, с женитьбой Мирославы и Оксена, в одной комнате жила Мирослава с мужем, а в другой — мы вдвоём и Оксен с женой (две кровати впритык).
После возвращения должен был «отмечаться» ежемесячно в милиции, но в милиции отнеслись безразлично к выполнению мной этой процедуры. Предполагаю, что милиционеры вполне оправданно считали, что «опека» над бывшими политическими заключёнными — дело КГБ. Возможно, каких-то инструкций от КГБ относительно моего отмечания они не получали. Так или иначе, но после нескольких визитов в милицию я перестал «отмечаться». Без хлопот прописался. Основной проблемой стали поиски работы. Формальным отказом была ссылка на то, что у меня есть диплом о высшем образовании, а отделы кадров не имеют права зачислять таких на работу низкой квалификации. Обратился в находящийся рядом с нашим домом магазин «Молоко»; прочитал объявление, что им нужен грузчик. Заведующая магазином вполне доброжелательно отнеслась ко мне. Возможно, её насторожил мой украинский язык, не суржик. Воздержалась от решения, взяла мои «данные» и сказала зайти через несколько дней. Как и следовало ожидать, отказала.
Попытался помочь Сергей Кудра, поскольку был вынужден работать на разных работах после увольнения из Института философии. По его совету я согласился осваивать профессию «составителя поездов». На этот раз меня направили на медицинскую комиссию, которая сделала вывод, что по состоянию здоровья «не годен». Обратился в библиотеку им. КПСС, нынешнюю Парламентскую. Кто-то из её ответственных чиновников проявил откровенность, сказав примерно так: «Вы же знаете, что не устроитесь нигде без разрешения соответствующего учреждения». Я же рассчитывал на какую-то «щель» в тотальном контроле.
Это напомнило мне, что я всё-таки вернулся в «зону», пусть «большую», более свободную, но «зону». Политические лагеря, в отличие от уголовных, — это только пространственно обособленная, а потому и зримая, суть тоталитарного общества. Наглядное воплощение его духа. Прошло лето. В сентябре с визитом в нашу квартиру нагрянул неожиданный гость — офицер, заместитель начальника милиции Киева. Его интересовала моя безработица. Его визит был сигналом, что «соответствующее учреждение» команду уже дало, милиция же должна выполнять «грязную работу». Снова та же угроза — обвинение в «тунеядстве». Теперь я должен проходить как «рецидивист», по второй части статьи.
Иду на компромисс: звоню в КГБ, прошу принять меня в связи с проблемой трудоустройства. По телефону мне сообщили дату приёма. На разговор пошёл с Верой. Сотрудник КГБ разговаривал вежливо и не напоминал мне о моих «антисоветских» убеждениях. Его интересовало, куда я хочу устроиться. Я сказал, что в Институт философии. Через некоторое время в телефонном разговоре он сообщил, что «начальство» в Институте философии «крутит носом» и что есть возможность устроиться в Музей истории Киева. Я согласился. Через несколько дней по телефону он сообщил, что я могу явиться в Музей для оформления. Был зачислен на должность младшего научного сотрудника, с испытательным сроком: должен был «сдать экскурсию», экзамен, чтобы доказать свою способность выполнять обязанности экскурсовода.
Дорабатывая в середине февраля 2010 года этот раздел своих воспоминаний, вследствие рассекречивания Службой безопасности Украины документов, связанных с делом «БЛОК», прочитал в одном из документов (Опер. спр. ЛВС. Т.2. Арк. 325. )
Начальнику 5 Управления КГБ
полковнику тов. Черненко
По ДОН на «Слугу»
После возвращения в Киев «Слуга» занимался поисками работы, однако, будучи поставленным негласным путём в определённые условия, трудоустроиться не смог и вынужден был обратиться в органы госбезопасности.
Это обстоятельство использовалось для проведения с ним основательной беседы и последующего установления личного контакта. В соответствии с планом на первом этапе намечалось оказать на него сдерживающее влияние, не допустить возобновления им враждебной деятельности, а затем предпринять шаги к его идейному разоружению.
По согласованию с 5 Управлением КГБ УССР ему была оказана помощь с трудоустройством младшим сотрудником Музея г. Киева, в коллективе которого нормальная трудовая обстановка, а также имеются оперативные позиции для его изучения.
Начальник Управления КГБ УССР
по г. Киеву и Киевской области
генерал-лейтенант - М. В. Бандуристый. ».
* * *
После возвращения из ссылки политическая ситуация почти не отличалась от той, что наступила после арестов 72-го года. Политические репрессии продолжались. В октябре 1983-го года арестовали тяжело больного Валерия Марченко, не прошло и года до его смерти. В том же 1984 году в лагерях были доведены до смерти Олекса Тихий и Юрий Литвин. На похоронах Валерия в Гатном, как и на похоронах Антоненко-Давидовича, был всё тот же узкий круг людей. А в сентябре 1985-го года всех нас поразила весть о смерти Василя Стуса, с подозрением, что это было убийство. В любом случае, и независимо от фактических обстоятельств, режим был виновен в смертях названных и неназванных политзаключённых. Продолжалась дорога страданий и боли, выраженная мной в стихотворении «Крізь біль».
* * *
Меньше года прошло до другого трагического события — Чернобыльской катастрофы. Стоял на площадке четвёртого этажа своего дома и наблюдал, как по широкой улице двигалась нескончаемая вереница необычных, казалось, задымлённых машин. Это было нечто большее, чем обычное состояние тревоги: не означает ли это завершение истории этого поседевшего от древности города? И насколько эта катастрофа угрожает всей Украине? Можно было бы считать, что мы имеем дело только с масштабной техногенной катастрофой, которую трудно предвидеть. Если бы не очевидная безответственность коммунистической номенклатуры. Да и массового «советского» человека. В данном случае слово «массовый» я использую в социологическом значении. Замечаю это, чтобы отвести упрёки тех, кто в любых попытках развивать критическое самосознание у народа усматривает его оскорбление. Источником таких упрёков преимущественно являются определённые разновидности идеализации народа, укоренённые в романтизме и связанном с ним народничестве. Особенно же этому способствовала демагогическая коммунистическая риторика в адрес трудящихся, превращённых в массу бесправных и покорных людей. И само выражение «трудящиеся массы», помимо воли самих ораторов, указывало на этот факт.
Для популистов фраза из стихотворения Ивана Сокульского «Всё вперёд і вперёд, на мотузці так звично, суне мертвий народ із відсутнім обличчям» — это не попытка превратить верноподданного в гражданина, а клевета на «обычного советского» человека». Предостережение, что общество находится в угрожающей ситуации и что тот поезд, которым управляют незрячие, движется навстречу катастрофе, было высказано в 60-е годы. И не только в виде намёков, а даже в стиле, доступном для понимания «обычным советским человеком». Хотя бы тот же «Собор» Олеся Гончара. В своё время статья Любови Ковалевской, опубликованная в «Літературній Україні» о нарушении технологических требований при строительстве Чернобыльской АЭС, вызвала резонанс лишь в небольшом кругу интеллигенции. Афганская авантюра, приведшая к гибели тысяч юношей, не вызвала заметных протестов в покорённой Украине. Действовала инерция нечувствительности к спасительному слову. Причина — гражданская безответственность верноподданных, взращённая террором. Отсюда отказ массового человека от своей ответственности за состояние общества и политику. Неосознанный осадок в коллективной психике стал значительно более влиятельным мотивом поведения, чем то, что позже появлялось на поверхности сознания. На этой «поверхности» во времена Хрущёва и Брежнева, как свидетельствовали анекдоты о них, была только поставлена под вопрос «мудрость» вождей.
Сегодня такую безответственность или безразличие иногда обозначают словом «непритомність» (беспамятство, обморок). Хотя это слово входит в моду, ему не хватает прозрачности значения. Лучше уж говорить о «неприсутствии», если фразу «быть не при сути» использовать в значении неосознания народом своего угрожающего положения. Это означает быть «не в себе» — находиться в плену злокачественных иллюзий, опасных для личной и коллективной жизни, включая жизнь будущих поколений. Мы имеем дело не с потерей сознания (беспамятством), а с особым состоянием «ложного сознания». Выяснение унаследованных идеологем, сформированных российской коммунистической империей — тема посттоталитарных и постколониальных исследований. К ним я обращусь дальше, в воспоминаниях о 90-х. Пока же все события 80-х годов — афганскую авантюру, политические репрессии, смерти Марченко и Стуса, чернобыльскую катастрофу — воспринимал как взаимосвязанные.
Так что оснований, чтобы продолжать борьбу, было достаточно. Хотя бы в виде заявлений и протестов. Такие заявления и протесты обнародовали члены Украинской Хельсинкской группы и Украинского Хельсинкского союза (с 1988 г.) Они и сегодня являются важным источником информации о политических репрессиях того времени. Только в 1988/89 годах освободили большинство политических заключённых, хотя и далеко не всех. Но репрессии по политическим мотивам продолжались. В июле 1988-го года произошло грубое задержание общественных активистов и их вывоз за пределы Киева (что побудило Сергея Набоку и Олеся Шевченко отправить телеграмму-протест М.С. Горбачёву). Я с Верой, возвращаясь с юбилейного вечера по случаю 60-летия Дмитра Павлычко (состоялся в зале Киевского политехнического института), вместе с хором «Гомін» вышли на «Октябрьскую площадь», где стали свидетелями избиения хористов за то, что двое юношей держали жёлто-голубые флаги. Двух или трёх юношей бросили в машины и увезли под скандирование слова «фашисты» молодёжью: наверное, более сотни её было в это время на Майдане. В своём письменном свидетельстве прокурору Ленинского района г. Киева Зинькевичу М. О. я заметил: «Я против применения милиции и групп ОМОН против мирных демонстраций и митингов. А в случае, если такие демонстрации и митинги действительно могут вызвать опасные последствия, вследствие нарушения общественного порядка, действия милиции должны носить не агрессивный, а сдерживающий характер».
* * *
Выражение «большая зона» указывает на схожесть двух «зон», но между ними существовало существенное различие. В «малой зоне» ты — в кругу своих, тебе не нужно воздерживаться от высказывания своих «антисоветских» взглядов, ты чувствуешь себя свободным. В «большой зоне» ты должен проявлять осторожность, если не готов стать безработным, а потом заключённым. Это повторялось со всеми, кто продолжал борьбу с режимом. Я, конечно, не отказался от борьбы, но решил, хотя бы временно, избегать действий, которые дали бы повод режиму заключить меня в тюрьму. Этот отказ от активной оппозиции носил явные признаки компромисса.
Но поскольку я не отказался от своих «антисоветских» взглядов, то моё новое положение отличалось от прежнего подполья. Но этот компромисс был следствием не только учёта личных обстоятельств. Но и острой потребности в выяснении интеллектуальных основ национального и гражданского возрождения. Итак, думал я, пусть КГБ связывает свои цели с моим компромиссом и удовлетворяется тем, что я не размножаю самиздат и не делаю «антисоветских» заявлений. Я же должен использовать «окно», свободное от репрессий, для осуществления своих планов. Имею в виду свою работу над проблемами, которые, как я предчувствовал, станут актуальными в близком будущем. И они действительно стали таковыми по мере того, как «перестройка», начатая Горбачёвым, расширяла пространство свободы слова. К тому же с начала «перестройки» всё больше расширялся доступ к западной литературе по различным разделам философии — социальной, политической и т. д. Но всё же на уровне морального самочувствия я не имел оснований для оправдания своего компромисса. К моему счастью, благодаря политическим изменениям, мой компромисс длился не более пяти лет. После отмены в марте 1990 года шестой статьи Конституции СССР о «руководящей» роли КПСС начали формироваться украинские политические партии: открытые политические дискуссии стали обычным явлением. Поэтому в 1989-90-х годах я принимал участие в разного рода политических акциях и дискуссиях. В течение одного дня голодал вместе со студентами в «революции на граните».
* * *
Музей истории Киева. В Музее истории Киева я оказался в доброжелательной среде. Директор Музея Тамара Хоменко была требовательной в отношении дисциплины, но без каких-либо предубеждений или особых требований в отношении меня. Я чувствовал, что она тревожится: в случае моих «антисоветских» действий, КГБ попытался бы её руками репрессировать меня — выискивать «антисоветские» уклоны, выносить выговоры, чтобы, в конце концов, лишить работы. На основе своих общений был убеждён, что такая перспектива ей не могла нравиться.
Меня зачислили в отдел, которым заведовала Лариса Добрыйвечер, очень симпатичная, доброжелательная, человечная. В течение четырёх лет моей работы в Музее у меня не было с ней никаких недоразумений. Она, как мне казалось (этот вывод я сделал из её реплик), хорошо осознавала, насколько коммунистическая идеология давит на совесть историков, за исключением, разумеется, «правоверных». Вполне дружеские взаимоотношения сложились у меня также с сотрудниками отдела. Хотя всех сотрудников, как я недавно узнал в одном из разговоров с Александром Кучеруком, специально собрали на беседу, в которой предупредили, что в Музей зачислен человек, который был осуждён за «антисоветскую и националистическую пропаганду». И, соответственно, давалась установка, что они должны влиять на мои взгляды в «правильном» направлении.
Обязанности каждого сводились к проведению экскурсий в залах Музея, сбору экспонатов и осуществлению соответствующих научных исследований. Большая часть моих усилий и времени уходила на подготовку и проведение экскурсий. Всё же я мог что-то читать не только по истории Киева, но также по философии. Не сталкивался с попытками провоцировать меня на высказывания, которые бы противоречили моим убеждениям. За исключением одного случая.
Я должен был «сдать» экзаменационную экскурсию отдельно по каждому залу научному сотруднику, который специализировался на данном периоде истории Киева. После этого должен был провести общую обзорную экскурсию по всем залам Музея. Большинство экскурсионных групп, посещавших Музей, предпочитали обзорные экскурсии. Экзаменационная экскурсия — вполне оправданная практика: нужно же убедиться в способности человека проводить экскурсии, если это входит в его обязанности. Одним из способов избежать «ложной идеологии» во время проведения экскурсий в залах Музея (который, по моим наблюдениям, использовали и другие экскурсоводы), был пересказ фактов с избеганием оценок.
Упомянутый случай произошёл в зале, в котором были размещены экспонаты от начала революции (захвата большевиками власти) до конца тридцатых годов. Женщина, которая специализировалась на этом периоде, выслушав мой рассказ, не приняла мою экскурсию. Причина: избегаю осуждения участников крестьянских восстаний за независимую Украину 18-22-х годов. Речь шла даже не о нейтральном ярлыке «петлюровцы», а о «бандитах». Известно, что «бандитами» русские шовинисты (под личиной «большевиков») называли всех, кто защищался от их грабежа и физического уничтожения. Традиция, находящая своё продолжение во внутренней политике современной России (чеченцы не повстанцы, а «бандиты»). Убеждённость повстанцев, что большевики — это агрессивная, безжалостная стая, от которой исходит страшная угроза самому существованию украинского народа, получила подтверждение сразу же после поражения крестьянских восстаний.
Моя жена выписала из документов, хранящихся в Областном архиве Киевской области, данные о русских военных подразделениях, которые после большевистской агрессии против УНР были размещены по всем сёлам Киевщины. Это так называемые «заградотряды» и «продотряды». Сегодня, благодаря нашим историкам, это уже известная страница истории Украины. (Читатель сегодня может об этом прочитать в книге Владимира Сергийчука «Как нас морили голодом» — Киев, 2003). Вере удалось выписать фамилии «ответчиков». Сами списки крестьян и «ответчиков» указывают на тех, кто их составлял: украинские фамилии искажали, превращая их в русские путём добавления окончания -ов и т. п.
Во время моей учёбы в семилетней школе, по распоряжению партийного руководства (не знаю, какого уровня) была заведена традиция возить школьников Киевщины (или только Киевщины?) в Триполье на место «трипольской трагедии». До сих пор моя зрительная память хранит картину движения «полуторок» по грунтовой дороге, наполненных детьми. На сегодня, благодаря исследованиям историков, уже много чего известно о восстаниях, наибольшая интенсивность которых приходится на 1918-21 годы. Я знал о сложности повстанческого движения, обусловленной прежде всего разобщённостью отдельных повстанческих отрядов. Играла свою роль и склонность к «атаманщине». Но не это было основной причиной поражения, а отсутствие централизованной организации. Значительная доля вины за недостаток этой организации лежит прежде всего на руководстве УНР. Это тема многих обсуждений.
Как видно из нынешних исторических исследований (Романа Коваля и др.), восстания носили в большей степени стихийный характер. Из литературно-художественного осмысления этих восстаний недавно Василь Шкляр опубликовал свою романтическую повесть «Чорний ворон». Конечно, участники крестьянских восстаний 1918-22 годов и единичных более поздних, по сравнению с бойцами УПА, не были на том же уровне идейной и организационной подготовки. Слишком коротким был тот отрезок времени, когда можно было путём просвещения воспитать не только соответствующий уровень национального самосознания, но и осознание того, что в условиях смертельной угрозы нации только армия, организованная на принципах централизма, может противостоять большевистской угрозе. Ближайшим примером служил успех польской армии под руководством Пилсудского (оставляю здесь в стороне оценку политики «пацификации» в Западной Украине). В центральной и восточной Украине не успели появиться воспитательные центры наподобие «Пласта». Но идеология УПА стала уже следствием осмысления причин поражения УНР.
Но было бы тщетно объяснять этой женщине все эти обстоятельства. Она требовала лишь принципиальной негативной оценки. Как и в других подобных беседах (а с такими беседами имел и имею дело до сих пор), считаю, что убедить человека, находящегося в плену ложной идеологии, в течение одного разговора — тщетное дело. Иногда для этого недостаточно и многих разговоров. В данном случае я, видимо, имел дело именно с таким случаем, если исключить вероятность других мотивов, внешнего происхождения. Усвоенные стереотипы мышления и идеологемы имеют настолько большую силу инерции, что во многих случаях отмирают лишь со смертью своих носителей. Всё зависит от способности человека мыслить и быть честным в своих выводах. Со второго захода я всё-таки сдал экзаменационную экскурсию по этому залу, не без компромисса, конечно. В этом случае конфликт с собственной совестью был для меня особенно болезненным, так как речь шла о моих дедах и родителях. Как уже упоминал, был убеждён, что некоторые из моих односельчан, живых участников тех восстаний, скрыли от моего поколения правду о своём участии в тех восстаниях. Чтобы уберечь себя и нас от опасных последствий — возможных репрессий. Лишь рассказы женщин, в частности матери, заронили в мою память легенду о тогдашней жертвенной борьбе.
* * *
Кроме проведения экскурсий, научный сотрудник Музея должен был выполнять научные исследования. В порядке выполнения этой обязанности написал за время своего сотрудничества две статьи. Одна из них — «Ценное пополнение фондов Музея истории Киева» (сохранилась в моих бумагах, содержит информацию о том, кого я лично посетил, чтобы взять экспонаты). Со второй статьёй — о соотношении религиозного миропонимания и атеизма — случилась история. Сама проблема интересовала меня всегда — под углом зрения соотношения между религиозным и научным миропониманием (в заключении я написал небольшую статью на эту тему). Но в СССР любую статью на эту тему рассматривали как таковую, что должна хвалить атеизм и критиковать религиозные миропонимания. Я не мог писать свою статью открытым стилем: написал её в софистическом стиле, со ссылкой на произведения К. Маркса, но со скрытыми подтекстами. С акцентом на проблеме соотношения язычества (как ценности земного) и христианства. Однако мои подтексты легко обнаружили сотрудники учреждения, которое тогда занималось атеистическими исследованиями (находилось на территории Киево-Печерской лавры). Они сделали вывод, что я превозношу христианство в его диалоге с язычеством — в понимании обожествления земного. С намёком, что коммунистическая идеология является разновидностью язычества как обожествления земного — абсолютизации экономики, власти и т. п. Моя статья действительно содержала такой подтекст. Но руководство Музея пренебрегло той рецензией. Так что обошлось без «оргвыводов».
Согласился выполнять обязанности культорга. Нашлись сотрудники, способные к пению: так что мы создали хоровую группу, устраивали пение колядок в новогодние праздники и т. п. Однажды в Музее состоялось песенное выступление Нины Матвиенко. В одном из донесений «Источника» в адрес КГБ (имеющемся в третьем томе моего оперативного дела, Л. 38) сказано: «Некоторое время назад Лисовой из сотрудников Музея, численностью из 15 человек, организовал самодеятельный хор украинской песни. Репетиции хора проходят раз в неделю после рабочего дня. Исполняются только украинские народные песни». А в приписке к этому донесению среди прочего сказано: «Задание: Посетить под благовидным предлогом репетиции хора украинской песни, организованного Лисовым. Выяснить идеологическое направление используемых произведений». Как и в некоторых других донесениях, в данном случае явно преувеличена моя инициатива, поскольку не я один был инициатором создания хора. Но, как оказывается, и народные песни, с точки зрения КГБ, нужно отбирать, отсеивая идеологически враждебные.
Иногда соглашался произносить короткие речи на общих собраниях сотрудников Музея — к Новому году, Женскому дню и др. На одной из конференций археологов в Музее во время своего короткого выступления прочитал стихотворение, написанное специально для этого собрания, которое в несколько отредактированном виде звучит так:
Багато знають речі, котрі звем
ми професійним словом «експонати»,
та є таке, що їм не розказати,
вони ж бо речі, не рядки поем.
Горшки, рубила, дерев’яний плуг –
вони про тих, хто їх зробив, говорять,
та не розкажуть, як іскрився луг,
і як світилось небо в їхнім зорі.
Як не розкажуть нам про безліч доль,
які тримали поколінь склепіння,
як у змаганнях, у боріннях воль
через віки проходило творіння
того, що називаємо добром.
Це найважливіша легенда експонатів!
Її б нам зберегти і передати,
аби історія легендою жила.
* * *
Сбор экспонатов. Самая интересная часть тогдашней моей работы — сбор экспонатов. Это позволило мне навестить выдающихся или просто интересных людей, способных рассказать о малоизвестных, а то и совсем неизвестных фактах из жизни Киева. Во всех случаях, после договорённости о встрече, я приходил в квартиру, где и происходила беседа о том, какие именно вещи, фотографии, документы человек соглашался передать в Музей. Вспомню здесь лишь о некоторых встречах. Посетил Олеся Гончара. Он был сдержан в разговоре, что и неудивительно. Меня он не знал, да и вряд ли его жильё было без «жучков». Побывал в квартире жены и сына Владимира Сосюры. Впоследствии имел ещё одну встречу с Владимиром Владимировичем на территории киностудии им. Довженко. Отдельные, пусть даже осторожные высказывания сына, лишь подтвердили моё представление о драматических взаимоотношениях поэта с властью и официальной идеологией. И о страдальческой его жизни.
Познакомился с женой Бориса Гмыри Верой Августовной: она жаловалась на отсутствие должной оценки таланта её мужа и прохладное отношение властей к нему. Кто-то из сотрудников Музея объяснил это отношение тем, что гениальный певец находился на оккупированной территории. Но на самом деле решающей причиной той сдержанности было украинское самосознание певца. На популяризацию таланта выдающегося певца были нацелены вечера, которые Вера Августовна устраивала у себя в квартире, с прослушиванием записей его пения. С женой посетил один из таких вечеров. Сегодня, когда я дорабатываю этот раздел своих воспоминаний, исполнилось 40 лет со дня смерти гениального певца. Прочитав статью Татьяны Полищук «Борис великий» в газете «День» (06.08.2009), убедился, что проблема с должным чествованием певца остаётся всё ещё актуальной. Ведь антиукраинским настроениям и фобиям очень опасной кажется как раз взвешенная оценка украинской самобытной культуры. Особенно когда это сочетается с качественными образцами интеллектуального или художественного творчества. Носителям шовинистических предубеждений и фобий веселит душу сочетание национального самосознания с примитивизмом. Мы должны быть благодарны Анне Принц за тот энтузиазм, с которым она продолжила дело своей тёти.
Здесь же рядом на Крещатике имел встречу с Анатолием Добровольским, главным архитектором Киева в 1950-1955 годах. Входил в группу архитекторов, которая (вследствие проведённого всесоюзного конкурса 1944-46 годах) получила право на разработку проекта застройки разрушенного Крещатика. Это была откровенная и интересная беседа, в которой архитектор страстно защищал выбор архитектурного стиля в застройке Крещатика. Считал негативную оценку выбранного стиля несправедливой: говорил о своём желании учесть украинскую традицию барокко. Хорошо, что его дочь Татьяна Добровольская не только унаследовала профессию своего отца, но и активно защищает архитектурную эстетику, сориентированную на учёт национальной традиции.
В своём интервью (см.: http://archunion.com.ua/arch/a- 0260. htm/) она замечает: «Добровольского не только помнят, но и планомерно идет уничтожение всех его работ. При этом у каждого отдельного случая есть свой автор… Вы, наверно, знаете, что в начале 70-х гг. прошлого века резко возрос интерес к национальным традициям, и в столице по специальным проектам сооружались сугубо украинские рестораны. По проектам моего отца были построены «Курени», «Витряк», «Полтава» и др. К сожалению, сегодня от этих объектов в столице остались крупицы. Безвозвратно потеряны декоративные росписи экстерьера ресторана «Курени» народной художницы Елизаветы Мироновой. Свой вклад в это внес архитектор Г. Духовичный, который позволил себе «улучшить» этот ресторан, после чего полностью исчезла народная стилистика». С Лизой Мироновой мы (я с Верой) общались при случае в 80-х. Вера была с ней в дружеских отношениях, мы бывали в её маленькой однокомнатной квартире, где негде было ей пристроить свои картины. Она даже подарила мне эстетически безупречную вышивку для сорочки (белым по белому).
Имел встречу с Галиной Севрук в её квартире. Разговор с ней был совершенно свободным, как у давних друзей. Ведь познакомился я с ней в конце 60-х или в начале 70-х, когда она на Подоле под открытым небом, вблизи более чем скромного музея Светлицкого, устраивала выставку своей керамики (как диссидентка была лишена права выставлять свои произведения в каком-либо помещении). В квартире пани Галины увидел её картину, написанную в современном стиле. Оказалось, она интересовалась также философией современного искусства. Благодаря ей я сделал выписки из англоязычной книги «Сюрреализм» Патрика Вальдберга, интересной с точки зрения выделения различных тенденций внутри сюрреализма («эмблематики», «имажинативные натуралисты» и т. п.). И с точки зрения соотношения сознательного и бессознательного, техники «автоматизма» как способа начального устранения контроля со стороны разума в художественном творчестве, использования коллажа и тому подобного.
Из прочих посещений вспоминаю свой визит на швейную фабрику имени Смирнова-Ласточкина. Зашёл в цех. То, что увидел, поразило. Потому что шёл с представлением, что это одна из крупных фабрик. И ожидал, что её техническое оснащение должно быть по крайней мере не на примитивном уровне. А увидел длинное помещение с рядами столов, на которых стоят разнотипные швейные машинки, от самых старых до более новых, а женщины за столами вручную перекидывают ткань, таща её в проходах между столами, чтобы сделать следующую операцию. Вышел под впечатлением, что побывал в каком-то техническом Средневековье.
* * *
У Музея была своя библиотека. Я пользовался советами Александра Кучерука, который работал фотографом в Музее (его рабочее место было в помещении библиотеки). В течение четырёх лет моего сотрудничества в Музее полезным было для меня чтение журналов «Киевской старины». Из прочитанного запомнилась статья Сумцова о началах школьного образования в России: она содержала неизвестную мне информацию о начальном периоде участия Киево-Могилянской академии в становлении школьного образования в России. Кроме того, смог познакомиться с газетами, печатавшимися в Киеве в начале 20-го в. («Известия киевской думы», «Киевская мысль», «Последние новости», «Киевлянин», «Южная копейка»), читал «Записки НТШ» за 1913 год, и статьи из периодики, которые касались украинизации. Из более крупных публикаций читал «Историю Малороссии» Маркевича, «Монографии по истории западной и юго-западной России» В. Антоновича, внимательно проштудировал «Язычество древних славян» Б. А. Рыбакова. В книге Рыбакова меня интересовал способ интерпретации артефактов и знаков — как путь к реконструкции мировоззрения древних славян. Хотя он проделал значительную работу, обработал большое количество источников, но его способ интерпретации казался мне во многих случаях слишком вольным. Кроме того, с моей точки зрения, в основе его обобщений лежала идеологически нагруженная концепция, нацеленная на преувеличение славянского культурного единства за счёт недооценки различий. По инициативе П. П. Толочко в Киеве была проведена конференция с участием А. Рыбакова.
* * *
Архитектура. Запомнилась встреча сотрудников Музея с архитектором C. В. Бабушкиным (позже главным архитектором Киева). Встреча состоялась в Доме архитекторов. Собрался полный зал людей. После окончания доклада Бабушкина я публично задал ему вопрос, как он видит архитектурную самобытность Киева. Его ответ меня разочаровал, хотя напрасно было и ожидать от него чего-то другого. Сославшись на типологичность современного градостроительства, он, по сути, отрицал значимость самой проблемы. Выходило, значит, что самобытную архитектуру для нас могли творить лишь прошлые поколения. Ту, которая преимущественно и сегодня привлекает туристов. Каждый, кто имеет элементарные знания по истории искусства, в частности истории архитектуры, знает, что западные художественные стили, распространяясь в географическом пространстве, подвергались модификациям под влиянием местных культурных традиций. И как раз эти модификации интересуют как исследователей, так и туристов. Получается, что современная архитектура принципиально нацелена творить однотипную жизненную среду — без какой-либо переклички с национальной или региональной традицией.
Если рассматривать современную архитектуру под углом зрения спора между глобализацией и сохранением культурного разнообразия мира, то в архитектуре мы имеем очевидную тенденцию к глобализации. Но кому интересно наблюдать в другой стране или даже в другом городе то же самое, что он или она видят у себя дома? Конструктивно-функциональный универсализм принципиально исключает перекличку с душой того, кто живёт вот здесь на этой земле, в этом сообществе. И пока архитекторы не натешатся впечатлением, которое достигается демонстрацией технических возможностей и абстракционизмом внешних форм, они будут двигаться в русле этой инерции. Конечно же, оценивать тенденции в современной архитектуре должны прежде всего те, кто занимается профессионально архитектурной эстетикой. Но мы имеем дело с очевидными явлениями. Пока все эти бетонные джунгли, которые творятся сегодня, не потеряют заказчиков и потребителей, ситуация не изменится. Иногда достаточно всего какой-то детали, намёка — например, профиля подоконника или карниза, выбора цвета, вкрапления пусть стилизованного орнамента — чтобы «утеплить» конструкцию. Речь ведь не идёт о воспроизведении традиции в виде примитивных трафаретов, которые на самом деле делают традицию мёртвой.
Не хотел бы из этих своих тезисов делать крайние выводы, но беспокоит, какой будет эстетика той жизненной среды, в которой завтра будет жить человечество. Из того, что здания В. Городецкого в Киеве, выполненные в разных стилях, не содержат переклички с национальной традицией, не следует, конечно, что они лишены эстетической ценности. И всё-таки нужна определённая политика, которая должна заключаться в разработке рекомендованных проектов, особенно для массовой застройки сельских и городских домов. Ориентированная на учёт как общенациональных, так и региональных традиций. Эти мои замечания — лишь попытка побудить к дискуссиям, чтобы достичь возможного консенсуса в этом вопросе. То, что делается сегодня в массовой сельской застройке, поражает своим уродством. Да и в застройке городов, в частности Киева, не вижу, за отдельными исключениями (а они всё-таки есть!), даже намёка на какое-то понимание этой проблемы.
В своё время, наткнувшись у Элвина Тоффлера на утверждение, что техника и изобретательность даёт возможность творить разнообразие, назвал такое разнообразие «пёстрым однообразием». Архитектор может воплотить свой проект небоскрёба, привнеся в него какие-то собственные оригинальные модификации. Но если вы, без какого-либо ущерба для восприятия, можете перенести это здание в любую другую страну, то мы имеем дело с созданием однообразной архитектуры на всём земном пространстве. На волне глобализации сторонники пёстрого однообразия имеют сегодня несомненные успехи в распространении такой архитектуры. Создавая комфортную, но холодную жизненную среду. Среду, не нацеленную на перекличку с душой, которая всё же содержит и коллективное подсознательное.
Важна не только архитектура зданий, но и пространство между ними — улицы, бульвары, скверы, парки. Работая над материалами по истории Киева, нашёл публикации об архитектурном обществе — Комиссии о красоте Киева, основанной в 1912 году. К сожалению, не сделал (или, может, не сохранил) выписок из тех материалов, которые читал. Но 14 ноября этого, 2009 года, на телеканале ГКТРК Елена Друг, научный сотрудник Музея истории Киева, упомянула об этой Комиссии. Помню, в тех материалах наткнулся на разработку проекта застройки Киева, в основу которого было положено образование переулков, скверов и парков — в пространстве между большими улицами. Это была идея «города-сада», рассчитанная на создание уютного, зелёного пространства между основными, большими улицами, со скамейками как местами отдыха и общения. Этот замысел, видимо, служил образцом и был, по крайней мере отчасти, осуществлён. И сегодня Киев имеет много парков и скверов и является одним из самых зелёных городов в мире. Но в то же время мы сегодня являемся свидетелями безостановочного наступления на это внутреннее зелёное пространство города. Смогут ли граждане прилегающих домов, разрушая ограждения, возведённые на месте скверов и парков, защитить свой город? При полном безразличии власти и коррупционном потворстве таким застройщикам. «Безразличие» этих чиновников, разумеется, объясняется тем, что им уже успели «помазать руку».
* * *
Завершаю это своё воспоминание о моём четырёхлетнем сотрудничестве в Музее выражением возмущения по поводу «переселения» Музея, о котором уже упоминал. Мне не хватает воображения, чтобы постичь моральное состояние членов Верховного суда, которые не просто согласились на передачу в своё распоряжение Кловского дворца, а упрямо добивались этого. Наверное, лучше всего выразил оценку их действий Виталий Ковалинский в статье «Уже год прошёл, или Реквием по Музею истории Киева» («Зеркало недели» от 19-25 марта 2005 года). Адекватно оценить это действие можно лишь в контексте процесса олигархизации и связанной с ней коррупции. Она включает и захват привлекательных помещений, в которых расположены культурные и научные учреждения. Сегодня на очереди Мемориальный музей-квартира Павла Тычины (см. запрос депутата ВР Бондаренко В. Д. от 17.04.2009 на веб-сайте Верховной Рады), книжные магазины, мастерские живописцев. Мы являемся свидетелями грубой попытки захватить и ликвидировать известный книжный магазин на Крещатике «Сяйво». И т. п.
2. Учительствование
Возвращение к началу пути. Но в августе 1987 года, за месяц до окончания четырёх лет моего сотрудничества в Музее, решил уволиться. Это решение было добровольным. Две причины побудили к этому — немного более высокая зарплата, но больше значило наше желание (моё и Веры) купить дом где-нибудь вблизи Киева. С грядкой и садом, чтобы быть ближе к природе. И до сих пор Вера порывается что-то сажать перед нашим домом на Братиславской и с горечью отмечает, что «опять» сломали её саженцы. Мы ещё раньше отправлялись на поиски в ближние сёла в южном направлении, чтобы найти как можно более дешёвый дом. Много опустевших домов тогда продавалось вблизи Киева, относительно дёшево, но не для нас, с нашими зарплатами.
Совокупной нашей зарплаты кое-как хватало лишь на проживание. Мирослава поступила в медучилище, но оставила учёбу, чтобы работать санитаркой: тогда трёхлетний стаж санитарки давал льготу для поступления в мединститут, не хватало санитарок в поликлиниках и больницах. Забегая вперёд, замечу, что девушек и парней, которые рассчитывали на такую льготу, грубо обманули. Льготу ликвидировали без учёта тех, кто проработал даже все три года. Оксен, которому летом 1987 года исполнилось пятнадцать, после окончания в 1988-м девятого класса, поступил в керамическое училище в Опошне, в котором учился в течение двух лет. Питание в училище было крайне бедным. Ученики, которым родители не были в состоянии помогать, голодали. А нам трудно было свести концы с концами с нашими зарплатами.
Благодарны друзьям, которые одолжили нам необходимую сумму. Купили дом в селе Подгорцы. Перед тем я договорился, что меня примут на работу учителем в Великодмитриевскую школу, которую окончил в 1956 году: дети из Подгорцев, также из Новых и Старых Безрадичей, учились в этой школе. Но прежде чем я смог оформиться на должность учителя группы продлённого дня, пришлось пройти мытарства с получением прописки. Описание своих хождений по чиновничьим кабинетам оставляю в стороне. В конце концов обратился за советом к нашему новому ближайшему соседу — Ивану Спиридоновичу Мироненко: жил с женой в доме, рядом с купленным нами. Благодаря его помощи и удалось решить эту проблему. Ивана Спиридоновича очень беспокоило, что село пустеет. Он хотел, чтобы кто-то, желательно приличный, купил соседний дом, который пустовал много лет. Он работал бухгалтером в Великодмитриевском колхозе (с которым, после укрупнения, был объединён подгорцевский), имел знакомых, которые и смогли повлиять на принятие положительного решения в этом деле.
* * *
С южной стороны от нашего подворья в Подгорцах, как раз напротив окон, находился огород (уже без дома), на котором ещё в 19 веке была усадьба одного из Мозговых, дочь которого была моей бабушкой по материнской линии. Отсюда, как я уже упоминал, она вышла замуж в Новые Безрадичи за Ткаченко, где и родилась моя мать. Сразу за этим огородом жила (теперь уже покойная) женщина, которая была замужем за человеком из семьи Мозговых. Когда я одиноким ночевал в приобретённом нами доме, у меня было ощущение, что тени моих родственников стоят на страже моего покоя.
Дом, который мы купили, был деревянный, мазанный глиной (сделан «в закидку»), подгнил и «сел». Мы (я с женой), уже с попутной помощью ещё несовершеннолетнего Оксена, немало с ним повозились: поднимали домкратом стены, подвели кое-какой фундамент, обложили наконец кирпичом. Обложить кирпичом смогли благодаря благотворительной помощи Бориса Вашеки, мужа сестры Веры Марии, и ещё двух мужчин, его друзей из Кагарлыка. Помогали также наши новые соседи. Поскольку дом расположен в конце улицы со стороны Великих Дмитривичей, то на свою работу в школу ходил пешком. Два года работал учителем в «своей» школе. Первый год в «группе продлённого дня», второй — как преподаватель истории в старших классах. Уже разрешили, перестройка же. Вера приезжала на выходные, автобусом, который делал тогда большой круг: его маршрут пролегал через районный центр — Обухов.
* * *
Разгадывание следов. Моё учительствование в школе, которую в своё время окончил, символизирует возвращение к началу пути. Ведь во время учёбы в Великодмитриевской средней школе созрело не только осознание мной своего профессионального «призвания», но и угрозы от политической системы. И размышления о том, как эту систему можно изменить. После пятидесяти лет и через тридцать лет после окончания школы ступал по давним своим следам неуверенно, будто не веря в реальность своего возвращения. Речь идёт о возможности повторения — как воссоздания прежних душевных состояний в непрерывном потоке внутреннего опыта.
Ощущение нереальности своего возвращения сопровождало мои первые посещения Тарасовки. Тогда ещё стоял дом, в котором прошли моё детство и юность. Проходя по Верхней улице (теперь им. Пушкина), я встретился с матерью своего одноклассника по Старобезрадичской школе, Ивана Гержана. Она перекрестилась и заплакала. За этим стоял опыт заброшенности хутора в безграничные просторы империи с её тёмными чащами — сибирями и соловками. В тех просторах безвозвратно исчезал каждый объявленный «врагом». Возвращение «врага» из тёмных закоулков русской и коммунистической империй воспринималось как возвращение с «того света». И то не только в воображении моих односельчан. Вычёркивание из реальности небольшой группы тех лиц, что были названы «диссидентами», в сознании «обычных советских людей» также означало вынесение их «за скобки» реальной жизни.
В лагерях я видел повторяющиеся сновидения о полёте над землёй, которые в определённые периоды жизни видит большинство людей. Но были в них приметы, которые побуждали меня связать с ними особую символику. Считал, что они символизируют «вычёркивание» моего существования из «реального мира» тех людей, которые знали меня раньше — с детства или из более поздних общений. А потому моё опускание на землю в этих сновидениях воспринималось людьми внизу как появление призрака. Чувствовал всегда взгляд моих односельчан мне вслед. Когда после окончания средней школы я ушёл в «большой мир», уже не было ветряных мельниц с их взмахами крыльев, звавших за горизонты гор в лучах заходящего солнца. И видения тех далёких и неизмеримо более высоких вершин за горизонтами.
* * *
Великодмитриевская школа. Оказался в дружелюбной среде учителей. Относился ко мне вполне доброжелательно директор школы, Солодухин Владимир Васильевич. В группе продлённого дня мои обязанности были просты: заботиться, чтобы дети выполнили домашние задания. В воспитании не мог сравниться с искусством общения с детьми моей жены, которое наблюдал при случае. Правда, некоторые элементы из её «этнопедагогики» пробовал использовать. Пытался улучшать устную речь детей. Пришлось признать, что русификация крестьян путём распространения «суржика» в речи детей и взрослых значительно возросла по сравнению со временем моего детства. Даже некоторые из учителей не следили за своей речью, чтобы избегать «суржика». В частности, видимо, потому, что и в современных педагогических институтах на культуру устной речи будущих учителей педагоги не обращают должного внимания.
На втором году учительствования мне «доверили» преподавание истории. Перестройка: районное начальство уже осмелилось. Попытался отойти от «сухого» языка учебника, чтобы мобилизовать детское воображение. Но выработать свой стиль преподавания не успел. В учительском коллективе были энтузиасты пробуждения национального сознания, любви к украинской культуре, фольклору, языку. Самой большой из таких энтузиастов была Вера Николаевна Березюк — преподавала украинский язык и литературу. Она инициировала создание в школе ученического фольклорного коллектива. При поддержке Солодухина, был создан учительский песенный кружок, в котором я также при случае принимал участие. Вера Николаевна воспитала чудесную дочь, Таню Березюк, которая была моей ученицей в школе. Была девушкой принципиальной, с характером. Сегодня работает литературным редактором в редколлегии Энциклопедии современной Украины.
* * *
Василий Щербань. Одним из показателей успеха в своей преподавательской работе считал открытие студентом или учеником видения своей личной духовной перспективы — научно-интеллектуальной, литературной, художественной, гражданской. Считал, что достижению этой цели способствует внелекционное или внеурочное общение с таким студентом или учеником. Хотя бы на переменах, между лекциями или уроками. Двухлетнее преподавание в школе оказалось бедным на такие мои достижения. Из моих учеников инициативу к такому общению проявил Василий Щербань, родом из Подгорцев. Высокий, стройный, чернявый, по манере ходить и держаться напоминал Василя Стуса. К тому же был юношей с характером, с острым чувством справедливости. Был благородным в буквальном значении слова, словно от рождения. Ведь никто не мог сказать о влиянии окружения или семьи на формирование его характера и взглядов. Принадлежал скорее к «самородкам», которые самостоятельно достигают определённых пониманий и принципов поведения. Резкость его характера и высказываний приводили к напряжённости и даже конфликтам в его взаимоотношениях с некоторыми учителями и директором школы. Мне приходилось убеждать Владимира Васильевича, которого раздражала задиристость Василия, чтобы он не преувеличивал этих его недостатков. Говорил, что юности свойственна вызывающесть в самоутверждении. Мне показалось, что он, по крайней мере отчасти, воспринял мои аргументы.
Моё общение с Василием продолжалось также после окончания им школы, когда я уже стал сотрудником Института философии. В течение некоторого времени Василий служил в армии, но получил травму головы и был досрочно уволен. Последствия травмы были серьёзными: время от времени жаловался на головную боль. Наши разговоры преимущественно происходили во дворе нашей усадьбы на улице Садовой. У Василия был замысел реализовать себя в литературном творчестве, в художественной прозе и поэзии. Возможно, разговоры со мной подтолкнули его к слишком амбициозному замыслу — писать прозу и поэзию с философским уклоном, с включением элементов мистического символизма. Но успел написать лишь заготовки своих будущих произведений. Не только проявлением его мужества, но даже подвигом было прикрепление жёлто-голубого флага в 1990-м году на верхушке высоченной трубы над котельной в Великих Дмитривичах. Был энтузиастом создания записей песен для школы, входил в группу «Гарба», которая должна была осуществить этот замысел (с участием Марии Бурмаки и др.). Умер молодым: его жизненная судьба оказалась драматической или даже трагической. Если словом «трагедия» обозначать гибель героя, ставшую следствием благородных устремлений и обострённого чувства справедливости.
* * *
Владимир Савосько. Интересным было моё общение в Подгорцах с Владимиром Васильевичем Савосько (1950 г. р.). Его отец был военным врачом-терапевтом. Владимир учился в Нежинском педагогическом институте, на историческом факультете. Вспоминал, что в Институте были национально сознательные преподаватели, которые пытались влиять на студентов. Неудивительно, если учесть, что в этом Институте преподавали Г. Аврахов, Д. Наливайко, В. Литвинов, О. Коцюба, И. Шпаковский, О. Жовнир, П. Самородницкий. Во время травли за произведение «Собор» они в мае 1968 года направили Олесю Гончару письмо с моральной поддержкой. Григорий Аврахов работал деканом и проректором, а впоследствии подвергся преследованиям за книгу «Леся Українка. Семінарій». По словам Владимира Литвинова (ныне сотрудник Отдела истории украинской философии НАН Украины), в Институте распространяли произведение «Интернационализм или русификация?» И. Дзюбы, что стало предметом расследования КГБ. Из Нежина Аврахов вывез в Киев копию текста, который стал по крайней мере одним из тех, что пытались передать за границу.
Владимир Савосько сначала учительствовал в Подгорцевской начальной школе, потом, чтобы построить себе дом, — на кирпичном заводе в Корчеватом, заведовал клубом в Подгорцах. От отца он перенял знания о человеческом организме, был хорошим массажистом, помогал людям. Видимо, отец повлиял на становление его философии человеческой жизни в единстве с природой. Это не был натурализм, а скорее взгляд, что культура должна быть частью космического единства. Но Подгорцы уже к тому времени могли служить примером бездумного отношения к природе. Крутые склоны Подгорцев — своеобразный заповедник редких растений и трав. Но киевская городская власть устроила в межгорье, вплотную к селу, городскую свалку. Почему не было найдено другое место на соответствующем расстоянии от сёл? Негативные последствия не заставили себя ждать. Первыми среагировали птицы: перестало быть слышно сов, исчезли ласточки, сплошь воцарились вороны. И хотя село взамен получило асфальтовую дорогу, водопровод и газ, но это не восполнило самой большой потери — ухудшения экологии. То есть, изменения происходили вопреки философии, которую развивал Владимир.
Имел Владимир также литературные способности: писал стихи с философским подтекстом и юмористические рассказы. Нас (меня и Веру) удивляла его «народническая» манера общения со своими односельчанами. С нами он общался на литературном украинском языке, а в общении с односельчанами говорил на суржике. Считал, что не должен выделяться среди них своей речью: они должны воспринимать его как «своего». Мы (больше Вера, чем я) убеждали его, что интеллигент должен быть носителем культуры, потому что это его предназначение. Но он не соглашался и не изменил своего «народнического» стиля. Умер неожиданно — в 2002 г., накануне своего дня рождения.
* * *
Мироненко Наталья Ефимовна (девичья фамилия — Остапенко). В 2010-м году, когда я завершаю писать эти воспоминания, Наталья Ефимовна, которой исполнилось 85 лет, всё ещё сохраняет хорошую память и ещё работает на огороде, только слух немного ослабел. Даже теперь сохранились следы её девичьей и женской красоты. Но для меня особенно важна манера её поведения, свойственная тем сельским женщинам и мужчинам, которые в моём воображении воплощают мудрость как составляющую традиционной сельской культуры — сдержанность, рассудительность, тактичность. И то, что эти черты смогли выжить в жестоком 20-м веке, я воспринимаю как чудо. Дед Натальи (отец отца) был хорошим хозяином, имел полевые земли, ветряную мельницу, гумно. Добровольно всё отдал в колхоз, а потому не был раскулачен. Отец и мать работали в колхозе. В 1933-м году её три сестры, брат и отец умерли от голода, она осталась одна с матерью. Шестилетние сёстры-близнецы, Химка и Надейка, ходили в начальные классы подгорцевской школы, там давали ученикам какую-то бедную похлёбку, так что, посетив днём школу, ночью обе умерли. Умерла и совсем маленькая сестрёнка Парасочка, ей было около трёх годиков. Умер также двенадцатилетний брат-инвалид Сеня. Отец же дожил до нового урожая, но умер уже среди лета, заболев дизентерией. Из рассказов я знал, что довольно много людей умерло в 33-м при выходе из голодовки. Когда я спросил Наталью Ефимовну недавно, в связи с составлением списков умерших от голодомора 1932-33 годов, спрашивал ли её кто-нибудь об этих смертях её родных, она ответила — нет. Представляю себе, если бы партийные органы дали в СССР распоряжение сельсоветам, или хотя бы учителям школ, собрать какие-то сведения, то они бы это сделали с соответствующим «энтузиазмом». Из страха перед наказанием. А вот совесть — вещь хрупкая.
Наталья до 1933-го года окончила пять классов, но с началом голодовки оставила школу, пошла на «займанку» — пасти корову одной семьи за какую-то плату (молоком и т. п.). Ведь должны были платить налоги: денежный, в частности, так называемое «самообложение», и натуральный — мясо, яйца, молоко (у кого была корова). Из этих налогов мать Натальи не сдавала только молоко, так как не было коровы.
Мать Натальи работала в колхозе. Тех, кто выходил на работу в подгорцевский колхоз, не кормили горячим блюдом, а давали на день по двести граммов хлеба. Преимущественно родители тот хлеб делили, чтобы что-то принести детям. Но мать не могла выплатить все налоги. И однажды, когда она была на работе в колхозе, а Наталья на «займанке», из колхоза прислали людей, которые сняли металлическую кровлю с дома и увезли её в колхоз — в качестве возмещения задолженного налога. Но и после снятия кровли налог продолжали требовать. Снятие металлической кровли было общей практикой, за исключением отдельных сёл, что, видимо, зависело от местного начальства. Но стоит иметь в виду, что самое элементарное проявление сочувствия к крестьянам подвергало председателей колхоза обвинению в симуляции и «саботаже» — то есть, в подрывной деятельности. Это касалось всей властной вертикали в «союзных республиках». Итак, пришлось срывать кровлю с сарая и покрывать дом соломой. Обрешётку и стропила сарая мать Натальи пилила ножовкой на короткие поленья, колола и носила в Киев продавать. Носила продавать в Киев не только дрова, но и уголь (для самоваров).
Наталью Ефимовну немцы забрали в Германию. В Германии на распределении вывезенных из Украины её выбрал сын хозяина-фермера, который воевал на западном фронте. Кроме сына, вели хозяйство вдвоём: хозяйка работала наравне с Натальей Ефимовной. У хозяев был ребёнок, сын около трёх лет. Немецкая семья относилась к Наталье как к равной, питались за одним столом. Когда Наталья Ефимовна заболела, то хозяйка позаботилась, чтобы её поместили в больницу. Так что Наталья Ефимовна хранит добрую память об этой немецкой семье. Когда приближались советские войска, хозяйка убеждала Наталью Ефимовну, чтобы та не возвращалась в СССР, а ехала с ними в Западную Германию. Но она не согласилась. Маленький сын хозяйки настолько привязался к Наталье Ефимовне, что не хотел её отпускать. Лишь в 90-е годы семья сына смогла письменно связаться с Натальей Ефимовной.
Тех, кто не согласился остаться на Западе, американское командование держало в лагерях, в которых под их надзором немцы обеспечивали нормальные бытовые условия, питание и т. д. С наступлением советских войск их передали в распоряжение советской оккупационной администрации. Но в советских лагерях их быт был «организован» так, что они голодали. Вынуждены были прокрадываться за пределы лагеря, чтобы найти какую-нибудь еду в оставленных фермерских усадьбах: выискивали в домах оставленные консервы, выкапывали на огородах прошлогоднюю картошку. Солдаты из «советской» армии относились к «остарбайтерам» с презрением, выкрикивали оскорбительные, непристойные слова в их адрес. Замечу от себя, что это презрение «освободителей», видимо, можно объяснить как злорадную месть за то, что «могучая и непобедимая» не смогла защитить своих сограждан от насильственного вывоза. Или как попытку ещё раз убедить, во что их ставит их «родная» власть, раз они так плохо усвоили науку 30-х, что согласились вернуться в СССР. На самом деле вывезенные помнили ту науку, но родной край был дороже. Хотя и хорошо знали, что их ждёт дома.
* * *
Как и работа в Музее, учительствование оставляло мало времени на занятия философией. К тому же, вдвоём с Верой, мы должны были тратить немало времени на ремонт нашего дома. Всё же старался урывать время для своих интеллектуальных занятий. Начал работу над текстом по аналитической философии. На русском языке, так как надеялся, что в России лучшие шансы опубликовать такого рода текст. Но для написания текста, которым я был бы доволен, у меня не было тогда доступа к западным публикациям на эту тему. А потому, в конце концов, оставил работу незавершённой. В конце 80-х годов переводил произведение К. Поппера «Нищета историцизма», что позволило мне в 1990 году опубликовать фрагменты перевода в журнале «Філософська думка» (№9). Позже, в 1994-м году, удалось опубликовать полный перевод этого произведения Поппера. Считал знакомство с этим текстом важным для критики понятия «исторических закономерностей», унаследованного от исторического материализма.
* * *
Восстановление учёной степени. В сентябре 1986 года направил письмо на имя М. С. Горбачёва с просьбой помочь мне в восстановлении учёной степени. В ноябре пришёл ответ: «По поручению ЦК КПСС Ваше письмо рассмотрено в ВАК СССР. Сообщаю, что согласно п. 67 «Инструкции о порядке присуждения учёных степеней и присвоения учёных званий» пленум ВАК при Минвузе СССР 5 апреля 1974 года протокол №26 §107 лишил Вас учёной степени кандидата философских наук за совершение действий, несовместимых со званием советского учёного. Начальник государственной инспекции ВАК СССР Г. М. Несмеянова». Был вынужден в ответ написать возмущённое письмо в адрес Несмеяновой. В феврале 1987 года заместитель председателя ВАК направил письмо на имя директора Музея Тамары Хоменко, что дело о восстановлении учёной степени должно рассматриваться Учёным советом Музея истории Киева. Но потом рассмотрение этого дела было переадресовано на Учёный совет Института философии. Состоялось заседание Учёного совета Института философии, на котором было принято решение в мою пользу. С поддержкой этого решения на заседании Учёного совета выступил директор Великодмитриевской СШ Солодухин. В конце концов, 12 мая 1989 года Президиум ВАК принял постановление о восстановлении мне учёной степени. Съездил в Москву и получил восстановленный Аттестат кандидата философских наук. Поскольку я надеялся на восстановление меня на должности научного сотрудника в Институте философии, то в августе 1989 года уволился с должности учителя в школе.
Подал заявление директору Института философии В. Шинкаруку с просьбой восстановить меня на должности научного сотрудника Отдела истории украинской философии, которым заведовала Валерия Ничик. Важна была её поддержка моего восстановления. Был зачислен в Институт философии с соблюдением всех формальных процедур. Был объявлен конкурс, а приказ директора о зачислении меня на названную должность от 25 января 1990 г. основывался на заключении конкурсной комиссии. Появилась надежда — наконец-то! Наконец-то, может, у меня будут хотя бы относительно удовлетворительные жизненные обстоятельства для моей интеллектуальной работы. А не буду ею заниматься, преодолевая тиски жизненных обстоятельств своим упрямством. Как и большинство украинских интеллектуалов в 20 в. И не буду думать, как защитить суверенность своей мысли от оскаленных клыков крайне агрессивной примитивной идеологии.
* * *
3. Идеология перестройки. Хельсинки-90
Идеология перестройки. «Перестройка», начатая выступлением М. Горбачёва на 27-м съезде КПСС в феврале 1986-го года, запустила процесс политических изменений: обсуждение политических проблем с каждым годом становилось свободнее. Хотя я высоко оцениваю мужество М. Горбачёва в начинании «перестройки», но, судя по всему, свою задачу он видел в том, чтобы «процесс пошёл» — без представления о конечном состоянии стабилизации. Видимо, с этим связан недостаток решительности и последовательности, половинчатость реформ, неожиданные возвраты к старым способам действия и т. п. Он, конечно, вынужден был считаться со своим окружением. И этим в большой степени объясняется недостаток решительности и последовательности.
Мои первые попытки принять участие в дискуссиях, касавшихся идеологии перестройки, относятся ко времени моего учительствования. В центре моего внимания оказалось соотношение между правами человека и правами наций на политическое самоопределение. И, соответственно, выяснение принципов, которые должны лежать в основе реформирования межнациональных взаимоотношений в СССР. Рассчитывал, что смогу опубликовать статьи в российских журналах: наиболее либеральными были «Новый мир» и «Огонёк», редактором которого был тогда Виталий Коротич. В качестве примера словесной эквилибристики взял статью Александра Проханова, опубликованную в газете «Литературная Россия» под названием «Так понимаю!» (1987, №14, за 04.04). Статью написал под названием «Идея и реальность», отослал в журнал «Новый мир» (не была опубликована). Возможно, такой отказ был и оправдан, учитывая одиозность личности Проханова. Но для меня его способ изложения был лишь поводом.
Вторую статью под названием «История и права наций» написал как отклик на статью Александра Осипова «Турецкий вопрос» («Свободное слово», №19, за 25.07.1989). Свой критический отклик тогда не отослал автору, но имел дискуссию с Осиповым на одной из правозащитных конференций в Литве в 1990 году. Теперь у меня не было возможности сверить, насколько мои оценки тезисов Осипова, высказанные в названной статье, являются полностью справедливыми. Но бесспорно то, что в то время подавляющее большинство российских и украинских либерал-демократов стремились представлять свою позицию как критическую и научную. В противовес позиции национал-демократов, которую они преимущественно оценивали как основанную на исторических мифах. Термин «национал-демократы» условен и непривычен для западного словоупотребления. Условен потому, что введение этого выражения было вынужденным, чтобы дистанцироваться от индивидуалистического либерализма, который сводил демократию лишь к утверждению прав человека. Это не свойственно западным демократам, которые ценность прав человека сочетают с ценностью нации, её культурной самобытности и политической суверенности. Аналогию имеем в использовании выражения «национал-коммунизм», введённого, чтобы отличать его от русского коммунизма, который сместил значение термина «интернационализм» в сторону русского имперского национализма.
* * *
Привожу здесь отрывки из этого текста скорее для представления своих собственных позиций по национальному вопросу в конце 80-х (пропуски обозначены знаком [...]).
«Уважаемый г-н Осипов, исходные посылки, избранные Вами при обсуждении национальных отношений в СССР — а именно, объективность, логика, правовой подход — вселяют мне надежду достичь взаимопонимания. Однако некоторые Ваши общие замечания и рассуждения напоминают мне очень знакомый способ мышления или даже «идеологию» в отрицательном смысле этого слова. Вы говорите о неправомерности такого использования исторических доводов, которые строятся на мифах, на препарировании истории в угоду интересам, предубеждениям и т. п. Согласен. Утверждая, что представители украинского национального движения используют отрицание общности украинского и русского народов для поддержки идеи независимости Украины, Вы приводите это как пример мифологического мышления. Не будем брать отдельные личности и отдельные высказывания, т. е. какие-то крайности. Ведь спор о названной общности и о мере этой общности уже имеет свою довольно длительную историю и уже известный контекст обсуждения. Что если в ответ на Ваше вышеназванное утверждение я скажу, что аргумент «общности» Киевской Руси используется только для доказательства отсутствия историко-этнических корней украинского народа. Вы скажете, что именно эта заданность исторического исследования и метафора «исторических корней» и является источником отходов от истины. Но если Вашей точке зрения (или точке зрения Лихачева) кто-нибудь противопоставит представление о том, что Киевская Русь была прежде всего политическим образованием, включающим разнообразные племена с различными обычаями, религиями и даже языками? Вы, возможно, будете утверждать, что это миф, или в другой Вашей версии — дилетантство и внеисторичность. Но если кто-нибудь скажет, что Ваше представление о единой Руси — это миф, дилетантство и внеисторичность. Допустим на Вашей стороне будет столько же доказательств, сколько и на стороне Вашего оппонента — кто вас рассудит? Или Вам остается обвинять друг друга одними и теми же словами?
Вы можете сказать: извольте, я хотел только сказать, что нельзя использовать «историю как политику, опрокинутую в прошлое» (для решения, в частности, вопроса об «исторических правах наций»). Да, в каких-то крайних случаях, когда в угоду политическим целям утверждается нечто вопреки историческим фактам, это недопустимо. Однако, возможность разнообразия исторических подходов (различных истолкований фактов) это нечто не только распространенное, но даже неизбежное. В противном случае, отказавшись от «метафор», «мифов», «идей» и т. д., Вы придете к позитивистской версии истории как описанию фактов, и тем самым окажетесь в плену очередного мифа — мифа «позитивной истории». Впрочем, что касается невозможности изучать факты без предварительной идеи, исходя только из фактов, лучше почитать, скажем, у Карла Поппера. Что же касается методов истории и роли интерпретации в истории, то полезной может оказаться вышедшая в русском переводе книга Коллингвуда «Идея истории». Существует напряжение между фактами и их истолкованием: некоторые истолкования могут быть отброшены на основании фактов. Действительно, поиски исторических предпосылок некоторых явлений приводили даже крупных историков (не дилетантов!) к ошибочным истолкованиям. Но, в общем случае, соотношение современного сознания и истории, современных институтов — социальных, политических и т.д. — и прошлого, вопрос более сложный. История сегодня не завершена (и не может быть завершена в будущем, если не понимать слово «история» в особенном смысле). Она беспрерывный процесс смыслополагания: т. е. мы не должны сводить историю к «объективному процессу». То, как мы осознаем себя в современности и какими желаем видеть себя в будущем, определяют наше понимание прошлого.
Почему исторический аргумент используется для оправдания «исторических прав наций»? Потому что речь идет о том, является ли данный народ нацией и если так, наверное, должна быть история возникновения нации как общности — т. е. этногенез и нациогенез. Ваше высказывание о Переяславском акте можно понять так, что этот акт естественное следствие общности русского и украинского народов (ведь в Ваших словах явно звучит ирония по поводу другой оценки этого акта). Да, какая-то общность в этом случае играла определенную роль, скажем, православие. Однако почитайте литературу, оценивающую этот акт иначе (например, работу Брайчевского «Воссоединение или присоединение?»), возьмите исторические «официальные» материалы 20–30-х годов, где это «воссоединение» оценивается как результат сговора верхушки русского и украинского государств за счет «низов». Хотя последняя оценка несет на себе печать «классового подхода», но «классовый подход», при всей своей односторонности, одна из возможных интерпретаций истории.
На какие из современных отличий должны указать белорусы, чтобы подтвердить свои права считаться отдельной нацией? Естественно, они будут ссылаться на историю, противопоставляя «мифу» о принадлежности к единой (с русскими) нации свой «миф» о своей самобытности, подтверждая это исторически. Нация […] только отчасти нечто «выросшее», в остальном же она нечто созданное, и роль «идеи», и даже «мифа», в процессе создания нации общеизвестна. Конечно, когда идеология национализма (кстати, сыгравшая ведущую роль в становлении всех европейских наций и национальных государств) приводит к фантастическим версиям истории, эти версии должны подвергаться критике. Но когда историк пытается отобрать и истолковать исторические факты в свете идеи создания некоторых исторических предпосылок для позднейшего становления нации, он может этого достичь путем вполне корректных (с научной точки зрения) истолкований. Это о «мифологизации истории».
Допустим, Ваши привходящие историософские высказывания имеют в виду только вполне конкретные «мифы» (о панисламском или сионистском заговоре или, например, мифологизацию истории для оправдания права на язык и территорию). Тогда можно было бы сказать, что Вы неосторожны в своих высказываниях, или, может быть вследствие публицистичности стиля, не ставили перед собой цели проделать более строгие смысловые разграничения. Согласен с Вами, что ссылка на историю для решения языковых и территориальных споров — негодный метод: он часто приводит к противоположным и примерно равносильным версиям. Однако здесь, сознательно или бессознательно, Вы допускаете преувеличение. Если Вы изучаете историю Левобережной Украины и устанавливаете, что население украинских городов увеличивалось за счет русского населения вследствие определенной политики, то Вы должны оценивать прежде всего справедливость или несправедливость этой политики. Так как это была имперская политика России в отношении к Украине, то Вы непременно осудите ее в меру того, как рассматриваете историю под углом зрения современных Ваших ценностных ориентаций. Да, Вы можете сказать: таково было прошлое, оно вне справедливого суда. Но эта позиция опасна перерастанием в современность. Рассматривая языковые процессы в Прибалтике, при ценностном и принципиальном подходе, Вы признаете, что положение, при котором национальные меньшинства разговаривают между собой и с «коренным народом» на русском языке, является тоже следствием известной Вам политики. И именно оккупация этих государств привела к такому изменению этнического состава населения, при котором коренным этносам в Прибалтике (кроме Литвы) угрожает исчезновение. Или для Вас вопрос о выживании этносов вне пределов рациональных подходов? Но даже если для кого-то эта проблема не является проблемой, она остается таковой для исчезающих этносов. И эти вопросы необходимо обсуждать честно и открыто.
Вы, может быть, скажете: не начинать же исправлять последствия исторической несправедливости путем нарушения прав личности. Вы за правовой подход, в частности за приоритет прав личности над всеми другими правами. Хочу в связи с этим поставить Вам вопрос: считаете ли Вы, что личные свободы — это единственная ценность, которую стоит защищать? Я, например, не считаю, что защита этой ценности автоматически определяет сохранение культурного разнообразия мира и даже сохранение здоровой жизненной среды. Для меня, например, разумный социальный и международный порядок (который предполагает необходимое пространство личных свобод) тоже ценность, достойная поддержки.
Вы уверены, что современные французы когда-нибудь позволят такие размеры иммиграции в свою страну, чтобы это угрожало существованию французского языка? Вы, может быть, скажете, что это мало относится к ситуации в Прибалтике: то, что случилось в прошлом, не подлежит исправлению. Иначе, это будет нарушением прав человека и, в частности, прав национальных меньшинств. Однако не кажется ли Вам, что Вы таким образом можете принять опасную, с точки зрения правовых последствий, позицию: оправдывать любую уже совершенную агрессию только потому, что она стала достоянием истории. Многие русские демократы склонны не замечать того обстоятельства, что национальные меньшинства, образующие «интерфронты», сами продукт определенной политики и идеологии. Их нетерпимость к национальному возрождению и в частности возрождению национального языка и национальной государственности можно понять только как сознание, сформированное определенной политикой и идеологией. Эта нетерпимость, при большой численности «русскоязычного населения», не оставляет этносам, которые оказались жертвами колонизации, шанса на выживание. Но я не читал и не слышал о призывах русских демократов к «интерфронтам» понять историческую несправедливость и с пониманием отнестись к желанию названных этносов выжить. Конечно, люди как продукты, может быть, инструменты или жертвы определенной политики и идеологии, достойны сочувствия: их проблемы, связанные с их современным положением должны решаться не с позиций нового вида шовинизма (этнократизма). Но такого же сочувствия достойны и этносы, ставшие жертвой той же политики. В этой ситуации невозможно принимать безоговорочно только сторону национальных меньшинств, обвиняя «националистов».
Наконец, я вначале этого письма указал на допущенные Вами отступления от собственных предпосылок «научности», «объективности» и т. д. Я имел в виду, что Вы употребляете характеристики национальных движений без предварительного ознакомления с программами и конкретными действиями народных фронтов и движений. Иначе Вы бы не брали в качестве примера лозунг «Украина для украинцев», который не пользуется поддержкой ни Руха, ни наиболее влиятельных партий в Украине. Если же Вы считаете, что дело не в декларациях, а в конкретных действиях, то в таком случае необходимо ссылаться на факты. И не на отдельные факты, а обобщить такую совокупность фактов, которая действительно даёт основания для обобщений. Я бы мог навести много примеров конкретных действий Руха и других общественных организаций и партий в Украине, направленных на осуществление культурно-национальной автономии в Украине (создание культурных обществ национальных меньшинств и т.п.). Но я не слышал, чтобы — пусть не «Память» но Демократический союз — способствовал возрождению культурно-национальной автономии украинцев, скажем в Москве или Ленинграде. И если Вы говорите об угрозе правам человека, исходящей от грузинского, эстонского, латышского или русского национализма (типа «Памяти»), то в каждом случае, мне кажется, необходим вполне конкретный подход, в частности, исторически конкретный. Декларативные обвинения и априорное объединение всех национальных движений в единый образ «национализма», как врага прав человека, бесплодный. Та общая позиция, на которой возможно объединение демократического и правозащитного движения в СССР, сводится к реализации общеизвестной политической и правовой модели: за каждой нацией (в смысле нации-этноса), признается право на создание «своего» национального государства.
Когда на юге Украины или в Донбассе говорят об угрозе украинизации (это при условии, что сторонники «прав человека» спокойно принимают последствия русификации большего числа украинцев, проживающих в этих областях), то в данном случае как раз и действуют названные стереотипы. И нравственная обязанность русских демократов состоит не в тайной или открытой солидаризации с такой враждебностью к украинскому языку (или солидарностью с сепаратизмом), а в призыве поддержать возрождение украинской культуры.»
Хочу подчеркнуть, что в этой моей рецензии речь идёт, разумеется, о позиции А. Осипова в 1989 г. Я здесь оставляю без рассмотрения его публикации 90-х — нач. XXI в. (Читатель может получить сведения в Интернете по адресу http://www.cisr.ru/Osipov.html/) со списком важнейших публикаций). Для выяснения его современного понимания межэтнических отношений в России и путей предотвращения межэтнических конфликтов Читатель может обратиться к его публикациям XXI века (например, статье «Национальное равноправие в России // Россия в постсоциалистическом мире. — М., 2006).
* * *
Национальные меньшинства. Из цитируемого текста видно, что термин «этнос» я использую как синоним выражения этнос-нация, которую немецкий историк Фридрих Майнеке обозначал термином «культурная нация» (Kulturnation). В современном словоупотреблении преимущественно вместо термина «этнос-нация» используют термин «этническая нация». Этническая нация возникает в результате слияния предыдущих этнических общностей (этносов) в большую культурную целостность. В большой степени она является модерным образованием, возникшим в результате сочетания действия культурных и политических факторов. Этнические нации являются творением прежде всего европейских культурных и политических обстоятельств. Их возникновение связано с созданием общего литературного языка, изобретением книгопечатания, влиянием образования и т.п. Важную роль в возникновении этнических наций сыграли также государства, за исключением их формирования в безгосударственных нациях или с временным существованием государств (чехи, поляки, норвежцы, украинцы, белорусы и т.д.). И именно благодаря возникновению этнических наций в Европе стало возможным формирование политических наций на основе этнического ядра, которым была определённая этническая нация.
В упомянутой рецензии на статью Осипова я повторял позицию, которой придерживался в 1990-91 годах о праве национальных меньшинств, проживающих компактно, на территориальную автономию. Этот тезис неоправдан и даже деструктивен, если понимать его как общий правовой принцип, как международную правовую норму. А не как практику, осуществляемую на уровне национального законодательства, в которой учитывают целесообразность такой автономии, принимая во внимание конкретные обстоятельства. Федеративная политическая структура в Германии стала следствием не столько культурных (диалектных) различий, сколько особенностей политической истории. Особенности политической истории Швейцарии (преобразование конфедерации в федерацию) сделали возможным мирное сосуществование территориально локализованных общин, которые пользуются немецким, французским, итальянским и ретороманским языками. Как свидетельствует практика, в демократических государствах предоставление территориальной автономии национальным меньшинствам, проживающим компактно, является скорее исключением, чем правилом. Как это имеет место в случае Квебека (если франкофонов в нём считать национальным меньшинством по отношению к англофонам Канады). Утверждать такое право как норму международного права означает способствовать появлению многих автономий или даже суверенных государств, провозглашённых каждой, пусть даже небольшой территорией, где численно преобладает определённая этническая общность. Независимо от того, какие признаки она берёт за основу самоидентификации — религиозные, языковые, обычаи и особенности быта.
Позже, в 90-е годы, я исправил эту свою позицию. Ибо стал отличать иммигрантские национальные меньшинства, образованные выходцами из этнических наций, историческая родина которых находится за пределами Украины, от таких «национальных меньшинств» как крымские татары в Украине. Конечно же, крымских татар, как и русских, проживающих в Крыму, можно считать национальным меньшинством по отношению к украинцам в украинском государстве. Но если даже так, то не стоит забывать, что крымские татары — особенное национальное меньшинство. Ведь они в Украине являются единственной этнической нацией, которая была выселена из Крыма — территории, являющейся их исторической родиной. И отсюда должно следовать признание их особого статуса. Ибо они принципиально отличаются от этнических русских в Украине, в частности в Крыму. Ведь русские в Крыму являются выходцами из русской этнической нации, историческая родина которых находится за пределами Украины. Считал, да и сегодня считаю, что — по мере возвращения и компактного поселения крымских татар в Крыму — нужна готовность украинцев признать не только их право на культурно-национальную, но и на политическую автономию. Вплоть до признания, в перспективе, права на создание независимого государства. Это соответствует праву любой этнической нации на самоопределение. Забегая вперёд, скажу, что эта моя позиция встретила неприятие со стороны некоторых украинцев. Мне запомнился спор с молодыми людьми в руководящем ядре Руха в первой половине 90-х годов (в помещении, тогда расположенном на Площади победы). Это меня удивило, поскольку считал, как и сегодня считаю, что отрицание украинцами признания крымских татар отдельной этнической нацией, имеющей право на политическое самоопределение, является проявлением украинского шовинизма.
Признание права наций на самоопределение преимущественно не приводит к межэтническим конфликтам, если бывшие более мелкие этнические общности в процессе исторического развития слились в большую этнокультурную целостность. Значительно более сложную ситуацию имеем в случае, когда в пределах государства проживает много мелких этнических групп или общин, образованных на основе религиозных или родоплеменных самоидентификаций, как это мы имеем во многих государствах Азии и Африки. Энтони Смит в книге «Национальная идентичность» указывает на эти обстоятельства как на препятствие на пути формирования наций на основе этнического ядра. Как быть, когда любая группа, имеющая определённые культурные или религиозные отличия, будет считать себя нацией и добиваться политического самоопределения? Явление трайбализма является примером, когда нацию, которая только формируется, можно разорвать на мелкие общины. В таком случае ссылка на право наций на политическое самоопределение становится побуждением для этнических групп требовать не только автономии, но и государственной независимости. А затем сочетание социально-экономических и этнических факторов приводит к межэтническим конфликтам.
Сегодня моему Читателю доступно в украинском переводе фундаментальное исследование Дональда Горовица «Межэтнические конфликты» (Харьков, «Каравелла», 2006). Достаточно прочитать хотя бы три первые страницы первого раздела этого исследования, чтобы понять, почему лозунг «национального самоопределения» сыграл определённую роль в провокации межэтнических конфликтов. Горовиц прямо указывает на это: «Периодически всплывая на поверхность, этнические вопросы подогреваются значительным распространением доктрины «национального самоопределения». Но украинцы, по крайней мере на рубеже 19–20 веков, уже осознавали себя как этническую нацию. А на время распада СССР в пределах той территории, границы которой были определены для УССР, почти все национальные меньшинства были иммигрантскими, а не «коренными» этническими группами. Они принадлежали к этническим нациям, историческая родина которых (за исключением крымских татар) находилась за пределами Украины. Это важнее давности проживания этих людей. Ведь понятие исторической родины прямо не связано с давностью проживания, а является следствием международного признания определённой территории исторической родиной определённой этнической нации. Такое признание является важным средством международного упорядочения.
На самом деле вероятность обретения влияния какими-то радикальными формами национализма в Украине, даже после признания её независимым государством, была близка к нулю. Ибо самым влиятельным национализмом в Украине был либеральный национализм шестидесятников. Он был представлен самым влиятельным политиком из бывших диссидентов — Черноволом. Но он, как кандидат на пост Президента Украины в 1991 году, собрал в свою пользу меньше голосов, чем Кравчук. Фактически самой большой угрозой в таких странах как Украина и Белоруссия был слишком низкий уровень национального сознания. Именно это подрывало и до сих пор подрывает возможность достичь минимально необходимого уровня национального сознания и, соответственно, единства. А следовательно, и способности нации контролировать власть, блокируя технологии «разделяй и властвуй». Это обрекает Украину не только во внешней, но и во внутренней политике на большую степень неопределённости, так называемой «многовекторности».
Серьёзным геополитическим обстоятельством стала неспособность российской политической элиты после распада СССР выработать качественно новую политику в отношении к нациям. Политику, которая основывалась бы на признании того, что время империй прошло. Ибо следствием такого признания была бы новая этика, заключающаяся в осуждении прежней ориентации на уничтожение нерусских наций. И, соответственно, искупление имперских грехов, которое заключалось бы в поддержке возрождения подорванных культур разных народов, входивших в СССР. Вместо этого возобладала привязанность к унаследованной имперской парадигме — ставка на силу и хитрые технологии, чтобы заблокировать жизненную перспективу нерусских наций. Итак, вместо того, чтобы обратиться к этническим русским, ставшим национальными меньшинствами в новых независимых государствах, с призывом поддержать возрождение национальных культур, была сделана ставка на поддержку так называемых «интерфронтов».
И сегодня внедрение «минимально необходимого национального единства» как необходимой предпосылки эффективного демократического самоуправления, часто наталкивается на обвинения во внедрении культурного однообразия. На самом же деле речь идёт о таком единстве разнообразия, которое не ориентировано на лишение прав и возможностей национальных меньшинств сохранять свою культурную самобытность. Оно не означает также ориентации на уничтожение диалектных различий в пределах украинской этнической нации. Когда речь идёт, скажем, об утверждении украинского языка как языка общегражданского общения, то в данном случае имеется в виду ориентация представителей национальных меньшинств на двуязычие. Каждый гражданин Украины, независимо от этнического происхождения, должен поддерживать украинский язык как язык общегражданского общения, но с представителями своего национального меньшинства может пользоваться языком национального меньшинства. И основывать школы и другие культурные или религиозные учреждения для нужд данного национального меньшинства. Это в такой же степени касается гуцула, лемка и других общин, представляющих диалектные различия в пределах украинской нации. Примером здесь может служить культурная политика современной ФРГ.
Понятие минимально необходимой предпосылки национального единства ориентировано на обеспечение определённых элементов единства при сохранении культурного разнообразия. Кроме языка общегражданского общения (государственного), преимущественно к таким элементам включают знание элементарного курса истории Украины и представление об особенностях её культуры, уважение к государственной символике и чувство патриотизма — установку на защиту национальных интересов и независимости украинского государства. В поддержке такого минимально необходимого единства должен быть заинтересован любой представитель национальных меньшинств, исходя из учёта своих собственных жизненных интересов. И прежде всего основное направление убеждения должно заключаться в умении показать, что осуществление только что очерченной стратегии соответствует экономическим и политическим интересам национальных меньшинств. Скажем, русское национальное меньшинство в таком случае будет способно заблокировать попытки использовать себя как средство осуществления неоимперской политики современной РФ. И стать силой, утверждающей дружественные, а не враждебные отношения с этническими украинцами. С другой стороны, утверждение самобытной культуры и языка имеет своим следствием и определённые экономические достижения (думаю, это нечто слишком простое, чтобы это здесь объяснять).
В конце 80-х годов запугивание угрозой радикальных разновидностей национализма, которые бы провоцировали нетерпимость к национальным меньшинствам, заставило Украинский Хельсинкский союз обнародовать разного рода обращения к национальным меньшинствам. Важнейшим в этом отношении было обнародование «Обращение к национальным меньшинствам, проживающим на Украине» (опубликовано в издании украинского вестника «УВ-Экспресс №9 – Киев-Львов, 1988).
* * *
Объективность и национальное толкование истории. Важнейшей проблемой, лишь вскользь обозначенной в моём критическом отзыве на статью Осипова, является проблема соотношения между объективностью исторического исследования и интерпретацией, осмыслением истории. Термином «осмысление» обозначаю не столько причинное объяснение исторических событий, а прежде всего их оценку с точки зрения возможных исторических тенденций и перспектив. Речь идёт о связанности ретроспективы и перспективы в историческом исследовании. Хабермас в своей критике попыток Фуко свести историческое исследование к микродискурсам, совершенно справедливо заметил, что такой метод исторического исследования неизбежно ведёт к хаотическому нагромождению событий, а следовательно исторические события и процессы становятся лишёнными смысла. Ибо историк в таком случае пренебрегает перспективой — последствиями, к которым приводят определённые действия и события. Если историк не имеет парадигмы, с точки зрения которой рассматривает исторические процессы, то он не имеет критерия, с помощью которого выделяет определённые события как исторически значимые. Бесспорно, что историк должен различать фактический уровень своего исследования от интерпретаций и оценок. Но как только он ставит вопрос, почему данная мощная цивилизация в конце концов пришла в упадок, он должен перейти на уровень совокупного следствия разного рода событий и процессов. То есть рассматривать исторические события с учётом выбора исторических перспектив.
В вышеприведённом критическом отзыве на публикацию Осипова в центре внимания находится вопрос, каким образом объективность исторического исследования соотносится с ценностной составляющей той парадигмы, на которую опирается историк в своём исследовании. Если историк рассматривает мировую историю или историю любого народа с точки зрения, скажем, процессов модернизации, которая включает формирование нации, демократии, индустриализации, рыночной экономики (капитализма), то он будет оценивать исторические процессы с точки зрения именно этой парадигмы. Историк второй половины XX в., который признаёт, что время империй прошло, если он принадлежит к имперской нации, должен переписывать национальную историю, написанную с точки зрения имперской парадигмы. А это неизбежно должно включать признание несправедливых действий, нацеленных на покорение других народов. Следовательно, возникает необходимость диалога относительно оценки прошлого ради будущего — диалога с историками ранее подчинённых наций, который должен основываться на признании равенства и взаимного уважения между нациями.
А если расширить этот тезис, то речь идёт об оценке прошлого ради настоящего и будущего. И соответственно эта оценка должна основываться на принципах современной этики межнациональных отношений. Историк, конечно же, должен указывать на те обычаи и моральные убеждения, которые мотивировали действия отдельных лиц и коллективные действия в определённых пространственно и временно локализованных обществах. Но одновременно он может оценивать эти обычаи или действия как жестокие, руководствуясь современными этическими убеждениями. Если словом «макроэтика» обозначать этику, касающуюся взаимоотношений между этническими общностями, нациями и цивилизациями, то принципы этой этики позволяют достигать согласия между людьми, в том числе и историками, в оценке определённых действий и исторических событий сегодня.
Итак, оценка действий и событий в контексте определённой исторической ситуации существенно отличается от их современной оценки, нацеленной на достижение взаимопонимания между нациями. На основе признания их равенства и взаимного уважения. Ибо современная оценка нацелена на утверждение этических принципов, которые должны лежать в основе современных и будущих отношений между нациями. Например, оценка идеологии украинского защитного интегрального национализма в общественно-политической ситуации 20–30-х годов, существенно отличается от современной её оценки с точки зрения современной этики межнациональных отношений. Этики, утверждающей принципы, которым должны соответствовать отношения между нациями в настоящем и будущем.
То же самое касается оценки выдающихся исторических деятелей — таких, как Пилсудский, Бандера и др. Различение положительного и отрицательного в идеологиях, в коллективных действиях, в деятельности отдельных лиц и диалог по этому поводу между историками и интеллектуалами важен для достижения взаимопонимания. В этом диалоге должны признаваться жизненные интересы каждой нации и осуждаться любая жестокость или геноцид, не подлежащие оправданию. Скажем, геноцид индейских племён. И это касается достижения взаимопонимания с российскими историками в оценке наиболее конфликтных российско-украинских межнациональных отношений в прошлом. Современная оценка прошлого делается ради будущего, ради утверждения тех ценностей, которые мы стремимся утвердить. Чтобы не повторилось ужасное в наших прошлых отношениях. Понятно, что речь идёт об историках, которые вполне искренне мыслят уже в постимперской парадигме. И это путь к тому, чтобы историческая память не разделяла народы, а объединяла их ради достойного будущего.
Но существует перспектива другого, в определённом смысле даже более интересного диалога, который касается особенностей мировосприятия каждой из наций, в том числе восприятия и осмысления собственной истории. В таком случае речь идёт не столько о взаимопонимании относительно общих этических установок, сколько о сопоставлении «внешних» и «внутренних» рецепций украинской истории и культуры. Внешними здесь называю взгляды «чужаков», а «внутренними» — восприятие и осмысление тех, для кого культура данного народа является «родной». Слово «родное» использую, разумеется, не в значении биологического или этнического происхождения, а в значении вжитости в культурную традицию данного народа, которая позволяет понимать её смыслы изнутри. Такое сопоставление взглядов в диалоге является плодотворным и перспективным с точки зрения взаимного обогащения. В данном случае мы имеем уже дело не с оценкой определённых фактов с точки зрения общих этических установок, а с особым толкованием фактов. При этом речь идёт не только о каких-то положительных видениях прошлого. С начала 90-х годов и до начала XXI в. преимущественно упор делался на популяризации положительных восприятий «чужаками» украинского мировосприятия и образа жизни. Это понятно, если принимать во внимание чувство национального унижения, обусловленное колониальным прошлым. Но не менее важны также критические видения чужаков, которые позволяют преодолеть определённые унаследованные изъяны ментальности.
Эти довольно элементарные вещи стали, по понятным причинам, очень актуальными в начале 90-х годов. Но даже сегодня, в первом десятилетии XXI века, приходится подчёркивать их, чтобы избегать недоразумений в межнациональном диалоге.
* * *
Идеология перестройки. Один короткий текст, касавшийся идеологии перестройки, написанный мною в конце 1989 г., всё же был мною опубликован — в журнале «Философская и социологическая мысль» (1990, №3). В журнале тогда была напечатана серия статей, касавшихся идеологии «перестройки». Свой текст я написал в виде ответа на анкету, содержавшую 11 вопросов. Инициатором анкеты (под рубрикой «Перспективы и тупики перестройки») был Леонид Финберг, который тогда входил в Редакционный совет журнала. Моя позиция заключалась в сочетании прав человека с правом наций на самоопределение. Отсюда ориентация на преобразование СССР в добровольный Союз республик, который основывался бы на праве каждой республики определять меру своего суверенитета. Это была общая установка украинского национально-демократического движения в течение 1989–90-х годов, провозглашённая также Учредительным съездом НРУ в сентябре 1989 года. Эта позиция рассматривалась как переходная. Пока не появилась реальная возможность провозгласить государственную независимость.
Привожу ниже фрагменты своего ответа на четвёртый вопрос Анкеты «Как Вы представляете себе решение национальных проблем в отношении различных этносов: русских, украинцев, народов Прибалтики, Закавказья, «наказанных» Сталиным народов (крымские татары, немцы Поволжья и др.)? Каковы конструктивные направления деятельности национальных движений?
«Если единое неделимое великое государство становится высшей ценностью правосознания, то такое правосознание немедленно вступает в конфликт с фундаментальной общечеловеческой ценностью — свободой народов. Свобода народов выражается в праве наций на самоопределение и, следовательно, признание этого права должно быть аксиомой того государственного права, которое должно определять правовые основы Союза. Отсюда следует, что Союз, с точки зрения межнациональных отношений, должен быть союзом полноправных наций — именно полноправных, а не равноправных. В правовом отношении Союз должен быть Союзом демократических суверенных республик. Понятие суверенитета означает здесь, что народ, передав союзным государственным органам часть полномочий республиканских органов, сохраняет за собой право и имеет практическую возможность вернуть те или иные, а то и все права, провозгласив независимое государство. Это не означает, что союзные республики не могут вступать в федеративные связи, но федерация не считается высшим понятием того государственного права, которое будет определять правовую основу Союза».
«Все три принципа можно кратко выразить, перефразируя общеизвестное выражение: нам не важно, выйдет ли какая-нибудь республика из состава Союза, или снова в него вступит, или установит любой другой вид связи с ним, но важно, чтобы она была демократической республикой. Стабильность межнациональных отношений между всеми нациями Советского Союза в будущем и цивилизованные формы этих отношений зависят прежде всего от решения этой последней проблемы. А это зависит от того, насколько уже сегодня будет сделана ставка на разум, на конструктивное правовое мышление, а не на то, чтобы реализовать цели идеологии «единонеделимства» несколько усовершенствованными средствами».
Что касается тезиса о праве национальных меньшинств, проживающих компактно, на национально-территориальную автономию, то я уже выше говорил об ошибочности этого тезиса в его общем формулировании.
* * *
В 1989–90-х годах речь шла о предотвращении насильственных действий, направленных против национально-демократических движений. Был ли возможен мирный сценарий развития — пусть даже как дорога к цивилизованному «разводу», к выходу по крайней мере некоторых республик из состава Союза? События в Вильнюсе в январе 1991 года и попытка государственного переворота 19 августа свидетельствовали, что мирный демонтаж коммунистической империи был под вопросом.
Однако после попытки государственного переворота и после принятия 24 августа Верховной Радой Украины Акта провозглашения независимости Украины перспектива образования обновлённого союза суверенных республик, (наконец-то «честного»!) потеряла свою актуальность. Попытка М. Горбачёва осуществить эту идею в Ново-Огарёво (заключить договор о создании «Союза суверенных государств») была запоздалой. Отказ Украины от участия в этих переговорах на том основании, что должен быть проведён всеукраинский референдум по этому вопросу, был вполне оправданным. Последствия референдума, проведённого 1 декабря 1991 года, и позиция Б. Ельцина, который стремился освободиться от подчинения М. Горбачёву, сыграли решающую роль в том, чтобы 7 декабря в Беловежской Пуще объявить о прекращении существования СССР и договориться о создании межгосударственного союза — СНГ. Хотя в Алма-Ате Договор о создании такого союза подписали все республики, кроме Грузии и прибалтийских республик, но деятельность этого образования столкнулась с трудностями. Причины те же самые — стремление России сохранить руководящее положение.
История вступила в период быстрых перемен. 25 декабря М. Горбачёв заявил об отставке с поста Президента СССР, а 30 декабря в Минске на встрече глав государств, вошедших в СНГ, были ликвидированы государственные структуры теперь уже бывшего СССР. Итак, последнее десятилетие XX века стало началом новой эпохи европейской истории. И праздником вожделенной независимости для «союзных республик», наконец-то вырвавшихся из цепких объятий империи. Формально так, насколько реально — тема разнообразных анализов и размышлений 90-х годов — начала XXI века.
* * *
«Хельсинки-90». В июле 1988 года Украинская Хельсинкская группа была преобразована в Украинский Хельсинкский союз. УХС уже выходил за пределы правозащиты и ставил политические цели. Это побудило Международную хельсинкскую организацию к отказу от принятия УХС в качестве ассоциированного коллективного члена. Процесс политизации УХС завершился преобразованием его в конце апреля 1990 года в Украинскую республиканскую партию. Тем временем ООН инициировала идею ассоциировать негосударственные правозащитные организации при своём Департаменте публичной информации. В конце июля от ООН на имя Мыколы Горбаля, как члена УХС (который уже перестал существовать), пришло письмо, датированное 27 июня (подпись: Farouk Mavlavi, Chief NGO and Institutional Relations Section Dissemination Division Department of Public Information) с предложением, чтобы УХС стал ассоциированным членом при этом Отделе ООН. Письмо было отправлено с приложением в виде вопросов, ответы на которые дали бы основание положительно решить вопрос об ассоциации УХС при упомянутом отделе ООН. Поскольку УХС перестал существовать, то отсутствие сугубо правозащитного негосударственного союза побудило Оксану Яковлевну Мешко к созданию такой организации. Она предложила даже название — Украинский комитет «Хельсинки-90». И настойчиво убеждала меня, чтобы я возглавил эту организацию.
Это не соответствовало моему замыслу. Если относиться к правозащитной деятельности ответственно, то она должна была бы поглотить все мои усилия и время. Но отказать Оксане Яковлевне также не смог, она умела убеждать. Так что в «Информационном бюллетене Украинского комитета «Хельсинки-90», №1 (август, 1990), опубликованном издательством «Спилка» в Нью-Йорке, после Декларации о создании комитета (подписали двадцать семь человек), Устав Комитета был подписан мною как председателем. В то же время я уговаривал Василя Овсиенко, чтобы он возглавил союз. Он согласился быть лишь сопредседателем. Позже (с 1993 года) третьим сопредседателем стал член-основатель «Хельсинки-90» Юрий Мурашов. Он, как могу судить по словам Василя Овсиенко, и решал большинство организационных вопросов. Вплоть до своей трагической гибели 1 сентября 2005 года. Быть членами Комитета, во время его создания, согласились около 15 человек (среди них Бровко И. Б., Горбаль М. А., Белицер Н. В., Голец М. И., Дыкий Е. А., Ленчовский Р., Мурашов Ю. И.).
В 90-м году встал вопрос о судьбе Богдана Клымчака, который не был освобождён. Ибо в дополнение к обвинению в «антисоветской пропаганде», был обвинён также в «измене родине» (за переход границы) и осуждён Львовским областным судом в 1979 году на 15 лет лагерей и 5 лет ссылки. Информация о нём уже была передана в международные правозащитные организации. Наверное, в первой половине октября, чтобы получить более детальные сведения, в Киев прибыл Линкольн Пейн (Lincoln Pain) из США. Я встретился с ним. Помню, мы шли по тротуару улицы Кирова (теперь Грушевского) к Крещатику от магазина Академкнига. Остерегались, чтобы избежать каких-то провокаций, но всё обошлось без каких-либо приключений. Общение с Линкольном осталось в моей памяти добрым воспоминанием, а его образ стал для меня воплощением «типичного» американца. Простота в общении, открытость и откровенность и искренняя заинтересованность помочь человеку, преследуемому тоталитарным режимом. Его интересовала общая ситуация в Украине, он уже успел познакомиться с Оксаной Мешко и некоторыми другими диссидентами в Украине. Не знаю, насколько его личные усилия способствовали тому, что в ноябре того же 90-го года Богдан Клымчак был всё-таки освобождён. Потом уже, по приезде в Лос-Анджелес, он прислал мне письмо, в котором выразил удовлетворение нашей встречей и нашим разговором (письмо подписано 30 октября). В частности, в своём письме он отметил: «Если я чем-то могу помочь Хельсинкской группе и Украинской республиканской партии, то сообщите мне» (в переводе с английского).
* * *
В упомянутом первом «Информационном бюллетене» была представлена «Сводная информация о переселении в Украину», к которой я написал короткое предисловие под названием «SOS: этноцид». Поскольку сказанное в нём не утратило своей актуальности и сегодня, привожу здесь этот текст.
«Отсутствие независимой государственности на протяжении веков было основной причиной того, что угроза исчезновения украинцев как самобытного народа была всегда вполне реальной. Народ, живший в составе разных сверхдержав, не мог рассчитывать на толерантное отношение к своей национальной самобытности. В российской империи орудием уничтожения национальной самобытности был запрет на существование национальной культуры и церкви с национальной обрядностью. Не меньшая угроза есть также от размывания этнического состава украинцев, поскольку в империях свобода выбора места жительства всегда гарантировалась. Однако, лишь в советской империи уничтожение национальной самобытности народов было возведено в ранг сознательной политики. Основой этой политики были идеологическая ориентация на «слияние наций» (так называемый интернационализм) и комплексы великодержавного шовинизма.
Декларация о суверенитете, принятая Верховной Радой Украины, должна бы значить границу в истории украинцев, когда наконец угроза их исчезновения как народа перестала над ними висеть Дамокловым мечом. Однако, пробуждение национального сознания и критика денационализации, развернувшиеся в период перестройки, даже принятие Декларации о суверенитете, пока что мало повлияли на реальную ситуацию. Практика переселения народов прекратилась, однако, усилия возродить национальную самобытность наталкиваются на мощное противодействие. В этой ситуации даже усилились попытки продолжить этноцид.
Раньше, в период «застоя», ведомства централизованно осуществляли переселение людей из-за пределов Украины, открывая большие предприятия для иммигрантов. Одновременно осуществлялись оргнаборы украинского населения для переселения за пределы Украины. Такие оргнаборы проводятся и теперь — даже с вручением семье ключа от квартиры на новом месте жительства. Между тем, сегодня расширение полномочий местных органов власти и самостоятельности предприятий может быть использовано для того, чтобы продавать землю переселенцам из других республик за определённые выгоды: проведение газопровода, благоустройство дороги или сооружение для местных нужд жилых домов. Во всех современных суверенных цивилизованных государствах регулирование иммиграции — это дело высших законодательных органов. Попробуйте получить гражданство, чтобы переехать на постоянное место жительства теперь даже в США, которые традиционно сложились как страна иммигрантов. Однако, Украинская республика — это суверенное государство без закона о гражданстве. И снова старая политика перемешивания народов становится возможной на основе, так сказать, частичной инициативы — инициативы отдельных лиц, предприятий, местных органов государственной власти. И снова продолжает над украинцами висеть Дамоклов меч исчезновения их как самобытного народа вследствие размывания их этнического состава. Дано право изменять этнографическую карту Украины, как это делалось на протяжении веков национального гнёта на Украине. Пора положить конец этой практике и такому праву. Необходимо разумное регулирование иммиграции, которое учитывало бы и определённые индивидуальные интересы (например, объединение семей), и национальные интересы (переселение на Украину людей, для которых эта земля родная)».
Замечу, что современная ситуация отличается существенно, но на протяжении 90-х годов, да и сегодня, сохраняется общее в том, что иммиграция в Украину практически не регулируется. Факторы, которые вызывают уменьшение процента этнических украинцев в Украине, общеизвестны: выезд украинцев на работу в западные страны и нелегальная иммиграция в Украину преимущественно через Россию вследствие «прозрачной границы». Алла Либанова (Институт демографии и социальных исследований НАН Украины) 14 августа 2009 года на 5-м канале, отметив, что «прозрачная граница» означает фактически отсутствие границы, в то же время сказала, что Институт демографии не имеет финансовых возможностей проводить исследования, касающиеся количества нелегальных иммигрантов в Украине. Не говоря уже о качестве. Если Украина не наладит контроль за иммиграцией, то вскоре столкнётся с очень негативными последствиями стихийной иммиграции.
* * *
Проблемы правозащиты. Вскоре убедился, что при наличии политического плюрализма деятельность общественных правозащитных организаций должна претерпеть радикальные изменения. В прошлом хельсинкские организации в СССР были сосредоточены на защите людей от политических репрессий, политические мотивы которых были очевидны. После отмены шестой статьи Конституции СССР и после возникновения политических партий даже защита людей, подвергающихся репрессиям по политическим мотивам, усложнилась. С одной стороны, политические преследования маскируются под видом уголовных, с другой, вполне обоснованные уголовные обвинения некоторые из обвиняемых стремятся представить как осуществлённые по политическим мотивам. Это побуждает к повышению уровня профессионализма в деятельности правозащитных организаций. Возникла насущная потребность в перестройке самого способа деятельности Комитета: привлечение к её деятельности людей с юридическим образованием и налаживание сотрудничества с учреждениями следствия, прокуратуры и т.д. В том числе и с учётом того, что в задачи Комитета должно входить нарушение всего списка прав человека, а не только гражданских и политических прав. Тем временем политическая деятельность в УРП или в других политических организациях, которые начали формироваться, оттягивали на себя многих из тех, кто ранее участвовал в правозащите. Вскоре мы столкнулись с тем, что некоторые из заявлений, направленных в наш Комитет, требуют проверки. Действительно ли за уголовными преследованиями скрыты политические мотивы?
Из сказанного становится понятным моё созревшее убеждение, что я физически не смогу совместить надлежащую правозащитную деятельность со своими занятиями философией. И всё же, моя относительно интенсивная деятельность в «Хельсинки-90» в течение первых трёх лет, начиная с 90-го, оказалась полезной. В том числе и для моих философских занятий. Речь идёт об участии, вместе с некоторыми другими членами нашей организации, в международных правозащитных конференциях. В конечном счёте, это побудило меня заняться философскими вопросами прав человека и выяснением соотношения между правами человека и правом наций на самоопределение. Некоторые мои позиции по этой проблеме были освещены в статье «Запад и права наций», опубликованной в газете «Слово» (октябрь, 1991 год, перепечатана в сборнике «В многоголосии политических дискуссий» — «Издательский дом «Киево-Могилянская академия», 2007).
* * *
Соотношение индивидуальных прав и прав наций. Очерчиваю здесь очень кратко суть проблемы для Читателя, которому могут быть не известны трудности, с которыми сталкивался тогда правозащитник, да и сталкивается также сегодня, когда выходит за пределы защиты индивидуальных прав. И ставит вопрос о защите прав человеческих групп и общностей. Имею в виду прежде всего ситуацию конца 80-х – начала 90-х годов. Но отдельные аспекты этой проблемы остаются актуальными до сих пор.
Лига наций на Версальской мирной конференции утвердила культурные права меньшинств, но как индивидов. Это вопреки проекту президента Вильсона, который предусматривал права этнических групп и право народов на самоопределение. В частности, это объясняет и те проблемы, на которые натолкнулась инициатива правового определения геноцида. Всё же в 1946 году Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, ставшую основанием для Конвенции о предупреждении и наказании за геноцид, которая уже защищала не индивидов, а группы. Но предложение о предупреждении и наказании за культурный геноцид (культурную ассимиляцию, осуществлённую государством в отношении других этнических и религиозных групп путём прямого и косвенного насилия), после его рассмотрения шестым комитетом Генеральной ассамблеи было опущено из резолюции. Процесс столкнулся с противодействием влиятельных государств: были против США, государства Латинской Америки, Франция и др. в 1948 году, когда ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека. При этом Элеонора Рузвельт, возглавившая Комиссию по правам человека, основываясь на американском опыте, отклонила идею специальных прав для этнических групп и национальных меньшинств. Всё же в 1960 г. Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию 1514 — «Декларацию о предоставлении независимости колониальным странам и народам». Но 6 статья этой резолюции предостерегала: «Любая попытка, нацеленная на то, чтобы частично или полностью разрушить национальное единство и территориальную целостность страны, несовместима с целями и принципами Устава ООН»
Понятны те трудности (концептуальные, эмпирические и практические), которые возникают в русле правового подхода, связанные с тем, как выделить те группы, которые осознают и декларируют своё культурное (этническое) отличие, чтобы признать их нациями. Я упоминал о трудностях в использовании принципа национального самоопределения в случаях, когда этническая нация исторически не возникла, а вместо этого сохранились много небольших этнических общностей. Проще всего это решается в случае, когда уже возникли достаточно отчётливые и относительно большие этнокультурные целостности, которые сегодня преимущественно обозначают термином «этнические нации». Как украинцы в СССР, которые, вследствие особенностей своей истории, преодолели свои родоплеменные различия. Имеем дело уже с модерной общностью, которая чувствует и осознаёт своё культурное родство. И поскольку такая группа проживает в пределах «чужого» государства, не ею созданного, то отсюда вытекает её право на политическое самоопределение.
* * *
Официальная позиция международных и западных правовых структур заключалась в том, что все народы СССР, за исключением русских, являются меньшинствами в СССР. Но, с другой стороны, русские в «союзных» республиках являются меньшинствами относительно тех народов, которые осуществляют самоуправление через республиканские государственные органы. Именно это ступенчатое определение понятия национальных меньшинств я оспаривал в международных дискуссиях 1990-91 годов. Ибо настаивал на том, что, скажем, эстонцы являются нацией-этносом (этнической нацией), а не национальным меньшинством. А потому имеют право жить в собственном независимом государстве.
Чем обусловлена такая позиция представителей ООН, ОБСЕ и других международных правозащитных организаций? Если мы обратимся к международным документам, то после принятия в 1960 году «Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам», признание права наций на самоопределение упоминается вскользь в ряде позже принятых деклараций ООН. Но в то же время подчёркивается невмешательство во внутренние дела государств. Например, в «Декларации о социальном прогрессе и развитии» 1969 года (в разделе «Принципы», Статья 3), эти два принципа выписаны рядом: в пункте (а) провозглашается право народов на самоопределение, а в пунктах (б) и (в) принцип невмешательства во внутренние дела государств и уважение суверенитета и территориальной целостности государств. В общем это правильно, должно быть и то, и другое. Но, если признаётся факт существования зависимых народов-наций, то должны бы называться государства, которые не уважают права наций на самоопределение. Однако принять такую резолюцию и назвать, скажем, СССР в числе таких государств было практически невозможно. Отсюда упор на соблюдение прав человека и прав национальных меньшинств, в частности, с точки зрения сохранения их культурной идентичности. Это то, что могло тогда действовать. И, как мы теперь можем утверждать, эта стратегия по крайней мере отчасти оправдала себя.
Но в то же время, если оторваться от начала 90-х и взглянуть в историческую перспективу, то международные усилия, нацеленные на защиту культурного разнообразия мира как важной всечеловеческой ценности, следует скорее оценивать как не отвечавшие реальным угрозам во второй половине 20 в. И тем более не отвечают сегодня, в начале 21 в., в период глобализации. Нельзя сказать, что ценность культурного разнообразия мира не подчёркивалась в Декларациях ООН. В «Декларации принципов международного культурного сотрудничества», принятой на генеральной конференции ЮНЕСКО в 1966 году (путём аккламации) в первой статье однозначно утверждается: «1. Каждая культура обладает достоинством и ценностью, которые должны уважаться и сохраняться. 2. Каждый народ имеет право и обязан защищать свою культуру. 3. Все культуры, в их своеобразии и многообразии и взаимном влиянии, являются частью общего наследия всего человечества.» (Тезисы привожу в собственном переводе с английского по тексту «Human Rights. A Compilation of International Instruments. – United Nations, New York, 1988). Но такие декларации не находили воплощения в каких-либо практических действиях. Существование железного занавеса, закрытость от Запада всего, что происходило в СССР, привела к тому, что даже физическое уничтожение украинского крестьянства, составлявшего более половины украинской нации, осталось незамеченным. Что же касается защиты культурного разнообразия мира и осуждения культурной ассимиляции наций, прежде всего в СССР, то в конце 80-х годов этот вопрос так и не стал предметом правового рассмотрения (в разрезе права наций на самоопределение).
* * *
Европейский практикум по международным стандартам в области прав человека — Киев, 24-28 сентября, 1990 г.
Европейский практикум по правам человека, состоявшийся в столице Украины в конце сентября, был вторым из такого рода практикумов, проведённых в Советском Союзе (первый был проведён в Москве, в ноябре 1988 года). Киевский практикум был довольно представительным: были представлены почти все европейские страны, США, Канада, Папский престол, Совет Европы, неправительственные организации, Международная амнистия, Конференция европейских церквей, Международный комитет Красного Креста, Политический комитет Европарламента. Из республик Советского Союза была представлена только Украина, было представительство, разумеется, от Советского Союза. От Украины на официальном уровне приняли участие в работе практикума работники Министерства иностранных дел и ООН, а на неофициальном уровне несколько депутатов парламента, короткую речь произнёс депутат Сметанин.
Я, как председатель Украинского комитета «Хельсинки-90», рассчитывал, что мне удастся «протиснуться», чтобы сделать небольшое заявление, текст которого подготовил накануне. Но на моё устное обращение к распорядителю, который формировал список участников дискуссии, последовал отказ. Из-за ограниченности регламента. Но я не отступал и убеждал, чтобы мне предоставили хотя бы две минуты для короткого заявления. Подготовленный мною текст не укладывался в те, наверное, одну-две минуты, которые мне предоставили. Итак, написанный накануне текст я должен был немедленно сократить. То, что я пренебрёг требованием пользоваться одним из рабочих языков, а говорил по-украински, вызвало негативную реакцию у некоторых делегатов. Но некоторые из иностранных участников Практикума считали допустимым, что кроме рабочих языков, может звучать также язык страны, где Практикум проводится.
Предваряя свой рассказ, замечу, что моё владение английским, немецким и польским языками было подчинено чтению и переводу философских текстов. Случаи, чтобы использовать эти языки в устной речи, были редкими. Я не владел свободно английским, но мог кое-как общаться или написать английский текст, чтобы потом его произнести. Мне легче было что-то сказать по-английски, чем улавливать сказанное быстро. Английский язык, собственно, и выручил меня в моём общении с человеком, который формировал список выступающих на Практикуме. Как выручал потом в поездках в западные страны, в частности для участия в международных правозащитных конференциях. В этом случае я мог бы, конечно, произнести свою речь на русском, но сознательно выбрал украинский. Привожу здесь текст моего заявления.
«Уважаемые участники Европейского практикума по правам человека. Моё имя Василий Лисовый, в настоящее время я являюсь председателем негосударственной правозащитной организации под названием Украинский комитет «Хельсинки-90». В 1976 году на Украине была создана негосударственная правозащитная организация — Группа содействия хельсинкским соглашениям. Тот, кто становился членом этой правозащитной организации, обрекал себя на долгие годы лагерей, поскольку в то время правозащитная деятельность в Советском Союзе жестоко преследовалась. Среди республик Советского Союза Украина выделяется как численностью участников правозащитного движения, так и настойчивостью и последовательностью этого движения. 21 член Группы содействия хельсинкским соглашениям провёл много лет в лагерях за свою правозащитную деятельность. 4 из них, среди них известный поэт, Василь Стус, были замучены в лагерях. Документы о деятельности этой группы за 10 лет, с 1976 по 1986, год собраны в 3 томе Документов хельсинкских групп, изданном в Вашингтоне в 1986 году Комиссией по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Группа содействия хельсинкским соглашениям в 1986 году была переименована в Хельсинкский союз, который недавно был преобразован в партию. Но ситуация на Украине с соблюдением прав человека такова, что полагаться на государственные правоохранительные органы в полной мере невозможно. Это обусловлено тем, что во многих государственных органах — в прокуратуре, в Министерстве внутренних дел, в КГБ сохранили свои позиции люди со старыми стереотипами мышления, в том числе и те, кто в своё время участвовал в преследовании инакомыслящих и правозащитников. Учитывая это, в этом году возобновлена деятельность негосударственной правозащитной организации Украинского комитета «Хельсинки-90».
Я хочу обратить внимание уважаемых участников нашего обсуждения на один важный момент. Речь идёт о поддержке деятельности нашей правозащитной организации со стороны международных организаций, призванных защищать права человека. Мы, правозащитники Украины, высоко ценим усилия, которые приложила в своё время Amnesty international, чтобы поддержать и защитить политзаключённых в Советском Союзе. Однако, на мой взгляд, поддержка нашей правозащитной деятельности, как и поддержка деятельности других негосударственных правозащитных организаций в Советском Союзе, может быть более эффективной. В частности, со стороны ООН. Нашей правозащитной организации даже сегодня будет нелегко достичь легального статуса. Существуют политические силы, которые в этом не заинтересованы. Между тем ООН имеет инструмент, которым можно успешно пользоваться. Имею в виду преобразование негосударственных правозащитных организаций в организации, ассоциированные при соответствующих органах ООН — при отделе информации ООН (Department of Public Information) или при Комиссии по правам человека. Для этого стоит преодолеть чрезмерный формализм. Основные документы, скажем, нашей правозащитной организации, передаются на Запад и они могут быть основой для такого решения соответствующих органов ООН.
Поскольку политическая ситуация в Советском Союзе очень нестабильна в связи с противостоянием, с одной стороны, национальных движений за государственную независимость, а, с другой, попытками сохранить систему неоколониализма, то правозащитное движение может оказаться в очень нелёгкой ситуации. Надеюсь, что это моё обращение найдёт понимание в контексте тех обсуждений, которые здесь велись. Спасибо за внимание».
* * *
Прага-90. Достаточно многочисленным было участие нашего Комитета (около половины состава) в Учредительной конференции Хельсинкской Ассамблеи граждан — в Праге в ноябре 1990 года. Это было довольно представительное собрание: на нём были представители ОБСЕ, ООН, Европарламента и т.д. Острой оказалась дискуссия вокруг вопроса, должны ли быть представлены неправительственные правозащитные организации республик СССР и Югославии в международных структурах независимо, а не через посредничество союзных организаций. Официальная позиция западных институций заключалась в том, что они должны быть представлены через союзные организации. Отстаивая своё право быть представленными независимо, мы, украинцы, солидаризировались в этом вопросе с прибалтийскими правозащитниками и правозащитниками союзных республик Югославии. За исключением, разумеется, сербов. Регламент был очень строгим. Мне запомнилось и приятно поразило короткое выступление Галины Старовойтовой, которая поддержала требования правозащитников союзных республик иметь независимое представительство. В общей дискуссии я также выразил поддержку этой идеи.
Помимо этого, меня поразила Прага как город-музей. Имею в виду архитектуру. Вместе постояли перед памятником Яну Палаху, поступок которого перекликался с судьбой таких же жертвенных поступков в Украине. Второе незабываемое впечатление — культура обслуживания. Речь идёт не только о вежливости. В каком-то магазине продавщица предлагает вам на выбор несколько языков для общения, кроме английского также немецкий. Я потом вспомнил этот случай, когда один из украинцев из диаспоры рассказал мне, как на требование кассирши на киевском железнодорожном вокзале «говорить на человеческом языке» убеждал её, что говорит только по-украински и по-английски.
Впрочем, это наша современная ежедневная реальность — как следствие угодливой толерантности, которую некоторые именуют «культурностью». Во имя этой культурности миллионы украинцев готовы отказаться от защиты своей культуры. В противовес чехам. И словакам, которые утвердили свой язык, вопреки чешским славянофилам, к которым принадлежал и Колар, которые считали, что чешский язык должен быть общим языком для чехов и словаков. Дмитрий Чижевский, которого чехи уважают за его вклад в чешскую культуру, в своих статьях о Людовите Штуре защищал словацкий язык против чешского. Однако чехи, которые сами преодолевали последствия своего онемечивания, отказались от навязывания своего языка словакам с помощью хитрых практик, как это мы имеем в случае русских вплоть до сегодняшнего дня. Чтобы сделать своих «братьев» похожими на себя — во имя более тесного братства, разумеется. Представляете своего друга, который согласен быть Вашим другом, если Вы будете похожим на него? Чтобы, во имя дружбы, Вы отказались от своей личности? Да ещё и доказательства и теории, чтобы убедить Вас, что с колыбели не отличались от него. Чехи отказались от такого «братства» со словаками. Сергей Васильевич Комисаренко, биохимик (Институт биохимии им. Палладина, первый посол Украины в Великобритании), на радио «Культура» (3-й канал) — 30.01.06 заметил: 40 помещений в Лондоне Россия имеет для своих нужд, Украине она отказалась передать хотя бы одно. Обращался к Кравчуку, тот рассказал, что говорил с Ельциным, но без каких-либо положительных последствий. В противовес этому, в результате разделения Чехословакии, Чехия поделилась некоторыми из своих помещений со Словакией. Итак, имеем принципиально отличное понимание «славянского братства».
* * *
Конференция в Литве. В конце 1990 года на адрес нашего Комитета пришло приглашение, за подписью Александра Осипова, с таким началом: «Инициативная группа Второй международной Конференции «Права человека и национальные проблемы» имеет честь пригласить Вас принять участие в нашей конференции 8–10 декабря 1990 г. в г. Вильнюс (Литовская республика).
Проблема межэтнических отношений, межэтнических конфликтов, соотношение индивидуальных и коллективных прав в рамках процесса коллективного самоопределения, становления национальных государств относится к числу сложнейших теоретических и практических вопросов. События последних лет в ряде стран Восточной Европы, Балтии и СССР не только представляют исследователю обширную информацию для анализа, но и в ряде аспектов вызывают необходимость выработки новых взглядов и подходов, поскольку в первый раз в своей истории человечество сталкивается со сложнейшими национальными и этническими проблемами в контексте кризиса колониального тоталитаризма.
Этой тематике будет посвящена работа Второй Независимой Конференции «Права человека и национальные проблемы», проводимой в Вильнюсе, 8 – 10 декабря 1990 года. Предполагается, что в работе Конференции примут участие антропологи, советологи, правозащитники, эксперты независимых политических организаций».
Далее уточняются цели конференции. Организаторами обеих конференций была группа лиц из Москвы (Андрей Грязнов, Александр Осипов, Александр Элиович), Ленинграда (Екатерина Подольцева, Элла Полякова), Вильнюса (Бируте Печелявичуте, Имантас Мелянас, Галина Иванова).
Я принял участие в одной из такого рода конференций, состоявшейся в Литве (в Вильнюсе). Но, видимо, это была первая из таких конференций с обсуждением тех же проблем, а не вторая. В своих бумагах я обнаружил лишь заметки, подготовленные мною для участия в дискуссиях (в тексте упоминаются фамилии Осипова, Элиовича, Корчинского, последний из Украины). В дискуссиях имел спор с А. Осиповым, который касался соотношения между индивидуальными правами и правом наций на самоопределение. Осипов высказал тезис, что я в своем понимании этничности основываюсь на эссенциализме (что я представляю этносы и нации как нечто заведомо целостное). Я считал этот упрёк Осипова проявлением недопонимания.
* * *
Конференция в Эстонии (Таллинн-Пярну-Тарту). Это была международная конференция, состоявшаяся 23–27 апреля 1991 года, её тема «Права человека и правовая основа демократии». Эта конференция была очень представительной, на ней были представлены все официальные международные правозащитные структуры. Я сделал доклад и принимал участие в дискуссиях. Основной темой как доклада, так и участия в дискуссиях была проблема соотношения между индивидуальными правами и правами наций. Я настаивал на том, что называть эстонцев в Эстонии «национальным меньшинством» в государстве СССР, а не нацией (этносом-нацией), является неприемлемой позицией. Потому что это означает отказ от признания права эстонцев на политическое самоопределение в виде независимого государства. Доклад делал на русском языке, но даже русский текст, который подготовил, был вынужден существенно сократить ввиду регламента. Ниже я привожу произнесённый текст (при перепечатке пропустил вычеркнутые части рукописного текста, которые очевидно не были произнесены).
«Дамы и господа!
Вопрос о соотношении индивидуальных прав и прав наций сегодня в том регионе планеты, который именуется Советским Союзом, превратился из вопроса теоретического в практический. Если практика словоупотребления такова, что выражением «права человека» обозначают преимущественно права личности, тогда правозащитное движение в современной Европе, способное объединить Восточную и Западную части Европы, следует обозначать как движение за права человека и права наций. Такое словоупотребление вносит ясность благодаря расстановке акцентов на реализации двух групп прав — личных свобод и свободы народов. Если мы желаем видеть в будущем единую Европу (что не исключает также единства всех народов планеты), то это единство должно строиться на уважении к двум основным ценностям — неотъемлемым правам личности и правам наций.
Если бы вопрос касался только способа употребления выражения «права человека», то согласие относительно способа употребления исчерпывало бы проблему. Однако имеем нечто большее: имеем различные подходы к соотношению между двумя группами прав — правами личности и правами наций. Джек Доннелли в интересной и во многом полезной книге — Donnelly Jack. Universal Human Rights in Theory & Practice. — Ithaca and London, 1989 — пытается доказать, что выражение «права наций» ведёт к концептуальной путанице: с его точки зрения реализация коллективных прав, в том числе прав наций, автоматически следует из реализации прав личности. Эта концепция имеет распространение не только на Западе, но разделяется некоторыми правозащитниками также в Советском Союзе.
Как известно, существует два способа употребления слова «нация»: (1) как обозначение для общности интегрированной политически (такое употребление этого слова бытует преимущественно на Западе); это понятие можно обозначить выражением «нация-государство»; (2) как выражение обозначающее общность, интегрированную на основе культурной общности, прежде всего на основе этнокультуры (это словоупотребление бытует преимущественно на Востоке Европы и в Советском Союзе); это понятие можно обозначить выражением нация-этнос. Первое понимание нации в условиях Советского Союза неприемлемо — иначе возвращаемся к доктрине Брежнева о существовании или, по крайней мере, становлению некой «советской нации».
Более того, вопрос о реализации прав наций остро возникает как раз в том случае, когда нации входят в наднациональное политическое образование и пытаются использовать право наций на политическое самоопределение. Можно возразить, что истолкование права наций на самоопределение как права наций-этносов опасно в том отношении, что легитимизации подлежат также любые сепаратистские движения, основанные на этнических различиях. По-моему, в таком контраргументе имеем нарушение некоторой меры: преобразование провинций в самостоятельные государства во Франции или штатов в США — это совершенно не то, что самостоятельные государства республик в Советском Союзе. Я согласен с Олвином Тоффлером, когда он говорит в разделе Сrack-up of nations в своей книге «Третья волна» (The third Wave), что решение проблемы сепаратизма требует другого типа демократии — в частности расширения так называемой прямой демократии в постиндустриальном обществе. Но я не согласен с ним, когда он говорит об исчезновении наций в постиндустриальном обществе на том основании, что существование наций он связывает с существованием национальных государств. Кстати, исходя из понятия нации как нации-государства, в своем перечислении национальных государств он ставит Советский Союз и США в один ряд. Таким образом, важно уточнение и разграничение понятий нация, этническая группа и национальное меньшинство.
Мои выводы.
1. Необходимо выработать общий подход как в Советском Союзе и Восточной Европе, так и на Западе, при котором акцент на правах личности сопровождался бы таким же акцентом на правах наций. Я не отрицаю, что права личности являются более фундаментальными и во многих случаях права наций следуют из реализации этих прав. Однако это происходит далеко не во всех случаях. Один пример: введение республиканского гражданства той или иной республикой в Советском Союзе вступает в противоречие с 13 статьей «Всеобщей декларации прав человека» о свободном избрании места жительства, если Советский Союз рассматривается как единое государство.
Известно, чем закончилась попытка республик Балтии принять участие в Парижском Совещании по безопасности и сотрудничеству в Европе: протест против их беспардонного выдворения из зала заседаний последовал только от некоторых стран Северной Европы.
(2) Необходимо осознать важность акцента на реализации прав наций, что касается особенно Советского Союза и, наверное, Югославии. Дело в том, что в Советском Союзе ситуация особая: здесь скорее именно отсутствие осознания прав наций, отсутствие уважения к такой общечеловеческой ценности как свобода народов, является основным фактором, ведущим к нарушению прав личности. Центр пытается использовать лозунг «права человека» с тем, чтобы предотвратить реализацию прав наций.
Здесь может играть более значительную роль ООН, которую, к сожалению, в её современном виде следует именовать Организацией объединённых государств, а не наций. Если защиту прав наций будут брать на себя только такие неофициальные организации как «Блок порабощенных народов» или «Организация непредставленных народов», то это будет свидетельствовать о неблагополучной ситуации с защитой прав наций. Спасибо за внимание».
Привожу здесь последний абзац моего текста, вычеркнутый в рукописи, а, следовательно, видимо, не был произнесён:
«Например, существуют соответствующие международные стандарты, защищающие культурную самобытность народов. Однако Советский Союз в прошлом критиковали, как правило, за нарушение прав личности, но не за политику культурного геноцида — т. е. политику русификации. Насколько мне известно, в международном праве культурный геноцид вообще не отнесен к определённому виду преступлений. В конце мая в начале июня в Кракове должна состояться конференция на официальном уровне Хельсинкского процесса по защите культурного наследства».
* * *
Конференция в Италии. Последней из международных правозащитных конференций, в которых я принял участие, была конференция в Венеции 23–25 мая. Её тема была обозначена широко: «Европейский общий дом, права человека, европейское гражданское общество», её организатором была правительственная структура Венеции — Департамент политики и содействия правам человека (Dipartamento per le politiche e la promozione dei diritti civili). «Хельсинки-90», кроме меня, представляла Наталья Белицер. Темой моего небольшого доклада (около 20 мин.), который я произнёс на английском (его текст не сохранился), говорил о той же проблеме — праве наций на самоопределение. Был рад, когда представитель немецкой правозащитной организации энтузиастично поддержал мою позицию.
* * *
Кроме участия в международных правозащитных конференциях в течение 1989–1991 годов принимал участие также в деятельности РАУ (Республиканской ассоциации украинистов). На одной из конференций обсуждали концепцию только что начатой многотомной «Истории украинской культуры». От Института философии в обсуждении концепции приняла участие Валерия Ничик и я. Вывод большинства выступавших сводился к тому, что концепции не предложено. А некоторые из участников собрания вообще склонялись к тому, что написание фундаментального многотомного издания является преждевременным. Ибо перед тем, по их мнению, надо выполнить более узкие исследования по отдельным участкам культуры и отдельным периодам из истории украинской культуры.
Принял участие в Первом всемирном конгрессе украинских политических заключённых, состоявшемся 22–23 июня 1991 года, на котором произнёс доклад «Реабилитация: моральный и правовой аспект» (перепечатан в сборнике моих статей «Культура — идеология — политика» (К., 1997).
Как уже упоминал, в 90-е годы я отказался, не без некоторых колебаний, от политической деятельности, считая, что политика не является моим «сродным» трудом. И что буду заниматься философией, а моё участие в политической жизни должно сводиться к интеллектуальной помощи общественным организациям и партиям путём участия в разного рода семинарах, конференциях, съездах. Моя деятельность, связанная с «Хельсинки-90», хотя и была в некоторых моментах полезной для моих занятий философией, но она отнимала время и усилия. Физически я не мог совместить эту свою деятельность с нагрузкой, связанной с профессиональным трудом в области философии. А конец 80-х и первая половина 90-х годов были для меня периодом навёрстывания потерь: проработки литературы по философии 20 в., которая становилась всё более доступной. Поэтому после первых двух-трёх лет своей активности в «Хельсинки-90» я отошёл от деятельности в этой организации. Вместо этого принимал участие в круглых столах, отдельных съездах и конференциях различных общественных организаций.
Частично опубликовано в журнале «Сучаснисть»:
№ 5 (505), 2003. – С. 127–145;
№ 6 (506), 2003. – С. 112–124;
№ 10 (510), 2003. – С. 95–117;
№ 1 (513), 2004. – С. 98–119;
№ 4 (516), 2004. – С. 123–138;
№ 11 (523), 2004. – С. 143–151;
№ 12 (524), 2004. – С. 127–140.
Раздел 11. В постимперской Украине
Предварительное замечание. Этот последний раздел Воспоминаний я писал попутно в течение 2011–2012 годов. Учитывая трудности, с которыми столкнулся при доработке этих отрывков, в частности связанные с состоянием здоровья, был склонен к решению завершить свои Воспоминания предыдущим разделом. Но пересмотр написанных отрывков склонил меня к мысли, что они могут представлять определённый интерес или информативную ценность для моих читателей, в частности и потому, что некоторые фрагменты касаются публичных дискуссий о пути Украины в будущее. И в этом вопросе моя позиция хотя и совпадает с позицией некоторых украинских гуманитариев и публицистов, но, по-моему, сформулирована более выразительно, более чётко, чем я читаю в современной прессе или слышу в разного рода ток-шоу.
* * *
Итак, приказом директора от 25 января 1990 года я был зачислен научным сотрудником Института философии Академии наук Украины в отдел истории украинской философии. С тех пор работаю в этом отделе. Так вернулся к «сродному труду», в «родные пенаты». Ведь до заключения прежде всего среди сотрудников института находил понимание своих интеллектуальных интересов и имел друзей, которые продолжали в нём работать. Не изменилось и руководство института: ЦК КПУ ограничился выговорами руководящим лицам. Остался на должности также директор института Владимир Шинкарук, а Валерия Ничик возглавляла упомянутый отдел истории украинской философии.
На «место работы» в течение 20 лет, о которых здесь пишу, добирался от станции метро на площади Независимости, поднимаясь по переулку Костёльному на улицу Трёхсвятительскую. Здание, в котором теперь расположился Институт философии, когда-то было монастырём: признаки этого были очевидны ещё во время моей студенческой жизни в общежитии, которое находилось в этом здании. Теперь внутреннее пространство перестроили радикально: разделили на комнаты, приспосабливая их для нужд научной деятельности. Расположение Института философии в «сакральном пространстве», в окружении христианских святынь, невольно побуждало к размышлениям над взаимоотношениями религиозного и философского миропонимания. Обсуждение этой темы является одной из важных тем в исследовательской работе любого историка философии. В отделе истории украинской философии эта проблема время от времени становилась предметом дискуссий, о чём упомяну дальше.
Но в центре интеллектуальных и публичных дискуссий неизбежно оказались проблемы, связанные с распадом СССР и ответом на важнейшие вопросы: каким образом новосозданная независимая Украина может утвердить себя как государство национальное, демократическое, европейское и как ей избежать худшей перспективы — исчезновения как отдельной нации и превращения в часть восстановленной империи?
* * *
1. В Институте философии
Критика университетской программы. Я далёк от того, чтобы недооценивать достижения философов СССР в ознакомлении с состоянием западной философии ХХ в. Пусть это было связано с компромиссами, и довольно часто эти компромиссы сводили на нет потраченные усилия. Историк украинской философии, который хотел бы найти компромиссные учебники по философии, написанные до распада СССР, может взять за пример книгу «Философия. Курс лекций», опубликованную издательством «Лыбидь» в 1991 году. Этот курс лекций был рекомендован Министерством высшего образования Украины как учебное пособие для студентов вузов. Он написан коллективом авторов (И. В. Бычко, Ю. В. Осичнюк, В. Г. Табачковский, А. К. Бычко, М. Л. Злотина и др.). Рецензенты — кафедра философии Донецкого государственного университета, индивидуальную рецензию написал В. С. Горский. Поскольку это один из лучших текстов, написанный с точки зрения гуманистического и творческого подхода к марксизму, то вместо рецензии на Программу, о которой идёт речь ниже, лучше было бы мне написать развёрнутую рецензию на этот курс лекций. Так можно было бы установить, когда пересмотр официального марксизма был обусловлен сознательными компромиссами, а когда мы имеем мышление в плену унаследованных догм. К тому же я мог бы подискутировать по этому поводу с руководителем коллектива авторов Игорем Бычко и рецензентом текста Виленом Горским.
Для меня была неожиданностью публикация «Программы по марксистско-ленинской философии для философского факультета Киевского университета», принятой Учёным советом философского факультета КГУ в 1989 году (опубликована в журнале «Философская и социологическая мысль» за 1989 год, № 7). Неожиданностью потому, что это было сделано в конце «перестройки». Очень вероятно, что эта Программа стала не столько следствием унаследованных стереотипов мышления её авторов, сколько сознательной перестраховкой — неверием в то, что процессы, начатые «перестройкой», приведут к краху тоталитаризма. Вынужден был написать очень критическую рецензию, которая была опубликована в «Философской и социологической мысли», но с большим опозданием — аж в мае 1991 года. В разговоре с Владимиром Жмырем я не хотел докапываться, каковы истинные причины этого промедления. Хорошо то, что моя рецензия была всё-таки опубликована.
В предисловии к её публикации, написанном В. Жмырем, было сказано так: «Предлагая вниманию читателей эти полемические заметки, хотели бы отметить, что рукопись В. С. Лисового поступила в редакцию в начале 1990 года, то есть вскоре после опубликования в нашем журнале анализируемой им учебной программы. К сожалению, по техническим причинам, не зависевшим от редакции, мы не имели возможности опубликовать её в течение 1990 года. Сама же программа прожила за это время свою жизнь — как оказывается, короткую: как нам стало известно, философский факультет КГУ вот-вот примет новую учебную программу. Её авторы утверждают, что она радикально отличается от нынешней. Редакция готова напечатать и эту новую программу и продолжить обсуждение злободневных проблем вузовского преподавания философии. Надеемся, наших университетских коллег не покоробит критический пафос В. С. Лисового. К сожалению, такова судьба первооткрывателей: трудно не только пройти первыми; ещё, возможно, труднее согласиться с теми, кто утверждает, что пройти можно было и больше, и быстрее. Однако первый шаг был сделан именно на философском факультете КГУ, и он априори полезен — хотя бы потому, что был сделан. Теперь же, продвигаясь дальше, попробуем извлечь урок…».
Всё же одно дело критика, а другое — предложить текст в виде введения в философию или «Основ философии», предназначенный для образовательных целей. Перечитывая позже опубликованную рецензию, я обнаружил очевидные недостатки. Так, в список основных разделов были включены психология, социология (наряду с социальной философией) и политология (вместо политической философии). Поскольку эти науки в ХХ в. уже отделились от философии, я счёл ошибкой включать их в список разделов философии. Правда, социология возникла в Украине под «крылом» философии: в конце 60-х годов в Институте философии был создан отдел социологии, а в 70-х годах — отделение социологии (отделение, в отличие от отдела, — более крупная административная единица, поскольку может делиться на отделы). Нашёл в рецензии и некоторые другие неточности.
* * *
Старшее поколение философов. Выскажу здесь, хотя бы кратко, замечания, касающиеся старшего поколения философов в Институте философии, к которому принадлежу и я: больше информации содержит моя статья «Украинская философская мысль 60–80-х годов ХХ века». К старшему поколению я отношу Владимира Шинкарука, Валерию Ничик, Мирослава Поповича, Сергея Крымского, Вилена Горского, Петра Йолона, Михаила Булатова, Сергея Васильева, Анатолия Колодного, Фёдора Канака. За исключением самых старших — Шинкарука и Ничик, родившихся в 1928 году, — все остальные родились в 30-х годах. Из них на 2011 год, когда я пишу эти строки, в вечность отошли Шинкарук, Ничик, Крымский, Васильев, Канак.
О Владимире Шинкаруке и Мирославе Поповиче я уже упоминал ранее. Но хочу здесь добавить, что за 20 лет Мирослав Попович ещё больше утвердил свой имидж интеллектуала, который не только проясняет основополагающие проблемы философии, но и демонстрирует своими публикациями впечатляющую эрудицию в различных областях гуманитаристики. Подтверждением этого тезиса служат его публикации «История украинской культуры» и «Красный век».
Общение. Прежде всего отмечу, что на протяжении двадцати лет общение в институте было для меня не только интеллектуально полезным, но и настоящей отрадой. Вероятно, этому способствовало и способствует то обстоятельство, что мне, за некоторыми исключениями, удавалось достигать взаимопонимания с моими собеседниками. Важна была и способность большинства моих собеседников не омрачать межличностные отношения случаями интеллектуальных недоразумений или разногласий. И действительно, отношения с признаками отчуждения или антипатии были редкими исключениями в течение двадцати лет моей работы в институте. На мой взгляд, источником удовольствия от общения, как обычного, так и интеллектуального, является способность собеседников создавать светлую ауру, окрашенную юмором, особенно в тех случаях, когда сложность обсуждаемого вопроса становится источником бесконечной череды аргументов и контраргументов.
Смена названий отделов. Исчезновение идеологического контроля над интеллектуальной деятельностью завершало период, когда каждый критически настроенный человек и каждый интеллектуал должны были выбирать между нежелательным компромиссом и риском подвергнуться репрессиям. Если философы и пытались как-то подрывать догмы заидеологизированной официальной философии, то только прибегая к разного рода скрытым подтекстам. После распада СССР Институт философии должен был устранить признаки бывшей официальной идеологии в структуре института. Важнейшим формальным признаком были названия отделов. В итоге решением заседания Учёного совета института от 26 ноября 1991 года были приняты соответствующие изменения. Большинство членов Учёного совета было согласно с тем, что такие изменения необходимы. В одних случаях нужно было пойти на создание принципиально иных отделов на базе уже существующих, в других — на частичные изменения или просто на более корректные их названия. О содержании этих изменений можно судить, ознакомившись со «Сравнительной таблицей изменений» (Протокол № 19). Пётр Йолон в разговоре со мной заметил, что ему пришлось убеждать Шинкарука отважиться на более радикальные изменения.
Самой радикальной стала ликвидация отдела диалектического материализма и создание вместо него отдела философской антропологии. Вполне уместен вопрос, почему отдел философской антропологии был создан именно на базе отдела диалектического материализма. Старшему поколению сотрудников института ответ хорошо известен, ведь сторонником диалектического способа мышления в институте был Шинкарук, стремившийся «гуманизировать» диалектику. В своей публикации 90-х годов «Хрущёвская „оттепель“ и новые тенденции в исследованиях Института философии АН Украины в 1960-х годах» он подчеркнул, что, в отличие от Копнина, он сосредоточил внимание не на «Науке логики» Гегеля, а на соотношении «Феноменологии духа» и «Науки логики». И далее отмечает: «„Феноменология духа“ и вывела меня непосредственно на философские проблемы воспитания, образования, культуры, личности и общества, человека как самосущего бытия».
Замечу, что официальное название отдела истории украинской философии Института философии в советский период было «отдел истории философии на Украине». Сегодня он переименован в «отдел истории философии в Украине». Предлоги «на» или «в» ранее (в СССР) несли в себе идеологический уничижительный оттенок: какая ещё там украинская философия в противовес «русской философии»?! И действительно, в России преимущественно использовали выражение «русская философия» (см. Э. Радлов. Очерк истории русской философии. — Петербург, 1920; Н. О. Лосский. «История русской философии». — М., 1991 и т. д.). Но если оставить без рассмотрения неуклюжее выражение «философия на Украине», то выражения «философия в Украине» и «украинская философия» могут сегодня использоваться как имеющие несколько различные смысловые оттенки. Так, когда мы говорим «история украинской философии», то выражение «украинская философия» преимущественно содержит смысловой оттенок, делающий акцент на национальных особенностях украинской культуры и связанного с ней миропонимания, а следовательно, философии.
Это действительно так, что философия, в отличие от естественных наук, чувствительна к национальному культурному контексту. Следовательно, есть основания говорить об американской, немецкой, французской, украинской философии. Каждая из этих философий представлена выдающимися философами, несмотря на диалог различных направлений в каждой из них и наличие взаимных влияний между ними. Однако выражение «философия в Украине» в некоторых случаях его использования может и не нести уничижительного смыслового оттенка. Очевидно, вполне оправданно говорить о состоянии исследования философии Гегеля в Украине, особенно когда украинский историк философии нацелен на выяснение толкования идей Гегеля в западной или немецкой философии, а не на рецепцию этих идей в украинском интеллектуальном пространстве. Это моё замечание направлено на то, чтобы под влиянием упомянутого уничижительного оттенка мы не впадали в другую крайность. И это касается других ситуаций, когда тени прошлого сохраняют свою власть над нами, хотя и негативным образом.
* * *
Восстановление в Институте философии репрессированных в 1972 году. В первой половине 90-х было восстановлено на должностях в институтах Академии наук большинство уволенных согласно постановлению Бюро Президиума АН УССР от 31 июля 1972 года, о котором я уже упоминал. Это постановление, с большим опозданием, было отменено Постановлением Бюро Президиума АН Украины от 1994 года, подписанным Б. Е. Патоном. На работу в Институт философии вернулись Фёдор Канак, Владимир Жмыр, Василий Бышовец, Сергей Кудра. Виктория Цымбал отказалась от восстановления на прежней должности. Из восстановленных в отделе истории украинской философии начали работать Сергей Кудра и Василий Бышовец. В 1993 году сотрудником нашего отдела стал также Юрий Бадзё, уволенный в 1965 году из Института литературы. К 1964 году он успел написать кандидатскую диссертацию по литературоведению, которую не защитил: за участие в протестах против арестов 1965 года был уволен из Института литературы. Позже сменил направленность своих интеллектуальных интересов на проблематику политической философии, с уклоном в украинские проблемы. До своего ареста работал над книгой «Право жить», опубликованной при содействии Фонда «Возрождение» уже во время его работы в Институте философии. После освобождения из заключения (1979–1988) занимался общественной и политической деятельностью. В 1990 году был избран председателем Демократической партии Украины, но на втором съезде партии (1992) отказался баллотироваться на эту должность и занялся интеллектуальным трудом. Из уволенных не вернулись в институт Евгений Пронюк (погрузился в общественную и политическую деятельность) и Николай Роженко.
Промедление с восстановлением Роженко стало причиной его конфликта с Шинкаруком. В газете «Голос Украины» (8.04.1992) он опубликовал статью под названием «Мимикрия» с очень негативной оценкой Шинкарука как философа. Я считал, что категоричность его оценок была вызвана чувством обиды в связи с промедлением своего восстановления. Он не был восстановлен на своей прежней должности даже после принятия упомянутого выше Постановления 1994 года, и это несмотря на многочисленные обращения от общественных и государственных учреждений. Имею в виду, в частности, и решение Комиссии по правам человека Верховной Рады, направленное вице-президенту НАН Украины П. Толочко председателем комиссии В. Буткевичем.
* * *
Отголоски давнего спора. В 90-х годах в Институте философии всё ещё продолжался спор между «логиками» и «диалектиками» — своеобразный «отголосок» былой полемики. В современной формулировке это была скорее оппозиция между теми, кто испытал влияние аналитической философии, и сторонниками диалектического способа мышления. Теперь она утратила остроту вследствие лучшего осознания определённых упрощений или, скажем, недоразумений, которые содержал прежний спор. Тем не менее существовало осознание того, что способы философского мышления Мирослава Поповича, Сергея Васильева, а также мой формировались под преимущественным влиянием «аналитической» школы, а не диалектической традиции. Последнюю, в обновлённом виде, наиболее выразительно представляли Владимир Шинкарук и Виталий Табачковский.
На протяжении всех двадцати лет своей работы в институте я подчёркивал, что объектом моей критики является спекулятивная диалектика как основа официальной марксистской философии, и утверждал, что такая диалектика склонна к злокачественным вариантам эссенциализма, к наивной онтологии, в которой явление понимается под углом зрения скрытой под ним сущности. А потому такой способ мышления, пусть неосознанно, полагался на воображение и не был склонен приучать людей к уточнению значения сказанного. Такой способ мышления и речи культивировала официальная философия «марксизма-ленинизма», чтобы обеспечивать идеологическую риторику средствами манипулирования массовым сознанием. Официальная версия диалектического материализма сочетала, на первый взгляд, несовместимые подходы: во-первых, претензию на научность и, во-вторых, диалектическую риторику, своеобразную поэтику, которая ссылалась на скрытые сущности — исторические закономерности, классовые интересы и т. п. Диалектическая поэтика позволяла создавать слова-ярлыки — то есть слова, значение которых оставалось вне анализа. Уже 20 лет не только в массовом мышлении, но и в мышлении многих украинских интеллектуалов, даже философов, мы снова и снова наталкиваемся на недоброкачественный эссенциализм, когда значение слов мыслится как скрытые за этими словами окончательные «сущности», которые скорее воображаемы, чем аргументированно утверждаемы. За этим стоит спекулятивная онтология, заимствованная у Гегеля.
О том, что тень давнего спора между «логиками» и «диалектиками» оживала в 90-е годы, свидетельствуют эмоциональные реакции Михаила Булатова на то, что его воспринимают как представителя диалектики в официальной версии диалектического материализма. Как могу судить по некоторым его высказываниям, в его воображении я также попал в их число. Был рад, что всё же достиг с Михаилом взаимопонимания незадолго до того, как он оставил работу в Институте философии. Так что наш давний спор завершился примирением.
Впрочем, он получил неожиданное продолжение в редких дискуссиях с Владимиром Белодедом, сотрудником нашего отдела. Он неизменно утверждал и сегодня утверждает, что главным недостатком моего способа философского мышления является неусвоение «уроков диалектики», в том числе и в её марксистском толковании. Эти споры не влияют на наши межличностные отношения, хотя я и делал попытки убедить г-на Владимира, что не отвергаю плодотворности диалектического способа мышления и речи, если речь идёт именно о «критической диалектике». Надеялся, что лучшее понимание сути нашей дискуссии было бы полезно и для его собственного способа мышления. Но я не смог его убедить.
* * *
Философская антропология. С энтузиазмом я воспринял открытие отдела философской антропологии. До своей смерти этот отдел возглавлял Виталий Табачковский. Наши отношения были дружескими, но неожиданно ухудшились. Это произошло из-за того, что я считал неоправданным говорить о «киевской философской школе» или «киевской мировоззренческо-антропологической школе», основателем которой Табачковский считал В. Шинкарука. На мой взгляд, эта характеристика является неоправданной, если слово «школа» употреблять в его академическом значении.
У меня не было желания вступать в эту дискуссию, поскольку он воспринимал мои предостережения слишком чувствительно, но всё же согласился высказать свои соображения в журнале «Критика» — в небольшой статье под названием «Риторика вместо аргументации» (март, 2004). В одном из случайных разговоров с Табачковским после этой публикации я понял, что он не считал мои критические замечания оправданными. Добавлю, что я ничего не имел против использования слова «школа» в его свободном (неакадемическом) значении, например для обозначения круга лиц из КГУ и Института философии, объединённых общением, преподавательской и исследовательской работой. Чем меньше обязательных критериев мы связываем со значением слова «школа», тем меньше оснований для спора о существовании «школы», и это общая процедура, касающаяся использования многих других терминов.
* * *
Социальная и практическая философия. Отдел социальной философии возглавил Анатолий Ермоленко. Важным его вкладом в «осовременивание» украинской философии стало исследование философии К. Апеля, Ю. Хабермаса и других, которых объединяют, говоря о немецкой коммуникативной философии. Речь идёт о подходе с точки зрения практической философии, поскольку в этом случае любое общение рассматривается под углом зрения коммуникативных действий с вниманием к мотивам таких действий и предпосылкам, от которых зависит продуктивность общения. В 1999 году А. Ермоленко опубликовал учебник «Коммуникативная практическая философия» с приложением переводов оригинальных текстов К. Апеля, Ю. Хабермаса, В. Хёсле. Он не только переводит на украинский язык произведения современных немецких философов, благодаря его стараниям отдел поддерживает регулярное общение с ними. Отношусь к нему с симпатией не только как к личности, важными и полезными для меня являются и случайные интеллектуальные беседы с ним.
Для более широкого круга моих читателей замечу, что выражением «практическая философия» обозначают не отдельный раздел философии, а подход к проблематике любого раздела философии — в той мере, в какой философские проблемы рассматриваются с точки зрения человеческой деятельности с учётом не только способов, но и мотивов действий. Это, в конечном счёте, побуждает к постановке предельных вопросов — как должен жить, вести себя и действовать человек. В центре внимания, таким образом, оказывается проблема выбора лучших жизненных перспектив — лицами, обществами, нациями и человечеством в целом. Но это одновременно даёт и определённый предметный «сдвиг» в использовании выражения «практическая философия», так как такой подход, несмотря на свою универсальность, касается прежде всего тех разделов философии, в которых первостепенную важность имеют мотивы действий и те ценностные убеждения, которые за ними стоят. Это прежде всего такие разделы философии, как этика, философия права, политическая философия, философия техники, философия религии, философские вопросы экологии и т. п. Но учитывая, что в центре внимания практической философии находятся не только выбор способов действия, но и мотивы действия, то философия ценностей и метаэтика составляют ядро «практической философии».
Из младших сотрудников Института философии проблемами практической философии также занимается Анатолий Ишмуратов. Я считаю, что мой «поворот» перед арестом от лингвистической философии к логике практического рассуждения получил развитие именно в его публикациях. Конечно, я не имею в виду влияние на него моих публикаций, речь идёт о его подходе к действиям с точки зрения логики практического рассуждения. В 1987 году он опубликовал исследование «Логический анализ практических рассуждений». Перед арестом я не успел что-либо опубликовать по этой тематике. В 90-е годы и в начале XXI в. Ишмуратов расширил свой подход в направлении выяснения мотивов действий и целеполагания, логики коллективных действий и конфликтологии. Так что случайное общение с Анатолием было интересным и полезным для меня.
Важным событием украинской интеллектуальной жизни стало основание в 1999 году благотворительной организацией «Центр практической философии» и Институтом философии журнала «Практическая философия». Я опубликовал в нём статью «Практическая философия» (2002, № 1). Выяснение принципов и процедур, соблюдение которых обеспечивает продуктивность общения, остаётся важным в украинской ситуации после распада СССР. Употреблённое здесь мной выражение «важное событие украинской интеллектуальной жизни» сразу же побуждает меня к самокритической рефлексии. Поднялись ли мы даже сейчас, спустя двадцать лет после распада СССР, до такого уровня интеллектуального общения, чтобы появление заслуживающих внимания журналов или книг стало событием?
* * *
Профессиональное самоопределение. Что же касается проблематики исследований, то место Института философии как учреждения, входящего в структуру Национальной академии наук Украины, среди научно-исследовательских и образовательных заведений понятно: он должен сосредоточивать в себе высокопрофессиональных учёных, занимающихся наиболее фундаментальными проблемами различных областей человеческой деятельности. Перечень разделов философии указывает на эту тематическую всеобъемлемость философского познания: философия человека (философская антропология), философия культуры, метафизика, эпистемология и философии наук (естественных и гуманитарных), этика и философия морали, социальная философия, эстетика и философия искусства, политическая философия, философия религии и т. д. Чтобы охватить такой широкий объём проблем, необходимо иметь большой коллектив высокопрофессиональных учёных. Я не буду здесь углубляться в проблему реформирования научно-исследовательских институтов НАНУ в направлении сосредоточения всех научно-исследовательских, в частности философских, исследований в университетах. Нынешние университеты в Украине из-за загруженности преподавательской работой, отсутствия соответствующей инфраструктуры и других проблем пока не готовы полноценно заменить научно-исследовательскую работу в Институтах НАНУ. Такая реформа остаётся проектом, рассчитанным на перспективу.
Крах коммунистического режима имел важнейшее положительное последствие для интеллектуальной деятельности — исчезновение идеологического контроля, страха перед репрессиями и, соответственно, негативного влияния самоцензуры. Но оставалась другая, более серьёзная часть работы — высвобождение из стереотипов мышления, взращённых «диалектическим материализмом» — основой «марксистско-ленинской» философии, которая должна была быть одним из средств манипуляции массовым сознанием. Выйти из плена сформированных стереотипов мышления легче было тем, кто годами находился в конфликте с официальной философией.
Поскольку я стал сотрудником отдела истории украинской философии, то этим уже очерчивались рамки моего профессионального самоопределения. Но история философии, пусть даже украинской, — слишком широкая сфера интеллектуальной деятельности. Она требует проработки большого круга философских источников. Даже выбор одного из исторических периодов в развитии философской мысли требует проработки такого количества текстов, что это непосильно для одного человека. Примером может служить исследование рукописного наследия профессоров Киево-Могилянской академии, особенно если учесть, что большинство этих текстов на сегодня представлены в латиноязычных рукописях, которых около сотни и которые, за отдельными исключениями, до сих пор не расшифрованы. К тому же история философии требует учёта разного рода контекстов, в частности контекста западной философской традиции, к которой исторически принадлежит украинская интеллектуальная культура. Короче говоря, исследовательская работа по истории философии требует высокого уровня эрудиции.
Чтобы облегчить мою ситуацию в начале 90-х, В. Шинкарук посоветовал мне заняться проблемами философии языка в письменном наследии Александра Потебни. Это соответствовало моим интеллектуальным интересам до заключения и сужало количество источников, которые нужно было проработать. Но я отказался от этого более лёгкого варианта, выбрав более трудный. Решил, что в центре моего внимания должно быть наличное состояние философского мышления в Украине под углом зрения его «модернизации» — в значении «осовременивания». А это означало преодоление последствий идеологического контроля и изоляции от западной философии ХХ в. Понятно, что преодоление таких последствий — слишком масштабный проект. Его выполнение требует коллективных усилий: перевода текстов на украинский язык и их толкования, поддержания общения с интеллектуалами разных наций, образования студентов в западных университетах и т. п.
Я должен был найти свой участок работы в этом коллективном деле. Первую свою цель, самую амбициозную, я условно обозначил как выяснение основополагающих понятий философии. Назвал это работой над Философским лексиконом. Это соответствовало моей приверженности аналитическому направлению в философии, поскольку речь шла о выяснении значений важнейших терминов. В большой степени к этому меня побуждало искажение значений философских терминов в интеллектуальной «культуре», унаследованной от «официальной» советской философии. Речь шла не только о мышлении большинства украинских философов и гуманитариев, но и о представлениях, чувствах и ценностных убеждениях, унаследованных в массовом менталитете от тоталитарной коммунистической империи. Преподавание основ философии для студентов было также важным побуждением к работе над «Лексиконом».
В центре моего внимания оказался лексикон политической философии: понятия политики и государства, идеологии, политических идеологий, гражданского общества, нации и национального государства, национализма и его разновидностей и т. д. Чтобы обсуждать на должном уровне политические проблемы, я должен был прилагать усилия для изучения некоторых тем из политической философии.
Предметом моих особых интеллектуальных интересов стала также современная западная философия, то есть философия ХХ в. За этим стояло признание того, что украинская философская мысль принадлежит к европейской философской традиции, а потому любая изоляция от европейской интеллектуальной традиции неизбежно оборачивается отсталостью для украинской интеллектуальной культуры. Уровень этой изоляции в СССР, особенно от философии ХХ в., был настолько значительным, что я считал преодоление этой отсталости важной задачей, одновременно осознавая, как я уже отмечал, что здесь нужны коллективные усилия. Это направление интеллектуальной деятельности стал обозначать словами «осовременивание» и «модернизация».
В русле упомянутого «осовременивания» философского мышления находится и мой интерес к украинской философии с начала 60-х годов ХХ в. до первых десятилетий XXI в. Стремился выбирать творчество людей, в публикациях которых находил признаки модернизации. К этому направлению примыкают также мои исследования творчества некоторых украинских интеллектуалов в диаспоре ХХ в. — Дмитрия Чижевского, Ивана Лысяка-Рудницкого, Владимира Старосольского, Евгения Лащика и др. Я считал, что эти мои статьи должны быть полезны студентам, изучающим историю украинской философии.
Значительное внимание уделял также образовательным потребностям: побуждением к этому было моё преподавание философии как общеобразовательной дисциплины. Работал над текстом учебника под названием «Основы современной философии». Непосредственным толчком к написанию текста стало моё участие в осуществлении всеукраинской программы «Трансформация гуманитарного образования», начатой в 1994 году по инициативе Фонда «Возрождение».
На протяжении всей работы в Институте философии, вплоть до 2009 года, приходилось сочетать упомянутые здесь интеллектуальные занятия с организационными усилиями. Имею в виду выполнение административных обязанностей в отделе истории украинской философии. Сначала, с 1992 года, обязанностей руководителя исследовательской группы, а затем, с 1997-го по 2009 год — обязанностей заведующего отделом истории украинской философии. Упомяну далее о некоторых проблемах, связанных с этой деятельностью.
* * *
«Навёрстывание упущенного»: Тарас Закидальский. Если в 90-е годы я имел определённые успехи в своём «навёрстывании упущенного», то только благодаря помощи друзей и знакомых. Первое место, не только хронологически, принадлежит Тарасу Закидальскому. Я уже упоминал о нём: он настойчиво пытался чем-то помочь мне и моей семье ещё в период моего заключения. На рубеже 80–90-х годов, ещё с некоторыми предосторожностями, приезжал в Киев, навещал нас в нашей квартире. Тогда он подарил мне целый ряд книг по философии — учебников и энциклопедий — для ознакомления с состоянием преподавания философии в западных университетах.
Ещё раньше Тарас передал мне книгу Карла Поппера «Нищета историцизма». Я считал полезной публикацию перевода этой книги на украинский язык ввиду наивного понимания «исторических закономерностей», унаследованного от официального исторического материализма. В течение двадцати лет, о которых здесь пишу, я считал, что проблематика философии истории мало известна в украинском пространстве интеллектуального общения. Между тем ознакомление с этой проблематикой является практически важным, в частности ввиду дискуссий по оценке исторических событий в украинско-российских и украинско-польских отношениях, в том числе недавних дискуссий с российскими историками по написанию так называемой «общей истории».
В 1991 году Тарас Закидальский обратил моё внимание на то, что Институт украинских исследований предоставляет стипендии на проведение исследований и что я могу подать соответствующую заявку. Ранее в наших разговорах г-н Тарас высказывал пожелание, чтобы в Украине были опубликованы основные произведения Дмитрия Чижевского, несмотря на его критические замечания к некоторым его работам и даже к его творчеству в целом. Так что он считал, что я мог бы воспользоваться стипендией для осуществления этого замысла. В то же время я испытывал острую нехватку источников для написания предисловия к своему переводу «Нищеты историцизма» Карла Поппера.
Я отправил соответствующие документы, указав, что намереваюсь собирать тексты Чижевского для издания его произведений. Благодарен Институту украинских исследований за положительный ответ на мою заявку: получил уведомление об этом, датированное восьмым июля 1991 года, подписанное директором Института доктором Фрэнком Сысыном. В уведомлении было сказано, что меня будет курировать Тарас Закидальский и что я буду работать при Торонтском университете. Хотя моё пребывание в Торонто было определено сроком в два месяца, но по моей просьбе мне продлили визу — в связи с моей поездкой в США. Вернулся в Киев 31 декабря 1991 года.
Тарас Закидальский предложил мне поселиться в их двухэтажном доме на втором этаже, в отдельной просторной комнате. Я познакомился с семьёй Закидальских — мамой Тараса, госпожой Натальей, его женой Оксаной и сыновьями — старшим Даниилом и младшим Орестом. Жизнь мамы Тараса была бы достойна отдельного повествования, как в её юные годы, так и во времена её пребывания в лагерях для перемещённых лиц. Она хранила в своей памяти много впечатлений, и я сожалею, что не приобрёл магнитофон и не настоял на том, чтобы она хотя бы устно вспомнила о важнейших событиях своей жизни. Госпожа Наталья регулярно присылала Вере письма и открытки. Я храню некоторые переданные ею фотографии — в частности, запечатлённую встречу Андрея Шептицкого с большой группой пластунов, среди которых, конечно, была и госпожа Наталья. Храню также пересланное ею едва ли не первое издание «Писем к матери» Андрея Шептицкого.
Мне было спокойно и уютно в кругу семьи Тараса. Тарас работал в Торонтском университете. Мы приезжали туда на его легковушке, и я шёл работать в библиотеку. У Тараса был лимит на бесплатное изготовление ксерокопий, которым я и воспользовался. Именно таким способом я сделал копии текстов, важных для написания предисловия к «Нищете историцизма» К. Поппера.
* * *
Нью-Йорк. Решил воспользоваться случаем, чтобы побывать в Нью-Йорке. Заранее договорился с Надей Светличной, что навещу её. Из Нью-Йорка добрался к Наде автобусом. 1 декабря в Нью-Йорке принял участие в референдуме в подтверждение Акта провозглашения независимости Украины, принятого постановлением Верховной Рады от 24 августа 1991 года.
Увидеть этот город было моей мечтой: я представлял его как воплощение возможностей строительной индустрии и величия архитектуры, устремлённой к небу своими небоскрёбами. Я действительно пережил это впечатление вместе с ощущением малости людей, затерявшихся у подножия этих бетонных великанов. И всякий раз, когда я вижу эти гигантские здания, у меня появляется чувство тревоги о безопасности людей — ввиду разнообразных факторов, природных и человеческих, которые могут повлечь массовую гибель. Бродил по улицам Нью-Йорка, побывал у здания и в здании ООН (осмотр внутренних помещений ООН разрешён экскурсантам). Осуществил ещё одну свою мечту — посетил Музей современного искусства.
Но главной целью моей поездки в США было посетить Украинский научный институт Гарвардского университета и поговорить с Григорием Грабовичем о подготовке и публикации произведений Дмитрия Чижевского. По каким-то причинам тогда Грабович отказался присоединиться к осуществлению этого издательского проекта. Я далее ещё упомяну о его предложении 2003-го или 2004 года передать более или менее подготовленные тексты Чижевского для издания его произведений в издательстве «Критика». Я потом сожалел, что не согласился это сделать, о чём ещё упомяну в дальнейшем.
По приглашению Романа Шпорлюка я навестил его дома. Он и его жена очень доброжелательно приняли меня. Наш разговор происходил за столом в большом зале первого этажа их двухэтажного дома. На протяжении нашего разговора у меня было ощущение какого-то «сиротства» или «оставленности» этих двух людей в этом большом доме. Деталей нашего разговора я не помню, но думаю, что он касался общей темы наших интеллектуальных интересов — формирования украинской нации и роли идеологии национализма в этом формировании. Господин Роман подарил мне свою статью, касавшуюся русского имперского национализма.
Была у меня также встреча с Аллой Глазман и её мужем Сергеем Каном. Встреча состоялась, когда они направлялись на еврейский религиозный праздник, пригласили на него и меня. В довольно просторном помещении собралось что-то около двух десятков человек. Мне предложили кипу, так что я стал участником ритуала. Это дало повод для некоторых интересных наблюдений. Мне бросилось в глаза явное преобладание символического содержания еврейских религиозных обрядов.
Сергей Кан занимался антропологией, в которой, в американском употреблении этого слова, преобладало исследование первобытных обществ. В разговоре с Сергеем я высказал просьбу, чтобы он, когда у него будет такая возможность, передал мне какую-нибудь книгу, которая касалась бы скорее общих, в частности методологических, вопросов антропологии. Он не забыл об этой моей просьбе и позже передал очень полезную для меня книгу «Философские корни антропологии» Уильяма Адамса (William Y. Adams. The Philosophical Roots of Anthropology. Stanford, 1998).
* * *
Богдан Витвицкий. Во время пребывания в США на одной из вечеринок в узком кругу я познакомился с Богданом Витвицким и Евгением Лащиком. Богдан сначала специализировался в философии, но из-за отсутствия работы позже сменил профессию, получив юридическое образование. Ранее я уже упоминал об опубликованной им статье в журнале «Сучаснисть» за 1984 год (№ 7–8, № 9) с обзором журнала «Философская мысль» за 1970–1979 годы. В этом обзоре он упоминает также о моих публикациях в этом журнале. В первой половине 90-х годов Богдан пересылал мне англоязычные книги по философии, которые, на его взгляд, могли бы быть полезны мне в моей работе. Я благодарен ему за эту доброту, но, в конце концов, попросил не делать этого, потому что старался выбирать себе только те книги на английском и немецком языках, которые лежат в русле моих интеллектуальных интересов. Для этого мне нужно было самому предварительно просматривать книгу. Позже у меня было несколько встреч с Богданом в Киеве, в том числе в последние годы.
* * *
Норвегия: Бергенский университет, 1997 год (03.10–23.12). С точки зрения ознакомления с философскими источниками, которые касались преимущественно «современной» западной философии (конец XIX — начало XX в.), наиболее плодотворным оказалось моё трёхмесячное пребывание в Бергенском университете, в Центре исследования научных теорий (Center for the Study of the Sciences and the Humanities, в переводе на украинский дословно: Центр исследования наук и гуманитаристики).
* * *
Руководство исследованиями в отделе. По инициативе Валерии Ничик и при поддержке Владимира Шинкарука в 1992 году я возглавил сектор памятников украинской и мировой философской классики. Отделы в Институтах НАН Украины тогда делились на «секторы», позже их стали называть «исследовательскими группами». Сегодня в нашем отделе две исследовательские группы, специализирующиеся на двух периодах истории украинской философии: X–XVIII и XIX–XXI вв. Название упомянутого сектора было инициировано мной, но в формулировке «сектор памятников украинской и мировой философии». Но дело не в названии. Фактически это был амбициозный замысел, заключавшийся в том, чтобы объединить публикацию некоторых важнейших произведений мировой и украинской философии.
В 1997 году по инициативе В. Ничик и при поддержке В. Шинкарука и Учёного совета института я стал руководителем отдела истории украинской философии — тогдашнее название «отдел истории философии на Украине». Хотя организация научно-исследовательской работы не требует такого объёма ежедневных действий, как в руководстве бизнесом, но всё же связана с решением сложных проблем. К тому же авторитет любого научного руководителя зависит от его собственных интеллектуальных достижений. Важной и нелёгкой для решения проблемой является также обновление личного состава учёных с точки зрения перспективы — обеспечения должного уровня будущих исследований. Этого нелегко достичь в Украине, где на протяжении двадцати лет независимости на общественном и государственном уровне преобладает низкая оценка интеллектуального труда.
Учитывая это, пополнение молодыми учёными является задачей решающей. Первое требование к молодому учёному — наличие базового философского образования. Правда, возможны вполне оправданные исключения из этого правила, например, когда человек имеет базовое образование по определённой специальной науке и хочет заниматься философскими проблемами этой науки. Лучше всего, конечно, чтобы человек окончил вдобавок ещё и философский факультет или по крайней мере прослушал отдельные курсы лекций на этом факультете — по истории философии, по общим проблемам философии и т. п. Но это скорее идеальные требования.
Источником самых больших трудностей, с которыми сталкивается каждый, кто занимался организацией научных исследований в независимой Украине, является потеря престижа учёного из-за низкой заработной платы и отсутствия какой-либо перспективы обеспечить себя жильём. Это охватывает широкий слой людей с высшим образованием — учителей, врачей и др. Любой молодой человек, как бы энтузиастично он ни относился к своему призванию быть учёным, оказывается в ситуации, когда его выбор в пользу интеллектуального труда подвергает его серьёзным трудностям в решении жизненных проблем. В независимой Украине положение учёных в системе НАН Украины, да и в высших учебных заведениях, даже ухудшилось по сравнению с их положением в СССР в 60–80-е годы. Это объясняет переход способных учёных в бизнес, «утечку мозгов» в западные страны и т. п. Иногда замечают, что настоящие энтузиасты не отказываются от своего призвания, но сторонники эксплуатации энтузиазма не учитывают, что отвлечение на бытовые хлопоты неизбежно снижает результативность научно-исследовательской деятельности. На смех и на грех власть дошла до того, чтобы начать кампанию борьбы с «грантоедами», дабы лишить учёных даже тех скромных доходов, что их предлагают западные институции. Определённую роль играет и общая система организации научных исследований, в частности в НАН. Она не претерпела принципиальных изменений после распада СССР. Об этом много говорилось, в том числе и на популярном уровне, достаточно ознакомиться с публикациями Максима Стрихи на эту тему в газете «День».
Политики, способные влиять на принятие соответствующих решений, на протяжении двадцати лет неизменно заявляли и заявляют о необходимости лелеять интеллектуальный потенциал Украины, но на практике старались больше заботиться об обеспечении себя, чем о взращивании этого потенциала. В своём интервью газете «День» от 20 апреля 2011 года президент НАН Украины Борис Патон заметил: «Для того чтобы наука в нашей стране развивалась, нужны надлежащая её поддержка со стороны государства и понимание обществом роли науки».
* * *
Переводы. Настроенность на то, чтобы рассматривать украинскую философию в контексте европейской, а шире — западной философской традиции, склоняла меня к тому, чтобы на своих «руководящих» должностях в отделе я ценил у сотрудников знание европейских языков — как древних, так и новых, их способность и желание переводить философские тексты с западных языков и проводить соответствующие сравнительные исследования. В этом я подражал Валерии Ничик. Не буду здесь говорить о направленности её интеллектуальных интересов и её методологических установках, отсылая заинтересованного читателя к своей статье в сборнике текстов, посвящённом её памяти, — «Украина XVII века» («Критика», К., 2005).
При содействии Ничик в отделе к моменту моего возвращения в институт из старшего поколения уже работал Владимир Литвинов (1936 г. р.). Он составил объёмный латинско-украинский словарь, с включением части латинской лексики, употребляемой профессорами Киево-Могилянской академии (К., 1998), перевёл с латинского тексты Эразма Роттердамского, «Богословско-политический трактат» Бенедикта Спинозы и сочинения Цицерона. Сегодня работает над дополненным латинско-украинским словарём, и дай Бог ему сил завершить эту работу. «Латинистов» сегодня в отделе трое: кроме Литвинова это Ярослава Стратий и, из свежего пополнения, Николай Сымчич. Рад, что в этом году вышли в свет сочинения профессора Киево-Могилянской академии Иннокентия Гизеля, переведённые с латыни Ярославой Стратий и Николаем Сымчичем, с параллельной подачей латинского текста — критической расшифровки соответствующей рукописи (И. Гизель. Избранные произведения. — Киев—Львов: «Свичадо», 2011. — Т. II).
Ограниченность интеллектуального ресурса в Украине в целом стала очевидной в связи с нашей инициативой опубликовать в переводе на украинский язык хотя бы важнейшие диалоги Платона. Помню, обратился к Тихолазу из Киево-Могилянки, не перевёл бы он на украинский язык «Метафизику» Аристотеля. Он категорически отказался, сказав, что это слишком трудоёмкая работа. Мы также искали, кто в Украине способен взяться за перевод диалогов Платона. Обратились к Иосифу Кобиву из Львова. Он, как энтузиаст этого дела, согласился и привлёк к этой работе также Юрия Мушака, тоже из Львова и опять-таки из «старой гвардии». Среди молодых не смогли найти никого. На философском факультете Киевского университета тогда ещё не готовили специалистов по истории философии, способных читать и переводить тексты с латинского и древнегреческого языков.
Что же касается древнегреческого языка, то за время своего заведования отделом я так и не смог найти кого-то, кто на должном уровне знал бы древнегреческий и, желательно, староболгарский, чтобы на уровне текстологических исследований подтвердить влияние античной философии в период Киевской Руси да и позже. Попытки таких сравнительных исследований делались (например, статья Дмитрия Чижевского «Платон в Древней Руси»), но теперь желательно было бы продолжить изыскания на эту тему на большем количестве источников и лучшем методологическом уровне. Необходимость иметь такого человека в нашем отделе очевидна, и не только для исследования древнейшего периода интеллектуальной истории Украины: существует явная потребность в профессиональной оценке современных и будущих переводов с древнегреческого на украинский.
Так что дело с переводом диалогов Платона явно затягивалось и, казалось, становилось безнадёжным. И тут выручил Олекса Логвиненко, который тогда возглавлял издательство «Основы». Он предложил, чтобы издательство взяло на себя подготовку издания. Я с радостью согласился. Было принято соответствующее решение, и в конце концов эта скромная книга переводов всё же была опубликована в 1995 году (второе издание — 1999 год).
Что касается переводов с новых европейских языков, то Нина Полищук перевела ряд текстов с английского (для антологий «Консерватизм», «Национализм», «Либерализм») и редактировала отдельные тексты для издательства «Основы». Наталья Филипенко перевела с английского книгу Альфреда Тарского «Понятие истины в формализованных языках» (К.: Стилос, 1998). Игорь Гарник, который в середине 90-х исполнял обязанности редактора в нашем отделе (позже перешёл на преподавательскую работу в Международный институт лингвистики и права), перевёл с английского небольшую книгу Брайана Дейвиса «Введение в философию религии» — опубликованную в 1996 году издательством «Основы», однако она не охватывала упомянутую в названии проблематику на современном уровне. Но даже сегодня, в начале 2011 года, насколько мне известно, не опубликовано в украинском переводе ни одного такого введения в философию религии, которое охватывало бы все важнейшие темы и проблемы этого раздела философии. С немецкого перевёл ряд текстов, в частности для упомянутых выше антологий, Юрий Бадзё.
* * *
Амбициозный проект. При редколлегии «Философской и социологической мысли» в первой половине 90-х было начато издание произведений под общим названием «Библиотека журнала „Философская и социологическая мысль“» с двумя сериями — «Украинские мыслители» и «Классики мировой общественно-политической мысли». Основание этих серий стало возможным благодаря поддержке Юрия Прилюка, который играл ведущую роль в тогдашних издательских делах в Институте философии и был причастен, насколько мне известно, к основанию издательства «Абрис». Вторым энтузиастом этих начинаний был Владимир Жмыр. Он согласился быть главным редактором обеих серий. В серии «Украинские мыслители» были опубликованы избранные произведения П. Юркевича и Б. Кистяковского, во второй — мой перевод книги К. Поппера «Нищета историцизма» и книга Т. Гоббса «Бегемот» в переводе Льва Биласа.
Публикацию книги Карла Поппера «Нищета историцизма» считал важной в украинском пространстве интеллектуального общения, поскольку она подрывала наивные представления об исторических закономерностях, внедрённые официальной версией исторического материализма. Сегодня тираж этой книги давно разошёлся, а я не приложил усилий, чтобы уговорить какое-нибудь издательство переиздать её в более качественном формате. «Абрис» имел слишком ограниченные финансовые возможности, чтобы обеспечивать качественную полиграфию.
* * *
Лев Билас. Не могу не упомянуть досадный случай, произошедший с подготовкой к печати упомянутой книги Гоббса «Бегемот» в переводе Биласа. Об интеллектуальных интересах Биласа читатель может узнать из статьи Ярослава Исаевича «Известный и неизвестный Лев Билас», опубликованной в журнале «Сучаснисть» за 2003 год, № 5. Эта статья заинтересовала меня особенно тем, что её автор сделал акцент на интересе Биласа к вопросам философии и методологии исторических исследований. При этом он заметил, что публикация в Украине должным образом отобранных исследований Биласа могла бы быть полезной с точки зрения повышения уровня критического самосознания украинских историков.
Моё общение с Биласом началось в начале 90-х годов: во время приезда в Киев он с женой остановился у нас на несколько суток. Мы с Верой тогда время от времени жили в Подгорцах, так что супруги могли воспользоваться нашей квартирой. Я попросил Биласа, не согласился бы он прочесть мой перевод книги Карла Поппера «Нищета историцизма» и сделать свои замечания. Он согласился и вскоре передал мне текст с постраничными замечаниями. Большинство из них были мной учтены в последней редакции текста. Об этой помощи Льва я с благодарностью упоминаю в конце своего предисловия к книге, опубликованной издательством «Абрис».
Не помню точно год, но примерно в середине 90-х Билас предложил для публикации свой перевод упомянутой выше книги Гоббса. Текст требовал редактирования с учётом стандартов украинского литературного языка, но редакторы превысили свои полномочия, не учтя исторический контекст, ведь некоторые слова в речи Гоббса обозначают определённые исторические понятия и реалии. То есть здесь речь шла не о языковой, а о содержательной стороне. Я же виноват в том, что не настоял, чтобы текст после редактирования был снова пересмотрен Биласом. Когда издательство «Абрис» опубликовало перевод, то Билас, читая опубликованный текст, обнаружил большое количество ошибок, обусловленных литературным редактированием. Эта неудача угнетала меня, оставив чувство вины. К тому же книга была отпечатана очень экономно, в малом формате, а страницы распадались при перелистывании.
* * *
На переводческую работу я тратил значительную часть моего времени и сил. Переводил преимущественно то, что считал важным в украинском интеллектуальном пространстве, как, скажем, тексты по методологии гуманитарных наук. Сделал наспех перевод небольшой книги Питера Уинча «Идея социальной науки», но не довёл его до состояния готовности к публикации. Влияло на это моё безразличие и то, что имел замысел подготовить и опубликовать антологию текстов по общим проблемам методологии гуманитарных наук и при этом считал, что одновременно должна быть опубликована антология по герменевтике. Думал, что образцом такой антологии может служить англоязычное издание «Герменевтическая традиция: от Аста до Рикёра» (The Hermeneutic Tradition. From Ast to Ricoer. Edited by Gayle L. Ormiston and D. Scyrift. New York, 1990). Создание разного рода антологий и хрестоматий для образовательных целей — общепринятая практика. Преимущество сборников текстов разных авторов в том, что в них предлагаются различные подходы и дискуссии вокруг отдельных проблем, что способствует развитию критического и творческого мышления у студентов. Ведь текст, написанный одним автором, ограничен индивидуальным авторским подходом, и это обедняет изложение проблем, рассмотренных под другими углами зрения.
Больше всего усилий и времени в конце 90-х годов забрала работа над переводами для антологий «Консерватизм», «Национализм», «Либерализм», опубликованных в издательстве «Смолоскип». Речь шла опять же о подготовке таких сборников текстов, в которых украинская политическая философия была бы «вписана» в западную традицию политической мысли. Подавляющую часть организационной работы по подготовке антологий взял на себя Олег Проценко.
* * *
Отделом я заведовал до сентября 2009 года, когда по своей инициативе и при поддержке директора института М. Поповича передал эстафету Сергею Иосипенко — представителю молодого поколения учёных. В своём выборе я руководствовался несколькими установками. Первая — элементарная, чтобы человек имел фундаментальное философское образование, окончил философский факультет. Вторая — чтобы учёный, который возглавит отдел, мог «видеть» украинскую философию в контексте западной интеллектуальной традиции, к которой она фактически принадлежит. Сергей Иосипенко переводит философские произведения с французского на украинский и активно поддерживает контакты с французскими философами. Вместе с тем он занимается историей украинской философии, интересуется методологическими проблемами историко-философских исследований. Третья важная установка заключалась в том, чтобы заведующий отделом понимал потребность в «модернизации» философского мышления в Украине как важный, если не решающий, фактор в модернизации украинской интеллектуальной культуры в целом. Важны также организаторские способности. За год работы Сергея Иосипенко на должности заведующего отделом убедился в наличии у него таких способностей. Убедился также в его толерантном отношении к разным способам философского мышления, стилям философского письма, а также в корректном отношении к сотрудникам. Так что считаю свой выбор удачным.
* * *
Преподавание философии. С работой над выяснением «основ» философии согласовывалось моё преподавание философии в Международном институте лингвистики и права (теперь Киевский международный университет), расположенном в Святошине. Философию я преподавал на факультете лингвистики с 1995 года до конца 90-х, а в 1998–1999 годах также политологию для филологов и журналистов. Лекции читал для большой студенческой аудитории (около сотни студентов) и проводил семинары отдельно в каждой группе. Мне нравилось читать лекции для больших аудиторий. В отличие от преподавания философии в Тернопольском медицинском институте и затем в Киевском университете, теперь мне не нужно было учитывать идеологические ограничения. Чувствовал понимание студентами моих лекций и получал моральное удовлетворение от своей работы.
Если оставить в стороне интеллектуальные дискуссии в узком кругу интеллектуалов, любимым стилем моей публичной речи является прежде всего лекция. Благоприятным обстоятельством в Институте лингвистики и права было то, что я мог организовывать свой курс лекций, исходя из того, что мои слушатели начинают изучение философии с «чистого листа». То есть исходил из предпосылки, что читаю свои лекции для молодёжи, которая только из моих лекций начинает знакомиться с проблемами философии. Как я убеждался на семинарах, в каждой группе находились студенты — и, к моему удивлению, чаще студентки, — которые вызывали у меня восхищение пониманием содержания тех проблем, которые я разъяснял на лекциях. Просматривая конспекты одной из студенток, я был приятно удивлён текстом, который свидетельствовал о её понимании моих изложений. Я до сих пор храню эти её записи, которые она мне подарила по моей просьбе. Выпросил у неё конспекты, чтобы использовать их при подготовке «Основ философии». Эти лекции в Институте лингвистики и права я считал вершиной своего преподавания основ философии.
И всё же проведение семинаров и приём экзаменов в институте отнимали много времени. К тому же далеко было добираться — от метро «Черниговская» до «Святошина» (нынешние две конечные станции тогда ещё не были построены). Так что я решил оставить преподавание, хотя и жалел позже. Мне не хватало того доброжелательного восприятия моих лекций студентами и моих дружеских взаимоотношений с ними, которые были важным источником моего педагогического энтузиазма.
В конце 90-х годов Вилен Горский, который тогда возглавлял кафедру философии в Киево-Могилянской академии, предложил мне с сентября 1999 года читать введение в аналитическую философию для философов в КМА. Это произошло в ситуации, когда Тарас Закидальский (из Торонто), который до этого читал этот курс, повредил ногу и не смог приехать в Киев. Но, учитывая, что подготовка этих лекций потребует от меня значительных усилий, я отказался. Горский считал это моё решение ошибочным.
К тому времени, наверное, с 1988 года, я уже читал курсы политических идеологий и современных западных политических теорий в КМА для бакалавриата и магистратуры. Какой-либо переведённой книги по современным западным политическим теориям на тот момент не было. Я взял за основу англоязычный «Новый учебник политической науки» (A New Handbook of Political Science. Ed. by Robert E. Goodin and Hans-Dieter Klingeman. Oxford, 1996). Он стал результатом дискуссии, организованной Международной ассоциацией политической науки (International Political Science Association). Я делал ксерокопии отдельных глав, чтобы студенты могли готовиться к семинарам. Некоторые тексты брал из своей, на тот момент уже опубликованной книги «Культура — идеология — политика».
В конце 90-х годов я уже мог предлагать студентам переводы текстов из антологий политических идеологий, изданных совместно с Олегом Проценко. Первое издание «Консерватизма» вышло в свет в 1998 году, «Национализма» — в 2000-м, а «Либерализма» — в 2002-м. Меня интересовала больше политическая философия, чем конкретные политические теории. Но поскольку политическая философия непосредственно с ними связана, то, по мере своих возможностей, я вынужден был знакомиться с состоянием политической науки («политологии»). С другой стороны, меня не удовлетворяло преподавание политологии в высших учебных заведениях в отрыве от политической философии. Понятно, что мой интерес к последней был в большой степени обусловлен политической ситуацией в Украине.
Но в процессе преподавания политической философии, политических идеологий и политических теорий в КМА я чувствовал, что не достигаю желаемого результата. К тому же чувствовал себя перегруженным. Это склоняло меня к решению отказаться от преподавания. Кроме того, в группе студентов, которым я в последний раз читал свои лекции, я столкнулся с отрицанием частью студентов важности украинского национального сознания в украинской политике, в частности украинского языка. Речь шла о соотношении этнонационального и гражданского факторов в украинской политике. Меня поддержали лишь несколько студентов, в частности Александр Палий. В заключение я заявил, что отказываюсь от преподавания. На самом деле не эта полемика стала главной причиной моего решения — к тому времени я его уже принял.
* * *
В течение двадцати лет речь шла о выведении философских дискуссий на более высокий уровень качества — как в обсуждении основополагающих проблем философии, так и проблематики каждого из основных разделов философии. Проявлением этой систематичности является «распаковка» философских проблем по определённым разделам или, иначе, философским наукам. Это облегчает специализацию и преподавание философии. Традиционно к основным разделам современной философии мы преимущественно относим эпистемологию, логику и философию науки, философию языка, метафизику, философские основы этики, философию права, социальную и политическую философию, философию истории, эстетику и философию искусства, философию религии. Кроме этих разделов можно указать на философию культуры и философские вопросы этнологии, философскую антропологию и философию ментальности (философию духа — от англ. philosophy of mind). Кроме того, в течение двадцати последних лет считал важным (начиная со старших классов средней школы, а особенно на уровне общего высшего образования) усвоение элементарных основ семиотики. Это соответствует процессу превращения индустриальных обществ в постиндустриальные или, иначе, информационные. Но семиотика, хотя и была развита в значительной степени в русле философии, является скорее междисциплинарной наукой, как и связанная с ней семантика, которую Чарльз Моррис совершенно оправданно считал подразделом семиотики.
Что касается выражения «практическая философия», то им мы обозначаем не раздел философии, а рассмотрение любой разновидности человеческой деятельности под углом зрения философии действия — мотивов действия, его последствий и т. п. А потому, в противовес теории, основой практической философии является философия ценностей и этика. Бесспорно, что текст философа, письменный или устный, который касается проблематики любого из указанных разделов философии, можно рассматривать под углом зрения практической философии. Но всё-таки логика, эпистемология, философия науки, метафизика в большей степени теоретичны: центральной проблемой в них является проблема истины. В то же время в этике, философии права, социальной и политической философии, эстетике, философии искусства, философии религии и в большой степени также в философии истории в центре внимания находятся действия и способы поведения, а соответственно и те ценностные убеждения и идеалы, которые их мотивируют. Иначе говоря, выражением «практическая философия» мы обозначаем скорее определённый подход, метод — как это мы имеем в случае определённых философских направлений: «диалектика», феноменология, прагматизм, экзистенциализм, герменевтика и т. п. Хотя специализация наук — превращение разделов в отдельные поднауки отдельной науки — часто действительно связана с появлением новых методов, но различение предметных и методологических аспектов науки является важным.
* * *
Методология истории философии. Особым разделом философии является история философии. Особенностью этого раздела является всеобъемлемость историко-философских исследований, ведь они охватывают выяснение как основополагающих проблем философии, так и состояния мышления в каждом из разделов философии. Отсюда понятна моя склонность советовать аспирантам выбирать тему историко-философских исследований с ориентацией на проблематику определённого раздела философии. Это следствие усиления специализации — разветвления философии на философские науки. Для того же, кого интересуют основополагающие проблемы философии, первостепенное значение имеет обсуждение проблем, которые рассматриваются в метафизике как «первой философии». В таком случае в центре внимания оказываются общие основы «картин мира» — пониманий мира, в котором мы живём, и самих себя в этом мире. Задача метафизики состоит в том, чтобы указать на более обоснованные, «надёжные» миропонимания.
Своё понимание методологии историко-философских исследований стал обозначать как сочетание контекстуализма и перспективизма. Термином «контекстуализм» обозначаю объяснение текста в пространственно и временно локализованном контексте. Объяснение исторического события, деятельности определённого лица или любого произведения историческими обстоятельствами определённого времени является элементарным требованием исторических исследований. Особенность философии заключается в том, что, будучи частью культуры, она одновременно предлагает толкование особенностей миропонимания определённого общества, цивилизации, эпохи («эпистемы» у М. Фуко, категории средневековой культуры у А. Гуревича, коллективной психики, как это имеем у В. Вундта, и т. п.). В умеренном варианте говорят об определённом единстве разнообразия. И всё же философия не отражает пассивно наличествующую коллективную ментальность, а часто содержит элементы её критики, а следовательно, является фактором, нацеленным на изменение национальной ментальности, и способна быть источником радикальных изменений. Но здесь я не имею целью отрицать наличие определённых национальных особенностей интеллектуальной культуры, в частности философии.
В оценке интеллектуальных достижений определённого исторического периода, в случае наличия традиции или «прогресса» интеллектуальной жизни, мы неизбежно имеем сочетание ретроспекции с перспективой.
Историк философии должен рассматривать тексты и интеллектуальные дискуссии в их связи с интеллектуальными традициями — большими (западная, китайская, индийская и т. п.) и более узкими — региональными (англо-американская, континентальная) и национальными. Вследствие этого он неизбежно приходит к признанию важности историко-компаративных исследований, в частности в том более широком контексте, который преимущественно обозначают как «диалог культур». В течение упоминаемых двадцати лет я всячески осмысливал плодотворность этого «контекстуализма» в методологии историко-философских исследований. Поскольку речь идёт об осмыслении отдалённых эпох в собственной культуре или, тем более, в «чужих» культурах, то неизбежно возникает потребность в использовании герменевтических подходов. Поэтому для меня стало важным использование в историко-философских исследованиях герменевтических концепций Ю. Хабермаса, П. Рикёра, Г. Гадамера.
Термином «перспективизм» я обозначаю не только попытки философов давать ответ на практические проблемы своего времени, но и нацеленность любого написанного текста в будущее или даже в «вечность» (согласно выражению Поля Рикёра).
* * *
Политическая философия. Нельзя сказать, что синтетические исследования духовной истории украинцев оставались ранее без внимания украинских интеллектуалов. Но сегодня назрела потребность в исследованиях на обновлённом методологическом уровне и с осознанием острой их актуальности: ведь речь идёт о потребности в радикальных преобразованиях массовой ментальности украинцев как залоге успешного утверждения украинской модерной нации и национального государства.
Из указанного понятно, почему в течение двадцати лет, о которых здесь пишу, в центре моего внимания, да и не только моего, оказались проблемы политической философии — идеология и массовая ментальность, гражданское общество, понятие нации и формирование украинской нации, идеология национализма и т. п. Кроме того, для меня оставалась важной ориентация рассматривать политическую философию не как самостоятельную дисциплину, а как раздел философии, тесно связанный с другими её разделами.
Именно в рамках таких более широких подходов возможно разграничение внешних (геополитический контекст) и внутренних причин, несмотря на их взаимосвязанность и переход одних в другие. Очевидно, что в результате определённых исторических обстоятельств вес какого-либо внешнего фактора может стать решающим. Так, например, включение в состав Российской империи радикально изменило ход украинской истории, что дало основание Тарасу Шевченко для резкого осуждения решения Богдана Хмельницкого. Эта тема остаётся актуальной, о чём свидетельствует публикация издательством «Смолоскип» сборника статей под названием «Последствия Переяславской рады 1654 года» (2004). Считаю, что существуют вполне резонные основания подчёркивать важность анализа унаследованных представлений, ценностных убеждений и способов поведения, сформированных нашим недавним прошлым — пребыванием украинцев в составе коммунистической тоталитарной империи, ведь сочетание террора с идеологическим зомбированием должно было создать комплексы на уровне массового подсознания. И так же существуют совершенно очевидные основания учитывать влияние на современную Украину неоимперских стратегий и тактик в политике современной России, ведь эти практики направлены на сохранение унаследованных злокачественных стереотипов как в массовой ментальности этнических украинцев (национальный нигилизм), так и этнических русских в Украине (шовинизм).
Что касается внутреннего наследия в духовной истории украинцев, то это должно быть предметом разнотематических исторически ориентированных исследований: этнологических, нациологических, социально-психологических, религиозных, культурных, интеллектуальных. Важными темами исследований являются, в частности, древнейшие наследия, принятие христианства, его национальная модификация (украинское христианство), влияние внешних политических обстоятельств на украинскую духовность, роль профессиональной культуры и науки, которая становится ведущей в индустриальных обществах. В последнем случае речь идёт о формировании так называемого модерного массового сознания в контексте формирования украинской модерной нации. Но, независимо от конкретики, когда речь идёт о духовной истории украинцев, то акцент на положительном в духовном наследии украинцев неизбежно должен быть соединён с критикой негативного наследия («дух руины» и т. п.).
* * *
Интеллектуальное наследие. В оценке выдающихся украинских интеллектуалов преобладает склонность ограничиваться общими положительными характеристиками, и эта диспропорция бросается в глаза, по крайней мере на популярном уровне. А потому, в отличие, скажем, от оценки Канта или Гегеля, остаётся неясным конкретный вклад определённого украинского интеллектуала или философа в сокровищницу украинской интеллектуальной культуры, ведь интеллектуальные достижения каждого из известных европейских интеллектуалов неотделимы от значительных ограничений и даже ошибок. Эти односторонности, ограничения, ошибки делают профили этих интеллектуалов не только рельефными, они делают возможными критику и диалог с ними, что является одним из важных стимулов интеллектуального прогресса. Это действительно так, что выдающиеся философские произведения содержат смыслы, «нацеленные в вечность», но выявить эти смыслы мы можем, когда указываем на то, что утратило свою ценность.
* * *
Модернизация и массовый менталитет. Вполне оправдано рассматривать «осовременивание» философии и других гуманитарных наук в более широком контексте преобразований, которые сегодня обозначают словом «модернизация». Оставляю здесь пока в стороне свои размышления о значении этого термина, в частности о общем и различном в «путях» модернизации разных наций.
Сегодня «модернизация» — популярное слово. Но, к сожалению, использование его политиками в России и Украине в значительной степени дискредитирует этот термин, потому что фактически он стал средством политической риторики, которая скорее прикрывает ориентированность на обеспечение корыстных интересов лиц и кланов. И всё же слово «модернизация» является полезным «маркером»: с ним связывают определённые показатели зрелости и эффективности разного рода реформ, в частности стандарты, внедрение которых является условием присоединения Украины к ЕС. Речь идёт о модернизации различных направлений деятельности и соответствующих сфер общественной жизни — политической и правовой системы, экономики и социальной структуры, системы образования и т. п. Понятно, что в этом значении термин «модернизация» не мыслится под углом зрения оппозиции «модерн–постмодерн»: наоборот, учёт некоторых изменений, вызванных постмодерным поворотом, так же как и критика негативных общественных и интеллектуальных тенденций, порождённых постмодерным поворотом, считаются признаком современного мышления.
Оценка продвижения в направлении модернизации преимущественно касается деятельности политиков. Но очевидно, что самой глубокой предпосылкой процесса модернизации являются всё-таки преобразования на уровне массового менталитета.
Это действительно так, что основная ответственность за состояние массового менталитета лежит на украинской интеллигенции, — философах, гуманитариях, журналистах, школьных учителях и преподавателях высших учебных заведений, ведь прежде всего они должны развивать у граждан критическое самосознание как залог преодоления унаследованных представлений, понятий, ценностных убеждений, способов мышления и поведения. Но важным является осознание самой проблемы на уровне отдельного гражданина как важный стимул развивать в себе критическое самосознание. Ведь, в отличие от феодальных обществ, в которых аристократическая культура была в значительной степени изолирована от народа, в демократических государствах, с разной степенью зрелости демократии, качество интеллектуальной элиты в большой степени зависит от состояния массового менталитета. Это следствие демократизации образования.
* * *
Религия и философия. В монистических религиях Бог является духовной вершиной, а вера в Бога — источником основополагающих духовных ценностей, прежде всего моральных. Известная установка «Познайте истину, и истина сделает вас свободными» основывается на убеждении, что прежде всего вера является путём к познанию истины. В христианстве роль разума, интеллектуальной интуиции, воображения и чувства неоспорима: все способности, дарованные Богом, не должны быть в пренебрежении. Но вера, опираясь на все эти способности, должна возвышаться над ними. Так что, хотя вера должна быть разумной, она выходит за пределы разума, возвышается над ним. Христианство, как и некоторые другие религии, содержит пространственную метафору — направляет взор человека вверх, от земного к небесному. И вера в Бога является залогом возвышения души к вершинам, к высшей истине. В противоположность религии, философия со времён античности начала следовать установке, что любое убеждение, любая вера (докса) должна пройти через умственную проверку. Результатом такой проверки должно быть надёжное подтверждение сказанного. Только утверждение, выдержавшее такую проверку, можно считать истинным. С точки зрения философии, без такой проверки любое наше убеждение может основываться на иллюзиях, то есть быть ложным. Без проверки сама по себе вера может быть ложной, фанатичной, способной побуждать к совершению зла. Об этом свидетельствует религиозный опыт, в частности в истории христианства наиболее показательными были религиозные войны. В этой нацеленности философии на проверку любых убеждений, в том числе религиозной веры, начали видеть залог распознавания «злокачественной», фанатичной веры.
Это различие между философией и религией является источником напряжённых взаимоотношений между ними. Но в то же время возникновение теологии свидетельствует также о включении в религиозное миропонимание элементов философии. И это свойственно не только христианству. Как свидетельствует история восточных религий, религиозные и философские миропонимания взаимодействовали в мировой истории. Что касается вопросов, связанных с философией религии, то в центре внимания моих размышлений и дискуссий на протяжении последних двадцати лет оказывались более конкретные вопросы. Важнейший из них касался особенностей украинской религиозности, в частности украинского христианства.
Утверждение авторитета знаний знаменует интеллектуальную историю Запада. И даже критика такой оценки, обозначенная как критика сциентизма, стала лишь поправкой к преувеличению авторитета знаний, но не подорвала его. Появление экзистенциализма с его акцентом на внутреннем опыте также не отрицает потребности сверять наши убеждения как внутренним опытом, так и образом жизни и последствиями действий в конкретной общественной среде.
Критическая проверка любых утверждений обусловила чувствительность философов к угрозам, которые скрывают в себе интуитивизм и иррационализм. Отсюда критическое отношение многих философов к «поэтике» — способам речи, рассчитанным на воображение и чувства. Таковыми были риторики, которые обозначали преимущественно термином «идеологии», ставшие важнейшим побуждением к совершению массовых преступлений против человечности. Иногда их называют религиеподобными образованиями, квазирелигиями из-за близости тех семиотик, с помощью которых они манипулировали массовым сознанием. Следовательно, философы видели и видят свою задачу в развитии критического самосознания, чтобы выработать способность противостоять влиянию таких манипулятивных технологий. Это критическое направление философии, начатое древнегреческими философами, стало источником диалогичных, а то и драматичных взаимоотношений философии и религии. Тем не менее, вследствие роста авторитета античной мудрости, на смену пренебрежительному отношению к ней в раннем христианстве появляются попытки соединить религию и философию. Следствием этого становится появление теологии.
Первая методологическая установка, которой я следовал, заключалась в том, что исследование религиозных миропониманий должно осуществляться в историческом контексте, с учётом разнообразия обществ с их культурами и соответствующими миропониманиями. Такой подход делает возможным рассмотрение любой религии, в частности христианства, как сочетания универсального с самобытным, обусловленным общественно-культурной средой. Влияние общественно-культурной среды очевидно не только в разветвлении христианства на такие религиозные направления, как католицизм, православие и протестантизм, но и в наличии определённых национальных особенностей в каждой из этих христианских религий.
Появление теологии свидетельствует о признании христианством авторитета философии. Но при этом один из первых величайших теологов Фома Аквинский принял тезис о превосходстве Божьей мудрости над мудростью философов. Отсюда тезис о подчинённости философии теологии и тезис о взаимном дополнении таких способностей человека, как вера (убеждение), чувство, воображение и разум. Из этого следует тезис не только о возможности, но и о необходимости сотрудничества и диалога религий и теологий, с одной стороны, и философии — с другой. Вопрос, как соотносятся теология и философия и возможна ли и как возможна религиозная философия, стал одним из дискуссионных вопросов в отделе истории украинской философии в то время, о котором я здесь упоминаю. Но это лишь один из этих вопросов.
В центре внимания философского критицизма оказалось выяснение того, какие ценностные убеждения внедряют определённые способы речи, в частности рассчитанные на воображение и чувства. А показателем качества этих убеждений являются те способы человеческой жизни, поведения и взаимоотношений, к которым такие убеждения склоняют. Итак, философы пришли к мысли, что их задача состоит в развитии критического самосознания, индивидуального и коллективного, — способности взвешивать последствия внедрения любых ценностных убеждений, в том числе религиозных. Психология религиозных убеждений, исследование религиозного опыта во всём его разнообразии стали важными составляющими философии религии. Произведение Уильяма Джеймса «Многообразие религиозного опыта» показательно с этой точки зрения.
Однако я, как научный руководитель, должен был выработать более конкретные методологические установки относительно особенностей украинского религиозного сознания. Именно эти установки были и сегодня являются источником острых дискуссий. В упрощённом изложении их можно свести к следующим: (а) нельзя адекватно выяснить особенности украинской христианской веры, не принимая во внимание дохристианские религиозные представления и верования (этот принцип отчётливо сформулировал И. Огиенко); (б) нужно признавать влияние на украинское религиозное сознание католицизма, в частности через образование (Острожская академия, Киево-Могилянская академия, Львовская иезуитская коллегия, впоследствии университет); (в) существуют основания признавать влияние на украинское религиозное сознание также протестантизма (показательным примером является христианская философия Григория Сковороды); (г) оба указанных влияния можно рассматривать как источник экуменизма в украинском православии; (д) считал и считаю, что принципиальных расхождений на уровне религиозного сознания между украинской православной церковью, которая признаёт национальные особенности украинского православия, и греко-католиками не существует; (е) необходимо сотрудничество философии религии и теологии, и это будет полезно для обеих; (ж) только обретение Украинской православной церковью статуса поместной даст ей возможность в своих практиках учитывать национальные особенности украинского религиозного сознания; (з) считал и считаю, что существуют элементы злокачественного консерватизма в деятельности Украинской православной церкви Киевского патриархата, основным источником которого стало долговременное подчинение украинской церкви российской. Это нацеливает на преодоление этих признаков отчасти в теологии, но больше в практической деятельности УПЦ КП. Высказанные здесь позиции являются позициями философа, а не теолога. Они являются побуждением к диалогу и сотрудничеству между философами, с одной стороны, и украинскими священниками и теологами — с другой.
* * *
Христианство и нации. Христианство стало одним из источников формирования наций и сохраняет акцент на ценности культурной самобытности любой из них. Считаю, что этот тезис не является спорным и не требует доказательств. И всё же, что касается православия, приведу здесь отрывок из проповеди архиепископа Афинского и всея Эллады Христодула, произнесённой им в связи с празднованием двухтысячелетия от Рождества Христова и опубликованной в переводе на русский язык под названием «Призыв к воскресению» («Синопсис», православный журнал. — 2001. — № 4–5):
«На самом деле то, чего пытаются достичь вдохновители глобализации, о чем они и сами откровенно заявляют — это упразднение национальных особенностей, навязывание миру не только единой экономической модели, но также единого языка и единой культуры.
Легко увидеть, что исчезновение национальных особенностей превратит Европу в кладбище культур. На месте многонационального и многоязычного сада хотят построить однообразные коробки, в которых должно будет обитать некое неопределенное население. В результате этого в душах людей останется лишь непреодолимое ощущение пустоты.
Легко увидеть, что ожидает греческую культуру, а также культуру любого другого православного народа, если процесс универсализации культур будет оставлен на самотек, если не воспротестует сознание всех нас. Кто из нас останется равнодушным перед лицом прямой угрозы одичания нашей молодёжи, которая лишается своих корней, своей памяти, своего языка и своей веры?»
Акцент на национальных особенностях украинского православия в независимой Украине, с чем связано требование единой украинской поместной церкви, вызвал противодействие не только российского государства, но и Русской православной церкви. Это не является чем-то неожиданным, если принять во внимание, что Русская православная церковь на протяжении всей своей истории была не только средством российской имперской политики, но и теологическим её обоснованием. Национализация наднациональных, универсальных элементов в православии стала одним из идеологических источников русского империализма. В русском коммунизме она получила светское перетолкование в виде мировой миссии России освободить все народы, угнетённые капитализмом. Здесь я лишь напоминаю читателю толкование национализации русского православия как одного из источников русского коммунизма, которое высказал Бердяев в своём произведении «Истоки и смысл русского коммунизма». После распада СССР эта амбициозная мировая миссия уже отпала, но осталась возможность уничтожить до конца национально-самобытные культуры таких «братских» народов, как белорусы и украинцы. Все визиты в Украину патриарха Кирилла и его проповеди идеи «русского мира» свидетельствуют о живучести традиции использовать русскую церковь как средство неоимперской политики.
Согласно замыслу, Украинская православная церковь Московского патриархата должна быть препятствием для создания в Украине единой поместной церкви и носителем православного единства двух народов на русской основе, то есть средством русификации. И, как каждый относительно легко может убедиться, она успешно выполняет эту роль. Хотя Предстоятель УПЦ МП Владимир Сабодан как личность вызывает уважение у многих, независимо от конфессиональной принадлежности, но, если бы он даже хотел, ему не под силу изменить украинофобскую идеологию этой церкви. Её определяют в Москве.
* * *
Но больше всего возражений вызвал последний из сформулированных выше тезисов. В дискуссиях за пределами Института философии я сталкивался с эмоциональным его отрицанием. Сожалел, что возникали недоразумения с людьми, позиция которых в принципиальных моментах совпадала с моей. Имею в виду осознание угрозы для украинского православия и греко-католиков со стороны российской имперской политики. Ввиду такой угрозы часто считают нежелательной даже доброжелательную критику Украинской церкви Киевского патриархата, нацеленную на усиление её дееспособности и влияния, потому что считают, что такая критика ослабляет УПЦ КП в этом противостоянии. Противодействие угрозе стало стимулом к появлению полемической литературы. С моей точки зрения, самыми выдающимися, содержательно и стилистически, являются книги и статьи Галины Могильницкой.
За пределами института в 90-е годы у меня были также дискуссии со сторонниками РУН-веры (родной украинской веры). Оставляю здесь в стороне несогласия и споры между самими «родноверами», в том числе и по поводу выбора самоназвания для этого религиозного движения. В центре моих дискуссий, и не только моих, была оценка роли христианства в украинской истории и культуре, особенно с точки зрения оценки и утверждения украинской культурной самобытности и, соответственно, особенностей украинского национального самосознания. Моя высокая оценка важной миссии христианства в украинской истории и культуре часто наталкивалась на острую эмоциональную реакцию «родноверов». Но поскольку я в то же время ценил украинскую этнокультуру, то это склоняло сторонников РУН-веры к мысли, что со мной стоит разговаривать. В ответ на утверждение, что христианство — «чужая» религия, созданная евреями, я указывал на принципиальное различие между христианством и иудаизмом. Подчёркивал, что христианство является одной из мировых религий и сыграло важную роль в становлении европейских наций. Дискуссии по этим вопросам при случае вёл с Богданом Островским, бандуристом. Познакомился с ним благодаря тому, что его жена была ученицей моей жены в киевской 168-й школе.
Не хотел бы перегружать своего читателя некоторыми элементами философии истории, но всё же замечу, что термином «необходимость» по отношению к истории преимущественно обозначают историческую закономерность, которая прокладывает себе дорогу через выбор и действия людей. С этой точки зрения, такая закономерность с необходимостью обусловливает революционные события и способна «порождать» выдающихся личностей. Историческую закономерность, соответственно, мыслят как важнейшую предпосылку sine qua non — без которой определённые изменения не наступили бы. Но при этом преимущественно считают, что историческая закономерность всегда осуществляется при наличии определённых благоприятных обстоятельств. (Замечу попутно, что выражение «историческая необходимость» используют не только в его известном претенциозном значении, но и в более простом, когда обозначают назревшую и крайнюю потребность в осуществлении определённых реформ, нацеленных на реализацию лучших жизненных перспектив. Такое использование выражения не вызывает возражений и не является предметом философских дискуссий. Если речь идёт о СССР, например, то крайняя необходимость в осуществлении лучшей исторической перспективы — как альтернативы коммунистической диктатуре — существовала в этом государстве со времени его возникновения.)
Такая философия истории является следствием доминирования эволюционизма в XIX в. — идеи прогресса, самым известным примером которого является марксистская концепция прохождения истории через общественно-экономические формации. При этом историческую закономерность, или необходимость, мыслят преимущественно эссенциалистски — как силу, скрытую за явлениями. Описание благоприятных обстоятельств даёт возможность историкам объяснить, почему распад СССР и появление украинского независимого государства произошли именно в 1991 году. Эти обстоятельства преимущественно делят на внешние по отношению к Украине и внутренние. К внешним относят международную ситуацию (подписание хельсинкских соглашений), а также политические события в правящей верхушке СССР (заговор ГКЧП, решительные действия Бориса Ельцина и т. д.). К внутренним — состояние сознания и воли украинских граждан в УССР накануне распада СССР.
В ответ говорят: получается, что украинская независимость «свалилась на голову» или «подарена» украинцам. Но разве украинцы не боролись за своё независимое государство? Ответ очевиден: боролись, и самоотверженно; современное украинское независимое государство является следствием этой борьбы. Эта борьба — необходимая предпосылка, без которой независимое украинское государство не появилось бы. К таким предпосылкам относятся и массовые коллективные акции граждан в Украине: перезахоронение праха В. Стуса, Ю. Литвина, О. Тихого, голодовка студентов, возникновение Руха и многопартийной системы, «Цепь единения» и тому подобное. Массовые протесты против ГКЧП на улицах и площадях Киева и других городов Украины стали важной поддержкой позиции Леонида Кравчука, в том числе на Беловежской встрече.
* * *
Философия культуры. Отношение к культуре как к чему-то естественному является анахронизмом в современную эпоху, когда культура приобретает политическую и экономическую важность. Ведь существование самобытной культуры становится основой существования национального государства, а потому государство должно быть заинтересовано в её взращивании и защите. Культура приобретает также экономическую важность (туризм, искусство и т. п.): утрата уникальной культуры означает отказ (и это уже сознательный выбор) от важного источника собственного благосостояния. Политические и экономические аспекты бытия культуры в индустриальном и постиндустриальном обществе создают напряжённое поле состязаний вокруг культур. Основой этих состязаний являются прежде всего политические и экономические мотивы.
Осознание того, что культура представляет собой искусственно созданный жизненный мир, существование которого зависит от выбора каждой личности, означает разрыв с инертной жизнью в культуре. Консервативная привязанность сельского человека к традиционной культуре становится недостаточной для её защиты от экспансии других культур. Современные нации способны защищать свои самобытные культуры только благодаря осознанию человеком своей принадлежности к нации и осознанию зависимости бытия национальной культуры от собственного выбора и собственного вклада в развитие культуры. Это и есть то, что обозначают термином «национальное сознание». Кратковременное действие национального подъёма, связанного с распадом Российской империи, не смогло сделать сельское население национально сознательным — зачатки этого сознания затем были уничтожены пропагандой так называемого интернационализма. Благоприятным обстоятельством для такой пропаганды была именно домодерная ментальность: инертное пребывание в культуре как в естественной среде. С этой точки зрения городской человек, оправдывающий своё безразличие к выбору языка тем самым «а разве не всё равно?», проявляет признаки домодерной ментальности в отношении к культуре. Те же признаки он проявляет и в отношении к государству — недостаток гражданского сознания и психики. Оба эти аспекта являются проявлением одного и того же. Коммунизм как разновидность тоталитарной идеологии только усилил признаки домодерной ментальности, паразитируя на том, что национальное и гражданское сознание не могло сформироваться в пределах деспотической российской империи.
Без осознания ценности своей самобытной культуры, то есть без соответствующей идеологии, ответственной за взращивание национального сознания и воли, культуре угрожает уничтожение в результате экспансии другой, более агрессивной культуры, носители которой обладают относительно высоким уровнем национального сознания.
2. Некоторые соображения относительно будущего Украины
Свой ответ на вопрос, как Украине двигаться в будущее, я рассматривал прежде всего под углом зрения преобразований в украинской интеллектуальной культуре. На первый взгляд, такой подход слишком далёк от тех практических проблем — политических, правовых, экономических, социальных, — острота которых стала очевидной не только в первые годы существования независимой Украины, но и на протяжении всей её дальнейшей двадцатилетней истории. Но это не совсем так. Осуществление качественных преобразований в интеллектуальной культуре, что является делом прежде всего учёных, особенно учёных-гуманитариев (в частности философов), обязательно окажет влияние и на другие стороны украинской национальной жизни.
* * *
Российский фактор: возрождение империи? СССР был тоталитарной империей, унаследовавшей традиционный российский империализм в модифицированной и скрытой форме. Утверждение независимой Украины после распада СССР в большой степени зависело от того, насколько современная РФ сохраняет традиционную историческую парадигму в виде неоимпериализма. Высказывание Путина о том, что распад СССР был величайшей «геополитической катастрофой» ХХ в., его заявления о формировании евразийского пространства и ряд конкретных шагов во внутренней и внешней политике указывают на то, что Россия Путина сориентирована на выбор неоимперской перспективы. Хотя не все граждане современной РФ принадлежат к «России Путина», но демократическая оппозиция, даже с учётом современных предвыборных протестов, слаба. Лорен Гудрич свою статью в газете «День» (3.11.2011) под названием «Россия: восстановить империю, пока это возможно» (перевод с английского) заканчивает выводом: «Это означает, что следующие несколько лет являются, вероятно, для России моментом, который будет ознаменован возвращением страны на мировую арену в роли региональной империи, а также новой конфронтацией со своим предыдущим противником — Соединёнными Штатами». Принимая большинство утверждений автора этой статьи, думаю, что заслуживает критического замечания следующее его утверждение: «Будущий Евразийский союз — это не возрождение Советского Союза. Путин понимает неминуемые слабые стороны, с которыми Россия столкнётся, возложив на себя экономическое и стратегическое бремя заботы о таком большом количестве народа на территории площадью около девяти миллионов квадратных миль. Это была одна из самых серьёзных слабых сторон Советского Союза: попытка контролировать слишком многое непосредственно. Вместо этого Путин создаёт союз, в котором Москва будет влиять на вопросы внешней политики и безопасности, но не будет отвечать за большую часть внутренних дел каждой страны. У России просто нет средств, чтобы поддерживать такую интенсивную стратегию».
Замечу, что сегодняшняя Россия Путина прибегает к различным формам вмешательства во внутреннюю политику постсоветских республик, в том числе открытого. Примеры хорошо известны (Беларусь, Грузия, Украина и т. п.). Преобладает скрытое вмешательство с использованием широкого спектра средств — экономических, финансовых, информационных, человеческих и т. д. В целом ориентация на неоимперскую политическую стратегию неизбежно будет склонять Россию к продолжению такого вмешательства во внутреннюю политику постсоветских государств и в будущем.
Александр Мотыль в конце своей книги «Итоги империй: упадок, распад и возрождение» (украинский перевод — «Критика», 2009 год) рассматривает вопрос о ресурсах, которыми могут обладать сердцевины пришедших в упадок империй для своего возрождения. К общим предпосылкам, облегчающим возрождение российской империи, относятся её историческая продолжительность, территориальная компактность и тоталитарный характер в последний период её существования. Последнее является особенно влиятельным фактором, поскольку тоталитарный характер государства делал невозможными гражданские и национальные движения, которые могли бы стать надёжной основой независимых демократических государств. Именно по этим причинам диссидентское движение даже в Украине было немногочисленным.
Бесспорно, РФ обладает значительными ресурсами — экономическими (прежде всего нефть и газ), политико-административными, дипломатическими, информационными, интеллектуальными, ментальными, — с помощью которых может влиять на различные сферы общественной и политической жизни в постсоветских независимых государствах. К ментальным ресурсам относится также склонность этнических русских отдавать предпочтение государству сильному, авторитарному; демократическое государство, с его плюрализмом, они оценивают как слабое. Правда, протесты в России, связанные с выборами Путина на пост президента, являются новым явлением, но это лишь начало, поэтому трудно спрогнозировать, перерастут ли эти протесты в мощное демократическое движение и когда это может произойти.
Если выделять важнейшие причины, обусловившие недостатки украинского независимого государства на протяжении его двадцатилетней истории, то кроме низкого национального сознания можно указать на низкий уровень гражданского сознания и воли. Этот второй признак хоть и не тождественен первому, но тесно связан с ним, ведь воля к национальному единству важна для обеспечения гражданской солидарности, а это главная предпосылка, делающая возможным эффективный контроль власти народом и блокирование её технологии «разделяй и властвуй». Третья причина — слишком высокий уровень унаследованного правового нигилизма (ведь классовое понимание права в СССР является продолжением традиции «закон, что дышло»).
В обсуждении перспектив России в газете «День» под заголовком «Россия после Путина» (20–21 января 2012) на вопрос, «что может означать „национальное государство“, о построении которого сейчас говорят в России?», Александр Мотыль ответил так: «Есть три возможных варианта ответа. Первый — „национальное государство“ может означать нормальное суверенное государство, которое вполне довольно своими границами. Это будет либеральное понимание этого термина. Второй — „национальное государство“ может означать Россию, которая пытается справиться с „угрозой“ ислама методами русификации. Это будет так называемое нетерпимое понимание. Третье — „национальное государство“ может означать гипернационалистический режим с преувеличенным видением своего места под солнцем. Это будет авторитарное/фашистское понимание».
Во втором случае мы имеем дело с ориентацией на уничтожение культурной самобытности других наций в Российском государстве, проживающих более или менее компактно на территории, которую они считают своей исторической родиной. Если федеративное устройство в современной России будет и дальше служить прикрытием имперской политики в отношении нерусских наций в РФ, то мы получим старую политику, унаследованную от СССР. Либеральный путь — построение многонационального государства (федерации) с широкими полномочиями автономий — как свидетельствует недавний террор в Чечне, организованный под руководством Путина, пока является маловероятной перспективой. В третьем варианте речь идёт о стремлении России быть крупнейшей мировой державой. А это всегда побуждало российскую империю к покорению соседних народов или превращению их хотя бы в зависимых от неё. Традиционно российская имперская политика была сочетанием второго и третьего способов создания «национального государства», хотя фактически Россия всегда была и по сей день остаётся многонациональным государством.
* * *
В современной Украине, особенно на бытовом уровне, можно услышать оценку Украины как многонационального государства, потому что в ней проживает «много» национальных меньшинств. Но поскольку «много национальных меньшинств» проживает во всех современных государствах, а их число непрерывно увеличивается (вследствие процессов миграции), то отсюда следует, что все современные государства являются многонациональными. А потому деление государств на многонациональные и национальные теряет смысл. Для людей с антиукраинскими установками прилагательное «многонациональный» по отношению к Украине привлекательно, так как способно заменить роль прежнего слова «интернационализм»: каждый, кто выбирает ориентацию на создание украинского государства как национального, попадает в разряд «националиста», то есть человека агрессивного, с комплексами ксенофобии и нетерпимости, — именно такой смысл вкладывали в это слово в СССР.
Чтобы спасти термин «многонациональное государство» в упомянутом значении, некоторые интеллектуалы утверждают, что национальным или даже «моноэтническим» следует считать государство, в котором количество национальных меньшинств не превышает 20% от общей численности населения. Но в таком случае не учитываются особенности этих меньшинств. О каких из них идёт речь — иммиграционных, историческая родина которых находится за пределами этого государства, или таких, которые именно эту территорию проживания считают своей исторической родиной, и это их видение поддерживает и международное сообщество?
Используя метод идеальных типов и солидаризируясь со многими другими гуманитариями, я согласился с определением, что типично многонациональным государством является государство, на территории которого проживает более одной этнической нации, считающей территорию своего проживания своей исторической родиной. Поскольку силы, объединяющие людей в одну этническую (культурную) нацию, значительно превосходят идеологию чисто государственного патриотизма, то такие государства, как правило, распадаются, как, например, Австро-Венгерская империя. И только угроза распада делает деление на национальные и многонациональные государства практически важным, актуальным. Отнесение государства к категории национального или многонационального становится актуальным только тогда, когда культурно объединённое сообщество людей, считающее себя нацией и проживающее в территориальных границах своей исторической родины, ставит вопрос о создании собственного независимого государства.
С точки зрения предложенного разграничения, современная РФ остаётся типично многонациональным государством. А создание русского национального государства в пределах русской этнической территории требует немедленного признания права компактно расселённых нерусских наций на создание независимых государств. Это означает сознательное согласие на третий, уже последний распад бывшей российской империи, а вместе с тем и окончательное освобождение этнических русских от бремени имперского прошлого. Понятно, что формирование русского национального государства в границах исторической родины этнических русских неизбежно сталкивается с трудностями, прежде всего ввиду их расселения островками на большой территории. Но если в современной РФ определённые идеологи и политические силы считают, что создание русского «национального государства» должно происходить путём культурной ассимиляции нерусских наций, то это будет означать продолжение традиционной имперской политики. Эта внутренняя политика, вероятно, будет дополняться неоимперской внешней политикой — например, в создании евразийского пространства — и это важнейшая геополитическая угроза украинской независимости.
Когда говорят, что украинское независимое государство является скорее формально, чем реально независимым, то прежде всего речь идёт о сохранении злокачественных разновидностей его зависимости от России. Говорю «злокачественных», потому что не имею в виду общий, вполне оправданный тезис о взаимной зависимости независимых государств в современном мире. Вместо этого речь идёт о попытках ограничить суверенитет Украины, превратив её в зависимое государство. С этой точки зрения наиболее нежелательным для России было бы сближение Украины с Западом — отсюда противодействие не только вступлению Украины в НАТО, но и в ЕС.
* * *
Украинцы, как этническая нация, должны уважать культурную самобытность национальных меньшинств, а национальные меньшинства, со своей стороны, должны уважать культурную самобытность украинской этнической нации и защищать её от ассимиляции. Речь идёт о действии универсального принципа: защита любой самобытной культуры в мире от её уничтожения путём ассимиляции является обязанностью каждого человека, независимо от его этнического происхождения.
Принятие такой этики превратило бы национальные меньшинства, особенно этнических русских, в силу, способную солидаризироваться с национально сознательными этническими украинцами в их защите украинской самобытной культуры и, в частности, языка как её важнейшего признака. Это важно потому, что разделение украинцев по этническому, в частности языковому, признаку является важнейшим средством, которое власть применяет, чтобы подорвать гражданское единство и тем самым обеспечить успешность технологии «разделяй и властвуй». Между тем подавляющее большинство этнических русских, граждан Украины, находится в плену стереотипа, сформированного коммунистической идеологией: разъединяет тот, кто защищает свою национально самобытную культуру, а не тот, кто её уничтожает ради русской ассимиляции.
Этот мой акцент на формировании нации вызвал критику в «старомодности» моего политического мышления (отчасти под влиянием европейских интеллектуалов и политиков, для которых формирование их наций преимущественно уже прошлая история). Кроме того, одни из украинских интеллектуалов и публицистов видели в моей позиции угрозу, связанную с использованием термина «политическая нация», другие, наоборот, усматривали в моей позиции тяготение к традиционному способу политического мышления.
* * *
Является ли украинская независимость неудачной? Украинские интеллектуалы, с помощью своих западных коллег, обеспечивали украинское общество осознанием тех общественно-экономических, политических и культурных процессов, которые происходили в нём на протяжении последних двадцати лет. В качестве самой общей характеристики преимущественно используют слово «олигархизация» — в значении незаконного использования государственной власти для обогащения отдельных лиц и кланов. С точки зрения некоторых исследователей политической истории Украины, процесс олигархизации был начат ещё в период президентства Леонида Кравчука, но достиг своего «расцвета» на протяжении двух сроков президентства Леонида Кучмы.
Олигархизация на самом деле является производным явлением: она появилась как следствие неспособности народа формировать власть соответствующего качества и контролировать её действия. Невозможно найти другую причину этой неспособности, кроме унаследованной массовой ментальности.
С олигархизацией неизбежно связан высокий уровень коррупции. К сожалению, разочарованием закончилась надежда, что после избрания президентом Виктора Ющенко будет достигнут существенный прогресс в снижении уровня коррупции, а также в расследовании убийств и разного рода репрессий, совершённых по политическим мотивам. Важнейшим показателем сегодняшних преследований по политическим мотивам является заключение Юлии Тимошенко, Юрия Луценко и др.
С олигархизацией связана несклонность государства развивать мелкий и средний бизнес. Это понятно: мощный средний класс является грозным политическим конкурентом олигархических кланов, поскольку способен существенно сузить их влияние на государственную власть. Следствием слабости среднего класса стало резкое разделение украинского общества на небольшую прослойку сверхбогатых и широкий социальный слой людей с низкими доходами («бедных»). Одни на свою зарплату и пенсию не способны удовлетворить элементарных потребностей, другие в короткий срок становятся миллионерами и миллиардерами. Этот социальный контраст является хотя и не единственным, но важным фактором среди тех, что разъединяют украинских граждан, ведь так воспроизводится классовое общество по К. Марксу: с одной стороны — пролетарии, с другой — сверхбогатые.
Итак, если оставить в стороне исключения, то сердцевину современного украинского государства составляют люди, ведущим мотивом которых являются личные и клановые интересы. С приходом к власти Партии регионов эти признаки только усилились. Оппозиция слаба и разобщена, мало влияет на законодательство и не имеет влиятельных должностей в исполнительной власти. Достаточно вспомнить, каким способом осуществляется голосование в парламенте. Возникает вопрос, заинтересовано ли такое государство в утверждении украинской национально-культурной самобытности, национального самосознания и национального достоинства? Иначе говоря, может ли оно считать, что формирование украинской политической нации, национально-гражданской солидарности должно быть основой украинского государства? Ведь тогда будет подрываться важнейшее средство, которым обеспечивают себе пребывание у власти олигархические кланы — политическая технология «разделяй и властвуй».
* * *
Если не принимать во внимание промежуточные варианты, то все позиции современных аналитиков, которые они обнародуют устно и письменно, можно грубо «упаковать» в три. Первую можно обозначить как более или менее оптимистическую, вторую — как преимущественно критическую, скептическую, а в крайних случаях — пессимистическую, третью как умеренную. Последняя, умеренная позиция, содержит определённые элементы критики, указывает на важные достижения и делает акцент на оптимистической перспективе. И первую и вторую можно проиллюстрировать цитатами многих авторов. Оставляю здесь в стороне вопрос, насколько та или иная риторика является обоснованной — основанной на объективном анализе имеющейся исторической ситуации.
Сегодня преобладает критическая, а то и откровенно пессимистическая оценка двадцатилетней истории независимой Украины, пусть даже её часто сочетают с верой в отдалённую положительную перспективу. Примером такого оптимизма на будущее является хорошая публицистическая статья Василия Овсиенко под названием «Постгеноцидная Украина», ставшая результатом доклада, произнесённого в 2003 году (В. Овсиенко. Свет людей. — Кн. II, 2007). Явно оптимистическую позицию высказал недавно Андрей Клименко, руководитель Таврического института регионального развития (Ялта), в газетной статье под названием «Время разобраться: со страной и Януковичем, „регионалами“ и оппозицией…» («День» за 7–8 октября 2011 года). Он сказал так: «Общий мазохистский плач по якобы упущенным возможностям Украины за 20 лет независимости в наших СМИ и экспертном сообществе — признаки, пардон за откровенность, примитивно-поверхностной оценки исторических процессов. Такой сложный и многослойный исторический вираж, который совершает Украина, — (а) от социализма к капитализму; (б) от тоталитаризма к демократии; (в) параллельно впервые — строя с чистого листа государство; (г) создавая политическую нацию и (д) закладывая основы собственной идентичности — это несравнимо сложнее, чем в Польше или в странах Балтии. Украина — по украинским меркам стремительно — проходит путь, которым страны старой Европы шли столетиями, и за это время мы уже вплотную приблизились к ЕС. Постсоветский транзит в основном завершён. Возвращения Украины в некоторую итерацию российской империи уже не будет — независимо от того, какая партия победит на выборах».
Доля истины в сказанном, бесспорно, есть. Но ссылка на короткую историю легко наталкивается на ряд оговорок. Сразу же напрашивается сравнение с теми государствами в мире, которые в относительно короткий срок смогли провести реформы, обеспечили ускоренное движение в лучшее будущее. А если речь идёт о сравнении со странами Балтии или Польшей, то возникает вопрос, какие из исторических предпосылок оказались здесь важнейшими для обеспечения успеха?
* * *
Был ли украинский народ в 1991 году готов обрести государственную независимость? По крайней мере, на первый взгляд, Андрей Клименко прав: короткая история украинского независимого государства и неготовность народа к соответствующим изменениям являются главной причиной тех его недостатков, о которых мы сегодня говорим. Поэтому оправданно спросить, а насколько население бывшей Украинской ССР было готово к обретению государственной независимости в 1991 году? Когда утверждают, что украинское независимое государство появилось в результате стечения случайных обстоятельств, то предполагают, что уровень массового национального и гражданского сознания в УССР на конец 80-х годов был слишком низким, а потому не существовало созревшей коллективной воли, нацеленной на обретение украинского независимого государства. Леонид Кравчук в своём интервью газете «День» (опубликованном 30.11.2011) сказал так: «Если бы я решил в 1991 году в Беловежской Пуще, что народ не готов, а он действительно тогда не был готов, то мы бы до сих пор ждали. Нужно принимать решения, когда есть шанс». И он прав. Но слабость национально-гражданского массового движения, в конце концов, даст о себе знать.
В книге Н. Михальченко и В. Андрущенко «Беловежье. Л. Кравчук. Украина: 1991–1995» (К., 1996) сделана попытка охватить как внешние, так и внутренние обстоятельства, способствовавшие появлению украинского государства в 1991 году. При этом авторы отмечают: «Беловежская встреча и согласие трёх руководителей крупнейших республик, которые составляли основу и скелет бывшего СССР, имеет историческое значение. Это был шаг, на который могли решиться только выдающиеся личности — политические лидеры, способные на себя взять политическую ответственность » (С. 95–96). То есть к благоприятным обстоятельствам в распаде СССР отнесена роль выдающихся личностей. Нет оснований отрицать важность этого фактора — в противовес наивному взгляду, что назревшая историческая необходимость обязательно «порождает» выдающихся личностей.
Мнение, что в обретении в 1991 году государственной независимости решающей для Украины стала позиция Бориса Ельцина, высказал Борис Немцов в интервью газете «День» (под заголовком «Тернистый путь к свободе», 31.08.2011). Об этом он сказал так: «Во-первых, я горжусь тем, что принимал участие в тех исторических событиях и вместе с Борисом Ельциным „очищал“ Белый дом от ГКЧП. Это, с одной стороны, был день победы над ГКЧП и коммунизмом, а с другой — день рождения свободной России. Сейчас российская власть всячески пытается забыть о тех исторических днях. Потому что она является последователем гэкачепистов — она ненавидит свободу, боится, когда народ выходит на улицу. И все комплексы, в том числе и имперский, которые были свойственны членам ГКЧП, в высшей степени проявляются у нынешней власти. С другой стороны, победа свободной России позволила странам, входившим в СССР, достаточно бескровно получить свою независимость. Поэтому я считаю, что сегодняшний праздник в Украине во многом связан с событиями 19–22 августа 1991 года. В связи с этим я даже предлагал всем украинским президентам установить памятник Ельцину в Украине. Никто этого не сделал. Хотя Украина получила независимость абсолютно мирным путём благодаря Борису Ельцину.
— Да, но в Украине на протяжении многих лет велась своя борьба, в частности диссидентов, за независимость.
— Я считаю, что свободная Россия и независимая Украина — это результат одного общего звена. Украинцы очень долго боролись за свою независимость, но получили они её лишь в августе 1991 года».
Это возвращает нас к признанию ведущей роли выдающихся личностей в распаде СССР в 1991 году. В цитируемом интервью Немцов не придерживается наивного взгляда, что определённая историческая ситуация обязательно обусловливает появление выдающихся личностей. Он имеет в виду слабость в Украине национального и гражданского сознания, наличие которых могло бы стать решающим фактором в появлении независимого украинского государства. Но очевидно, что даже очень высокий уровень национально-гражданского сознания во всей Украине на конец 80-х годов мог бы быть залогом для мирного возникновения независимого украинского государства только в неопределённом будущем. Потому что нужно было бы ждать счастливого случая — демократических преобразований в самой России. А, судя по тому, что происходит в современной РФ, это отдалённая и неопределённая историческая перспектива.
Не вызывает возражений, что возникновению независимого украинского государства способствовала активность национально-демократических сил, представленных в Украине прежде всего Рухом и партиями, которые начали формироваться в конце 1989 года (см. книгу А. Гараня «„Убить Дракона“. Из истории Руха и новых партий в Украине». — К.: «Лыбидь», 1993). Но в любом случае приходится признать, что эта активность могла вызвать мирный распад СССР в 1991 году только в сочетании с кризисом в его политической верхушке.
* * *
Внутренний фактор: постсоветская ментальность. Размышляя над исследованием унаследованных инерционных образований в сознании украинцев, я считал, что в центре внимания не только исследователей, но и всего общества должны быть прежде всего унаследованные разновидности нигилизма — морального, гражданского, национального, правового, политического.
Именно эти стереотипы сделали техники манипуляции массовым сознанием такими эффективными. Первое место среди них принадлежит использованию слов в виде ярлыков. Даже сегодня того, кто говорит об угрозе «национализма», почти никто не спрашивает, какой именно национализм говорящий имеет в виду — национализм агрессивный, имперский, который часто называют словом «шовинизм», или защитный, либеральный, в противовес интегрально-тоталитарному. Можно привести длинный список примеров, когда соответствующие слова используют без соответствующих квалификаций, уточнений и делают это сознательно — в расчёте на уже сформированные стереотипы, то есть на наивность, недостаток элементарного критического сознания граждан. Я не отрицаю сказанным, что средства манипуляции сознанием могут использоваться и с доброй целью, в частности для воспитания. Всё зависит от того, какие способы мышления и ценностные убеждения при этом формируются.
Становление гражданского и национального сознания является скорее явлением европейской истории нового времени, даже если этот процесс опирался на наследование исторического характера. По-моему, наивно представлять, что национальное самосознание и национальное государство возникли в Европе в результате действия «объективной исторической закономерности». Без изменений на уровне коллективного сознания и воли они бы не появились. Европейский способ формирования наций заключается в том, что одна этническая нация выполняет роль сердцевины для формирования политической нации в пределах территории, которую эта нация считает своей исторической родиной. Можно указать также на иммиграционный способ формирования наций, примером чего может быть американская нация. Наиболее известное разъяснение этого способа формирования нации предложил Энтони Смит в книге «Национальная идентичность» (украинский перевод опубликован издательством «Основа» в 1994 году). Там, где идеология создания наций не получила распространения, племенные образования не слились в более крупные общественно-культурные целостности, названные позже культурными или этническими нациями. Этого не произошло во многих странах Востока, где, как это мы имеем в Африке, до сих пор сохранились племенные образования.
Распад российской империи под названием СССР — важное мировое событие, которое как бы завершало двадцатый век — век распада многих империй. Почти каждая нация, которая в это время добилась создания независимого государства, сталкивалась с трудностями и препятствиями. Но трудности, с которыми столкнулись постсоветские независимые государства, в большой степени обусловлены тем, что они возникли в результате распада диктаторской, тоталитарной империи. Важно и то, что коммунистическая тоталитарная империя была продолжением длительного существования российской империи.
Впрочем, ослабленность национального и гражданского сознания в независимых постсоветских государствах проимперские силы рассматривают как благоприятное обстоятельство. Отсюда поддержка российскими политиками так называемых «интерфронтов» в начале 90-х, позже «защита» этнических русских или даже русскоязычных в постсоветских независимых государствах. Это понятно: чем более разобщены граждане в независимом постсоветском государстве, тем легче влиять на выбор желаемой политики, играя на противостояниях внутри общества. О том, что в исторической перспективе это даст негативные результаты для самой России, российские политики не думают. Нацеленность на возрождение пусть ослабленной разновидности российской империи сужает их мышление до конкретного сегодня. Здесь они просто наследуют уже привычную, хотя и модифицированную, парадигму российского политического мышления. Мыслить в соответствии с принципом «мир после империй» современные российские политики, за исключением некоторых оппозиционных, пока не способны.
Сказанное в большой степени определяло отношение Запада к новой волне возникновения независимых государств — распаду СССР и Югославии. Важную роль играло то обстоятельство, что вопрос национального самосознания, формирования нации путём утверждения национально самобытной культуры был пройденным и отчасти даже «забытым» периодом в истории старых европейских наций. А потому обретение новыми постсоветскими государствами цивилизационных западных признаков западные политики преимущественно мыслили под углом зрения определённых ценностных убеждений и стандартов — политических, экономических, правовых. Среди этих ценностей формирование нации как культурно-национальной идентичности, а соответственно — национального самосознания, не считалось чем-то важным.
В большой степени на характер этого отношения к новым независимым государствам влияли и такие факторы, как наличие надгосударственных образований (например, ЕС), переход от модерных к «постмодерным» информационным обществам, процесс глобализации и такие интеллектуальные движения, как постмодернизм, критика метадискурсов, злокачественных версий холизма и фундаментализма. Было бы неуместно входить здесь в более подробное рассмотрение этих вопросов: отчасти они стали предметом моего рассмотрения в уже упоминавшейся статье «Запад и права наций», опубликованной в 1991 году, и в других публикациях. В некоторых важных моментах моя критика Запада в упомянутой статье совпадала с критическим упрёком, высказанным Богданом Гаврилишиным в его докладе Римскому клубу, опубликованном в 1990 году в украинском переводе под названием «Указатели в будущее. К более эффективным обществам». В этой книге автор указывает на неучёт Западом актуальности национальных проблем в постсоветских государствах, причиной которого, по его мнению, является прежде всего то, что эти проблемы в значительной степени потеряли свою актуальность для современных западных обществ. На самом деле эта потеря актуальности является по большей части следствием интеллектуальной моды, которая сместила акцент на разнообразие — в противовес акценту на единстве разнообразного. Отсюда политика мультикультурализма и т. п. Только теперь Запад столкнулся с крайностями, к которым ведёт бездумная ориентация на осуществление такой политики.
Впрочем, отмеченное мной не обесценивает вклада западных стран в становление украинского независимого государства: поддержка украинского диссидентского и хельсинкского движения, в 1991 году — признание украинского независимого государства и др. Я здесь упомянул лишь о тех моментах, которые всё ещё являются источником дискуссий и недоразумений между западными и украинскими интеллектуалами. Имею в виду тех украинских интеллектуалов, которые указывают на важность национального сознания и национального единства украинских граждан как залога успешного осуществления реформ. Ведь прежде всего отсутствие национального самосознания и минимально необходимых основ национального единства является основной причиной так называемой «многовекторности» современной Украины.
* * *
Критика государства или унаследованной массовой ментальности? Это действительно так, что на протяжении короткой истории независимой Украины жало критики со стороны интеллектуалов, оппозиционных политиков и «людей с улицы» преимущественно направлено против украинского государства. Соответственно, усовершенствование государства считают решающим способом преодоления олигархизации, коррупции и т. д. Бесспорно, что государство должно быть всегда под контролем граждан, и одним из важнейших средств этого контроля является его критика. Но поскольку даже в таких несовершенных демократиях, как украинская, ответственным за качество государственной власти является всё-таки народ, то критику государственной власти часто завершают фразой «такая у нас власть, потому что народ такой». Тезис «народ имеет такую власть, какой он достоин» оправдан только отчасти, ведь люди, за некоторыми исключениями, стремятся выбирать во властные структуры лучших, и это налагает обязанность на избранных оправдать ожидания своих избирателей. В конце концов, политики и чиновники обязаны также повышать уровень политической культуры народа, а не оправдывать собственные неэффективные действия ссылкой на низкую политическую культуру народа.
Однако бесспорным является всё-таки то, что настоящей первопричиной упомянутых недостатков украинского независимого государства является не олигархизация, ибо она явление производное, а состояние унаследованной массовой ментальности. Речь идёт прежде всего о ментальности, сформированной «ближайшим прошлым» — коммунистической тоталитарной империей. Эту особую ментальность называют посткоммунистической, постгеноцидной, посттоталитарной и т. п. Сосредоточение внимания на ближайшем, «советском» прошлом оправдано тем, что оно непосредственно предшествовало распаду СССР, а также тем, что его продолжительность была достаточной, чтобы «вырастить» новое поколение людей типа «хомо советикус». С этим коммунистическим «экспериментом» не может сравниться кратковременное существование фашизма. К тому же формирование «советского человека» осуществлялось путём сочетания крайней жестокости (геноцид) с идейным зомбированием и изъятием из общества тех, кто ему не поддавался.
Социологические исследования и обычные наблюдения указывают на низкий уровень гражданского и национального сознания и воли у населения УССР на конец 80-х годов. Хотя во время референдума 1 декабря 1991 года за государственную независимость проголосовало более девяноста процентов населения УССР, но анализ свидетельствует, что различные социальные группы — крестьяне, рабочие, бюрократия, члены КПУ — руководствовались в своём выборе очень разными мотивами. Этот анализ известен, и я не буду здесь его детализировать. Мотив национального сознания был ведущим, пожалуй, не более, а скорее менее чем у 30% от всего населения УССР. Учитывая это, даже большинство партий национально-демократической направленности вынуждены были сначала согласиться на поддержку Новоогарёвского процесса, нацеленного на спасение «обновлённого» Союза, наконец «честного».
Даже обнародование информации о массовых преступлениях коммунистического режима против человечности, которые подтверждают родство коммунистического режима с фашизмом, не привело к радикальным изменениям в унаследованной массовой ментальности. В современной Украине мы имеем грубые «следы» постколониального сознания — сохранение названий улиц, памятников и т. п. Суд над молодёжью, разрушившей памятник Сталину (по обвинению в разрушении «имущества», являющегося собственностью КПУ) — событие показательное в этом смысле. Можно представить себе, какой шум подняли бы украинские коммунисты, если бы, например, в Германии судили людей за разрушение памятника Гитлеру. Да и указанного суда в Украине, пожалуй, не произошло бы, если бы тенденция реабилитации Сталина не была начата в современной России. В целом соглашаюсь с теми, кто утверждает, что украинское независимое государство появилось в 1991 году благодаря известной ситуации во властной верхушке СССР и в результате компромисса между национально-демократическим движением и коммунистической номенклатурой. При этом в Украине национально-демократические партии получили во время выборов в Верховную Раду меньшую поддержку, чем коммунисты.
Перед глазами у меня стоит картина выступления президента Клинтона на Правительственной площади в Киеве во время его первого приезда в Украину. Он процитировал Шевченко и призвал людей, заполнивших площадь, ценить украинский язык. Я стоял рядом с молодыми людьми, видимо студентами, они поддержали аплодисментами это наставление и продолжали разговаривать на русском языке, хотя, я в том убеждён, владели также украинским. И это касается не только языка. Постсоветский человек склонен оставлять неизменными свой способ мышления и поведения, хотя при этом может признавать и другие ценности.
В публикациях и устных высказываниях на протяжении двадцати лет я делал акцент на злокачественных наследиях тоталитарного режима, касающихся (а) морального сознания, (б) национального сознания и достоинства, (в) гражданского сознания и воли, (г) правовой и политической культуры. При этом подчёркивал, что в массовой ментальности важную роль играют унаследованные стереотипы нигилизма — морального, национального, правового и политического. При этом составной частью политического нигилизма считал стереотип «этатизма» — взгляд на государство как на отчуждённую от народа и поставленную над ним силу, в противовес взгляду на него как на общее дело граждан, за которое они несут ответственность.
Отсюда вытекает необходимость исследовать унаследованную массовую ментальность и даже «лечить» её. И хотя часто речь идёт лишь о достижении должного уровня самокритичности путём «самолечения», её развитие требует дополнения практиками, рассчитанными на подсознание, использования методов глубинной социальной психологии. Ведь определённые страхи, представления, чувства и ценностные убеждения укоренены в большой степени в подсознании. Это позволяет продумать способы «лечения». И хотя такие исследования будут иметь некоторые совпадения с постколониальными изысканиями в целом, наш случай является особенным ввиду тоталитарного прошлого Украины в составе бывшего СССР.
В этих исследованиях стоит принять во внимание такое событие, как Нюрнбергский процесс над преступлениями фашизма, который имел не только ценностно-мировоззренческие, но и психические последствия. Имею в виду мотивации не только на уровне сознания, но и на уровне чувств и воображения, которые помогут заново пережить, то есть «увидеть», «почувствовать» массовые преступления, совершённые коммунистами.
Исследование украинской массовой ментальности не должно ограничиваться лишь коммунистическим периодом. Этот более широкий подход отчасти представлен в украинской интеллектуальной культуре. Из последних публикаций достойна внимания статья О. Ольжича «Дух руины» с послесловием И. Дзюбы. В этом послесловии Дзюба указывает и на некоторые более ранние публикации на эту тему.
И всё же мой подход в большей степени перспективный, нежели ретроспективный. Нужно ответить прежде всего на вопрос, как изменить имеющуюся массовую ментальность, чтобы народ смог формировать относительно качественную государственную власть и был способен контролировать её. Народ может быть сильным, когда объединён.
* * *
Проблема гражданского единства. Тезис, что Украина может быть сильной, когда она объединена, не вызывает возражений ни среди интеллектуалов, ни среди политиков, ни на уровне массового сознания украинских граждан. Преимущественно имеют в виду единство при одновременном сохранении полезного плюрализма внутри гражданского общества. Но сразу же встаёт важнейший вопрос: какие факторы способны объединить граждан Украины и как этого достичь? Часто утверждают, что основными факторами, способными вселить в украинских граждан чувство гордости за свою страну, являются успехи в экономике, социальная политика, способствующая появлению экономически мощного среднего класса, и соответствие политической и правовой систем и практик европейским стандартам, в частности сведение коррупции к как можно более низкому уровню.
Вряд ли кто будет отрицать важность указанных в представленном списке факторов. Но в нём отсутствует национальный фактор, если его понимать как утверждение национально-культурных особенностей того гражданского общества, которое является основой государства. Это характерная тенденция многих дискуссий на тему гражданского единства — достаточного для того, чтобы сделать народ способным формировать качественную политическую власть и контролировать её. Вспоминается тезис, к случаю высказанный Ангелой Меркель: «Культура следует за экономикой».
Впрочем, от граждан скрывают истину, что желаемые социально-экономические преобразования в пользу народа могут произойти только при должном уровне национального сознания и, соответственно, гражданского единства. Даже очевидные истины нелегко получают признание на уровне массового сознания. Например, очевидно, что утверждение украинского языка как языка массового общения экономически выгодно всем гражданам Украины независимо от этнического происхождения, так как является одним из факторов, сдерживающих неконтролируемую миграцию в условиях «прозрачных границ» и даёт преимущество гражданам Украины на рынке труда. С этим связано также доминирование на книжном рынке украиноязычной книги, поскольку это обеспечивает работой многих граждан Украины, которые отдают предпочтение украиноязычной книге. Это касается также поддержания самобытности украинской культуры во всех её областях.
Представим себе, что в каком-то отдалённом будущем демократическая Украина вместе с демократической Россией войдёт в западное цивилизационное пространство, утратив свою национально-культурную идентичность. В таком случае слово «Украина», если вообще сохранится, будет обозначать разве что определённую территорию. Это не фантастическое предположение. Эта перспектива остаётся реально возможной для таких стран, как Беларусь или современная Украина. Этому способствуют и некоторые мировые тенденции, в частности сдержанное отношение Европы к тезису, что основой гражданского единства в Украине должно быть формирование украинской политической нации на основе украинской культурной самобытности.
Меня удивляет, когда какая-то часть украинских интеллектуалов, говоря о «движении Украины в Европу», мыслит признаки «европейскости» исключительно под углом зрения соблюдения универсальных «европейских стандартов». Иногда такая позиция является следствием индивидуалистического либерализма, когда либерал наивно думает, что утверждение прав человека автоматически обеспечивает сохранение культурной самобытности наций или возрождение самобытной культуры какого-либо народа. В Украине такой либерализм часто служит прикрытием предубеждений против украинской национально-культурной идентичности.
Европа является единством культурного разнообразия. Вспомним, что формирование ЕС сопровождалось дискуссией, должны ли национально определённые территории в ЕС стать только регионами, или речь идёт о содружестве отечеств. Пересекая границу любого государства ЕС, украинец прежде всего сталкивается с национальным языком, который в каждом из европейских государств свой. Между тем тот, кто пересекает границу Украины, двигаясь в пространство постсоветских государств (которое можно назвать также евразийским), оказывается на улицах украинских городов в культурном пространстве доминирования русского языка.
Я уже отмечал в предыдущем разделе, что этническая нация возникает в результате слияния предыдущих этнических сообществ (этносов) в большую культурную целостность, а также в результате сочетания действия культурных и политических факторов. В политическом формировании нации важную роль играет государство — фактор, которого лишены безгосударственные нации или те из них, у которых государства возникают временно (чехи, поляки, норвежцы, украинцы, белорусы и т. д.). Из культурных факторов важное значение приобретает профессиональная культура в процессе создания общего литературного языка, изобретения печати, развития образования и т. п. Именно это культурное движение играло ведущую роль в становлении национального сознания безгосударственных наций, что, в конце концов, привело к признанию их существования, а значит, и их права на политическое самоопределение — создание независимого государства.
В либеральном варианте создания украинской политической нации на основе украинской этнической нации речь идёт о таком единстве разнообразия, которое не ориентировано на лишение прав и возможностей национальных меньшинств сохранять свою культурную самобытность, в частности диалектные различия в пределах украинской этнической нации. Это в равной мере касается и гуцула, и лемка, и других сообществ, представляющих эти различия. Если речь идёт, скажем, о позиции утверждения украинского языка как государственного, то есть языка общегражданского общения, то здесь нужно учитывать ориентацию национальных меньшинств на двуязычие. Каждый гражданин Украины, независимо от этнического происхождения, должен поддерживать украинский язык как язык общегражданского общения. Но никто не может лишить национальное меньшинство права пользоваться своим родным языком, основывать школы и другие культурные или религиозные учреждения для собственных нужд.
Обеспечение гражданского единства на основе понятных принципов важно для формирования демократического государства и контроля над ним гражданского общества. Кроме языка общегражданского общения (государственного), к элементам обеспечения такого единства относятся, в частности, знание элементарного курса истории Украины и представление об особенностях её культуры, утверждение уважения к государственной символике и чувства патриотизма, настроенности на защиту национальных интересов и независимости украинского государства. В поддержке такого минимально необходимого единства должен быть заинтересован любой представитель национальных меньшинств, исходя из учёта собственных жизненных интересов. Главным в убеждении должно быть умение показать, что осуществление только что очерченной стратегии отвечает экономическим и политическим интересам национальных меньшинств. Скажем, русское национальное меньшинство в таком случае будет способно заблокировать попытки использовать себя как средство осуществления неоимперской политики современной РФ и стать силой, утверждающей дружественные, а не враждебные взаимоотношения с этническими украинцами. С другой стороны, утверждение самобытной культуры и языка будет иметь своим следствием и определённые экономические выгоды.
В случае продолжения нынешней культурной политики бесспорна угроза исчезновения украинской национально-культурной самобытности, прежде всего на уровне массовой культуры. Это видно по тому, что использование украинского языка как языка общегражданского общения интенсивно сужается в городах в пользу русского.
В современной Украине сознательные проимперские силы модифицируют скрытые имперские стереотипы, унаследованные от СССР, или же создают новые, способные лучше работать в новых условиях. В любом случае, ссылка на скрытую внешнюю инспирацию таких риторик бессильна. Решающей является критика тех смыслов, которые они скрывают. Это важно потому, что, насаждая новые риторики на унаследованные стереотипы, сознательные проимперские силы рассчитывают, что эти риторики на уровне массового сознания будут восприниматься как нечто оправданное и очевидное. Таким якобы очевидным является утверждение, что Украина является и должна быть многонациональным государством, так как в ней проживает много национальных меньшинств. С тем сочетаются также практики обеспечения представленности в пространстве публичных дискуссий, особенно на телевидении, интеллектуалов индивидуалистического либерального направления, даже тех, кто подчёркивает «ценность культурного членства», если воспользоваться фразой канадского философа-либерала Уила Кимлики.
Действительно, даже интеллектуалы, которые придерживаются принципов либерализма, остаются «разбросанными» в широком диапазоне либеральных идеологий. Это свойственно не только Украине, однако для нас вопрос является особенно острым.
Этот недостаток или болезнь свойственна также оппозиционным партиям даже с общей задекларированной национально-демократической идеологией. Сейчас, когда пишу эти строки, мы имеем те же призывы партийных деятелей к объединению и неспособность партий даже с одинаковой идеологией осуществить этот призыв. Я объяснял и объясняю эту несклонность к созданию многочисленных, а соответственно сильных, влиятельных, оппозиционных партий унаследованным стереотипом «вождизма». Имею в виду возложение надежд на лидера, на его харизму вместо того, чтобы сосредоточить внимание на способах организации партии.
Тезис о единстве так часто повторяется, что уже стал ритуальным. Даже американский посол в Украине замечает: «Ещё раз напомню, Украина сильна, когда она объединена», впрочем, вопрос, как это сделать, остаётся без ответа. Складывается впечатление, что большинство украинских граждан хотели бы достичь гражданского единства, но так, чтобы это не затрагивало их унаследованных ценностных ориентаций, представлений и чувств.
Минимально необходимый уровень гражданской солидарности позволит успешно контролировать государственную власть, блокировать её разъединительные технологии, заставлять её проводить перспективную экономическую и социальную политику.