
Я буду называть условно правозащитников 60-80-х годов «старыми», а современных – «новыми».
Большая часть «старых» правозащитников были религиозными людьми, преимущественно христианами, и для них десять заповедей Христовых были основными ценностями. Некоторые «новые» правозащитники сохранили отношение к ним как к первооснове. В 60-80-е годы права человека считались инструментом общественного контроля за государством, языком, на котором можно говорить об общественных отношениях, не более того. Но современная правозащита значительно многочисленнее, более разнообразна и пестра, в ней много представителей других религий, агностиков и атеистов. Некоторые правозащитники считали раньше и считают сейчас, что права человека фактически создают едва ли не новую религию, новую философию. К примеру, профессор Владимир Буткевич, бывший судья Европейского суда по правам человека от Украины, даже говорил: «Всеобщая декларация прав человека — это моя Библия».
Главной ценностью правозащиты была и остается свобода, она синоним всего комплекса прав человека. Быть свободным означает свободно распоряжаться своей судьбой. Нет ничего ужаснее, чем зависеть от воли другого человека или воли государственного института.
Достоинство было и остается второй ключевой ценностью правозащиты. Речь идет о всеобщем человеческом достоинстве, которое принадлежит всем, от младенца до преступника, а не о личном достоинстве (то же самое, что честь или репутация), которое растет как результат добрых поступков и теряется вследствие злых. Достоинство является лучшим индикатором нарушения свободы. Чувство оскорбленного достоинства всегда свидетельствует о несправедливости, произволе, насилии или даже преступных действиях того, кто его оскорбил.
И свобода, и достоинство были наиболее важными ценностями для Анатолия Марченко, причем, он был готов лишиться свободы, но сохранить достоинство. В целом, можно сказать, что ценности и принципы правозащиты были для него максимально близкими, но следование им было непоказным, они были для Марченко естественными как дыхание.
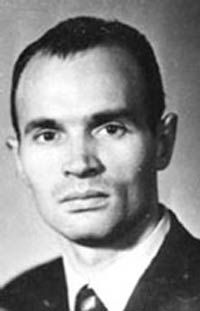
Честность, максимальная достоверность и объективность информации – этот принцип означает, во-первых, невозможность думать одно, говорить другое, а делать третье, и, во-вторых, работу по формуле английского суда: «говорить правду, всю правду и ничего, кроме правды». Это одно из основных отличий между правозащитной и политической деятельностью. Для политика, в лучшем случае, характерно говорить правду, но не всю. А ту информацию, которая может оказаться вредной для его партии, можно и припрятать. Известная формула «он сукин сын, но это наш сукин сын» для правозащитных организаций полностью неприемлема. Однако для «новых» правозащитников этот принцип, на мой взгляд, остался невостребованным, свои взаимоотношения с государством они строят часто, пытаясь добиться компромисса в ситуациях, когда он невозможен. На самом деле они должны стремиться к объективности информации, даже если эта объективность не свидетельствует в их пользу, но они на это чаще неспособны. Например, они сейчас закрывают глаза на военные преступления, возможно, совершаемые украинскими вооруженными силами.
Этот принцип быв в высшей степени характерен для Анатолия Марченко. Он органически не переносил лукавства в отношениях с кем-бы то ни было – как с людьми, так и государственными органами. Так, попав в колонию, он холодно отреагировал на распростертые объятья Юрия Шихановича, сказав, что мы с вами и на воле не очень-то общались. Как известно, он отказался эмигрировать в Израиль, не будучи евреем, для него это было унизительно.
Правозащитники 60-80-х годов отказались от принципов подпольной и вооруженной деятельности, их деятельность была мирной, открытой и апеллировала к праву. Тогдашним лозунгом было – «Соблюдайте собственные законы!». Хотя попытки создавать подпольные антисоветские организации оставались, тогдашние споры на эту тему сегодня являются анахронизмом, все современные правозащитные организации открыты, ненасильственны и опираются на право, в частности, международное. Особое развитие получило использование механизмов европейского права, в частности Европейского суда по правам человека. В 60-80-е годы об этом нельзя было и мечтать, тогда даже Всеобщая декларация прав человека считалась антисоветским документом и изымалась во время обысков.
Важной ценностью для правозащитников была и есть независимость – от политической позиции, от общественного мнения, от государства. В отношении к государству «старые» правозащитники руководствовались немного переделанным шаламовским кодексом сталинского зека («Не верь, не бойся, не проси»): не верь агентам государства, не бойся их и не проси ничего.
Сегодня независимость значит еще больше, поскольку значительно больше под угрозой, чем в 60-80-е годы – ныне много искушений. Она означает принципиальную беспартийность, отказ от поддержки какой-либо политической силы, от априорного согласия с устоявшимися общественными стереотипами, от содействия со стороны государства в любой форме. Однако независимость не должна переходить в конфронтацию. Смущает прокурорский тон многих общественных активистов по отношению к государству, их стремление во всем обвинить власть. Источник нарушений прав человека – сам человек и те структуры, которые он создает. Мы имеем такое государство, которого заслуживаем, поскольку не смогли создать себе другое. Лучше исповедовать философию вины, а не обиды – гораздо конструктивнее искать корни своих бед в себе, чем в других. Но значительная часть «новых» правозащитников этого не осознает.
Принципы «Не бойся!» и «Не проси!» остаются актуальными для современной правозащиты, а вот «Не верь!» является сегодня неприемлемым. Поскольку права человека корреспондируют с обязанностью государства по их соблюдению и обеспечению, а Украинское государство декларирует это своим главным долгом, то правозащитники должны вести с ним диалог, пока государство на него способно. Его тема – реальное соблюдение государством прав человека. Поэтому старая формула правозащиты в 60-80-е годы – «защита прав человека от организованного насилия, совершаемого государством» – сегодня должна быть дополнена: «и содействие государству в обеспечении и защите прав человека».
Принцип взаимодействия правозащитных организаций с государством сформулировал еще в 1988 г. Сергей Ковалев: «Честное сотрудничество неединомышленников». Во всем том, в чем я согласен с властью, я готов с ней честно сотрудничать, а когда она допускает ошибки, я буду противостоять ей, используя существующие законные методы. Взаимодействие с государством требует определенного уровня взаимного доверия и уважения. Трудно сказать, как повел бы себя Анатолий Тихонович, если бы остался жив: мне думается, ему было бы нелегко взаимодействовать с органами власти и вести с ними диалог.
Справедливость также является темой диалога правозащитников с государством. Следует различать две разновидности этой ценности – «процессуальную» справедливость, относящуюся к результату применения корректно построенного правового механизма, и моральную справедливость, когда апеллируют к ценностям, которые не воплощены в праве или недостаточно охватываются правом. В этом смысле говорят о социальной справедливости, политической справедливости, экономической справедливости и т.д. Представление о неотвратимости наказания за преступление, что зло должно быть наказано – это, прежде всего, проявление ощущения справедливости.
Ценности беспристрастности и терпимости сегодня гораздо больше под угрозой, чем в 60-80-е годы. Для правозащитника принципиально, чтобы в общественном дискурсе были представлены все позиции. В общественной жизни должны отражаться и левые, и правые, и центристы, все направления политической мысли и социальной активности. Правозащитник должен быть терпим к другим мнениям, в частности, противоположным его взглядам. Он должен уважать различия в мышлении, многообразие общественных объединений и их целей. Запреты определенных позиций только обедняют информационное влияние на принятие политических решений. Если представить себе трехуровневую систему принятия решений информация-политика-право в виде дерева – корни-ствол-крона – то ограничение свободы информации означает запрет кроной корням питать ствол. Такое дерево зачахнет. Однако речь идет о терпимости к мыслям и идеям или, шире, к любым проявлениям символической реальности, а в реальности физической терпимость к насильственным действиям, к произволу исключается. В условиях военной агрессии России и засилья лживой российской пропаганды, эти ценности вместе со свободой взглядов, слова и информации вступают в коллизию с ценностями национальной безопасности и территориальной целостности, а также национально-патриотическими чувствами. Ничего подобного в 60-80-е годы не было. Этот конфликт ценностей должен рассматриваться отдельно в каждом конкретном случае, поскольку единого решения для всех случаев быть не может.
С ценностями гуманизма и милосердия схожие проблемы, которых не было в 60-80-е годы. «Старые» правозащитники априори были гуманистами, которых советское государство преследовало, и говорить с ним о милосердии не имело смысла. Сегодня такие разговоры также малоперспективны в результате военного конфликта с Россией, более того, в условиях растущего насилия и ненависти эти ценности не поддерживаются значительной частью гражданского общества, захваченной жаждой мести. К сожалению, этого не избежали и некоторые организации, которые идентифицируют себя как правозащитные, тогда как для правозащитника, вообще говоря, милосердие должно быть выше справедливости. Чувство жалости к жертвам насилия может значить больше, чем мотивированность действий государства достичь справедливости. Равнодушным правозащитник не может быть.
Одним из моих занятий, начиная с марта 2022 года, является руководство крупным проектом, посвященным сбору информации и документированию преступлений, совершенных российскими военными против мирных жителей Украины и гражданских объектов, предварительно их можно квалифицировать как военные преступления, преступления против человечности и геноцид. Мы зафиксировали данные о десятках тысяч смертей и ранений гражданских лиц, разрушенных или существенно поврежденных гражданских объектах, незаконно задержанных и похищенных на оккупированной территории, истерзанных пытками в неволе людей. Пострадавшим от преступлений и их семьям мы оказываем не только правовую, но и психологическую, денежную, медицинскую, гуманитарную помощь. Ее получили тысячи семей.
Естественно, что переживание даже частицы этого кошмара в своей жизни влечет за собой ненависть к руководству русского государства и русских военных. Эта ненависть часто переносится на все русское — страну, граждан, язык, литературу и искусство. Можно сказать, что она становится всеобъемлющей.
Именно вследствие господства ненависти в общественном сознании — сегодня особенно остро осознается аксиоматика прав человека: правда выше закона; выше правды – справедливость; выше справедливости – милосердие; выше милосердия – любовь. Ненависть разрушает прежде всего ненавидящих, она опустошает душу. Она естественна только на поле боя, где российский солдат должен быть уничтожен. Но как только он попал в плен, ненависть должна отступить. Как минимум для того, чтобы обезопасить себя от превращения в убийцу невооруженного.
Ненависть ко всем россиянам иррациональна: нельзя оценивать людей по их гражданству, а только – по их действиям и словам. И нельзя забывать, что хотя открытых оппонентов путинскому режиму и немного – не более 5% от численности населения РФ – но они выступают против российской агрессии, помогают украинским пленникам, подвергаясь уголовному преследованию со сроками наказания до 25 лет лишения свободы. Эти люди часто помогают украинским беженцам уехать из России, собирают для них деньги.
Я убежден, что нам необходимо совместно с российскими правозащитниками защищать наших военнопленных и гражданских узников, без них мы просто ничего не сможем сделать. Словами благодарности этим бесстрашным людям, продолжающим традиции «старых» правозащитников, и, в частности, Анатолия Марченко, я хочу закончить свое выступление.
