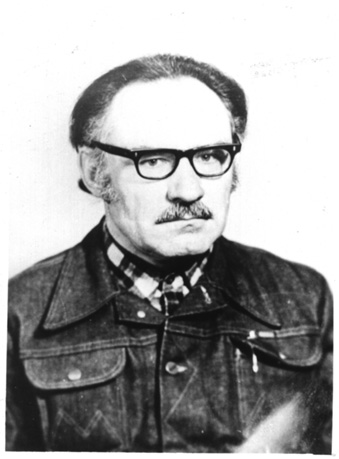В интервью Михайлины Коцюбинской есть такой фрагмент.
«Я вспоминаю сейчас такой эпизод. Они тогда жили на Воздухофлотском проспекте... И вот перед каким-то судом, по-моему, перед судом Светличного, приехали к Марте и пошли гулять в направлении Жулян. Там все время взлетают самолеты, и такой шум, что можно говорить что хочешь, и ничего не будет слышно. И вот я иду посередине, с правой стороны Лёля Светличная, с левой – Марта Дзюба. И обсуждаем суд Светличного. Лёля говорит: „Пусть будет полная катушка, только чтобы он не раскололся! Это его убьет, он не сможет с этим жить!“ Марта: „Лёля, ну что Вы такое говорите! Надо, чтобы он вышел на свободу!“ Я вспоминаю, Лёлю все время шантажировали – Иван же на вид ужасно мягкий, но они ошиблись, потому что он такой упрямый, такой твердый, что можно на него все что угодно валить, но если он знает, что должно быть так, то так оно и будет. И они это поняли и дали ему всю катушку со злости. Но все время пускались такие слухи, что он раскололся, что напишет покаяние. И я вспоминаю, как та Лёля пришла ко мне после суда – вся подтянутая, в каком-то черном костюме, с красивой такой брошью, глаза ее сияют: „На полную катушку!“ Это кому-то только рассказать, но это же правда, это же было так, я не выдумываю. Была такая радость – мужу дали 12 лет, а она сияла.»
Эта разница в отношении жён Ивана Светличного и Ивана Дзюбы к их аресту и дальнейшей судьбе многое объясняет. Леонида Павловна Светличная понимала, что ее муж не сможет жить дальше с этим покаянием, что он не простит себе эту слабость, и потому радовалась, что он выстоял и получил максимальное наказание – 7 лет лагерей и 5 лет ссылки. И этот приговор все-таки убил Ивана Светличного: после инсульта в августе 1981 года в ссылке на Алтае он уже не мог работать и умер в 1992 году. Марта Владимировна Дзюба была уверена, что ее муж с тяжелым туберкулезом не выдержит жизни в заключении, что оно его убьет, и сделала все, чтобы вытянуть мужа на волю и тем самым сохранить ему жизнь.
По-моему, обе были правы.
«Литературную Украину» с покаянным заявлением Ивана Дзюбы КГБ поспешил переслать в политические лагеря, чтобы его друзья ознакомились с ней. Реакция украинских политзаключенных была преимущественно крайне негативной, лишь немногие из них, в частности, Иван Светличный, удержался от обвинений в предательстве. Я думаю, что именно поэтому в КГБ возникла идея переписки между друзьями. Но первое же письмо Светличного к Дзюбе не попало к адресату и было изъято – по понятным причинам: в КГБ не хотели, чтобы неудобные вопросы Светличного повлияли на Дзюбу.
Мы публикуем ниже документ из Отраслевого государственного архива СБУ[1], который содержит письмо Ивана Светличного – блестящий документ эпохи. Насколько нам известно, этот документ еще не публиковался.
[1] ОГА СБ Украины, ф. 16, оп. 3, д. 2, т. 9, с. 348-362.
ДЕЛО 2 ТОМ 9
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
Серия «К»
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ УКРАИНЫ
товарищу ВЕРБИЦКОМУ В. В.
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
В дополнение к № 39 от 17 января 1974 года докладываем, что КГБ при СМ УССР продолжает оперативный контроль за поведением ДЗЮБЫ И. М., а также мероприятия по его идейному переубеждению и отрыву от националистической среды.
С этой целью проведено несколько встреч и профилактических бесед с ДЗЮБОЙ сотрудником КГБ при СМ УССР, в ходе которых он выразил удовлетворение своим положением и работой в многотиражной газете Киевского авиазавода. ДЗЮБА также сообщил, что за истекший период времени имел встречи с некоторыми бывшими единомышленниками, хотя сам таких контактов не искал и они носили случайный характер. В частности, рассказал о встрече во время прогулки в городе со СВЕТЛИЧНОЙ Л., которая, ссылаясь на поручение мужа (осужденного объекта дела «Блок» СВЕТЛИЧНОГО И. А.), уточнила его домашний адрес для почтовой переписки.
По оперативным данным, эта встреча действительно была случайной, что подтвердила в беседе с оперработником и жена ДЗЮБЫ. Оперативно-техническими средствами зафиксировано, что она по этому поводу выражала резкое недовольство, высказывала мнение, что ДЗЮБЕ следовало отказаться от беседы со СВЕТЛИЧНОЙ, советовала «быть начеку и не бросаться на подобные разговоры».
В беседе с сотрудником КГБ при СМ УССР ДЗЮБА также высказывал свое отрицательное отношение к подобным встречам, однако заявил, что и в дальнейшем не сможет избежать случайных контактов с бывшими единомышленниками. При этом выразил нежелание информировать о них оперработника, так как считает, что отдельным лицам могут быть причинены неприятности. Вместе с тем он заявил о намерении твердо выполнять взятые на себя обязательства и заверил, что принятое им решение порвать с прошлым является окончательным. По словам ДЗЮБЫ, за последние два года произошли изменения в его взглядах и представлениях, на многое он стал смотреть по-иному, более реалистично и многое переосмыслил. Считал, что подобный процесс произойдет и у его бывших единомышленников, однако после встреч с ними убедился, что позиции большинства таких лиц остались прежними, в силу чего от состоявшихся бесед с ними возникали только недоразумения.
В результате оперативного контроля за поведением ДЗЮБЫ получены данные, что в кругу семьи и при встречах с доверительными связями он проявляет сдержанность, избегает разговоров на политические темы и не высказывает своего отношения к прошлой националистической деятельности.
Со стороны бывших единомышленников отношение к ДЗЮБЕ остается прежним, большинство их продолжает осуждать его покаянное заявление, рассматривая «капитуляцию» ДЗЮБЫ как серьезный урон для «национального движения».
Вместе с тем установлено, что часть оставшихся на свободе и осужденных объектов дела «Блок» не отказалась от надежд на возможность возвращения ДЗЮБЫ к прежней националистической деятельности и продолжает предпринимать меры по оказанию на него морального воздействия. Наряду с КОЦЮБИНСКОЙ и НЕКРАСОВЫМ, стремившихся в таком плане повлиять на ДЗЮБУ, аналогичные попытки стал предпринимать осужденный СВЕТЛИЧНЫЙ И. А. В феврале с. г. он проявил интерес к установлению непосредственной переписки с ДЗЮБОЙ, чтобы «попытаться завязать с ним разговор». Позже цензурой Скальнинского ИТУ было конфисковано подстрекательское письмо СВЕТЛИЧНОГО в адрес ДЗЮБЫ, в котором он стремился оказать на последнего моральное давление, чтобы удержать его на прежних националистических позициях, толкнуть на выступление в защиту осужденных СТУСА, КАЛИНЦА и других бывших единомышленников (копия письма СВЕТЛИЧНОГО к ДЗЮБЕ в приложении).
Характерно отметить, что СВЕТЛИЧНЫЙ, КОЦЮБИНСКАЯ и ряд других бывших единомышленников ДЗЮБЫ, осуждая официально занятую им позицию, стремятся прежде всего воспрепятствовать подготовке книги, опровергающей трактат «Интернационализм или русификация?». В этой связи отмечались высказывания националистически настроенных лиц, что ДЗЮБА такой книги не напишет, так как, по их мнению, он остался на прежних националистических позициях. Распространению подобных суждений способствует и то обстоятельство, что со времени после освобождения ДЗЮБЫ от наказания, в прессе не было опубликовано, кроме заявления от 9 ноября 1973 г., его материалов, направленных против украинского буржуазного национализма.
КГБ при СМ УССР, поддерживая ходатайство ДЗЮБЫ о помиловании, исходил из интересов последующего активного использования его в мероприятиях против украинских националистов. Наши соображения по этим вопросам докладывались ЦК КП Украины № 622 от 28 ноября 1973 г.
В результате проведенной в этом направлении работы с ДЗЮБОЙ он завершил рукопись книги «Третьего не дано», о подготовке которой упоминалось ранее в его заявлении, опубликованном в газете «Літературна Україна». Однако за истекшие пять месяцев после помилования ДЗЮБЫ опубликованы только два его очерка о строительстве прокатного стана «3600», а других материалов, убедительно свидетельствующих о пересмотре и осуждении им прежних националистических взглядов и становлении на путь отхода от национализма, в прессе, по существу, не было.
В силу этих причин замысел по использованию ДЗЮБЫ как одного из бывших идеологов т. н. «национального движения» на Украине в активных мероприятиях против украинских буржуазных националистов пока не находит своего практического воплощения.
Отсутствие подобных публикаций ДЗЮБЫ националистическими элементами расценивается как проявление им «твердости» и «бескомпромиссности», дает повод для раздувания слухов о том, что ДЗЮБА остался на прежних позициях. Именно это позволяет бывшим единомышленникам ДЗЮБЫ строить расчеты на возвращение его в свой лагерь. Поскольку сам ДЗЮБА полностью еще не отрешился от националистических убеждений и проявляет нерешительность, сложившаяся ситуация в определенной степени его устраивает, т. к. не требует от него инициативного публичного размежевания с бывшими единомышленниками.
Вместе с тем в последнее время ДЗЮБА в беседах с оперработником чаще интересуется судьбой рукописи книги «Третьего не дано», высказывает предположение о том, что книга, видимо, не будет опубликована, о чем он искренне сожалеет, так как этой книгой, по его заявлению, он подтвердил бы свою нынешнюю позицию и избавил бы себя от «внимания» со стороны бывших «друзей».
Не будучи уверенным в том, что книга «Третьего не дано» увидит свет, ДЗЮБА подготовил на основании нескольких глав этой книги две статьи для опубликования в периодической печати, в частности, «Международное значение решения национального вопроса в СССР» и «Национальная культура украинской социалистической нации и интернациональная культура советского народа».
С учетом изложенного просим до решения вопроса об издании книги «Третьего не дано» рассмотреть возможность публикации в газете «Вісті з України» указанных статей.
Публикация названных статей даже после их доработки, естественно, не представляет научной ценности, однако сам факт выступления ДЗЮБЫ в печати по вопросам национальных отношений с марксистско-ленинских позиций ограничит возможности зарубежных оуновских центров по использованию имени ДЗЮБЫ и его трактата в антисоветской пропаганде. Одновременно это окажет, по нашему мнению, политически выгодное воздействие на бывших единомышленников ДЗЮБЫ и других националистически настроенных лиц, явится убедительным подтверждением осуждения им прежних националистических взглядов.
Кроме этого, опубликование названных статей окажет выгодное воздействие и на самого ДЗЮБУ, который в последнее время начал скептически смотреть на то, что его материалы могут быть использованы в борьбе по разоблачению враждебной идеологии национализма и начал уделять больше внимания подготовке материалов для многотиражной газеты на текущую тематику.
Наряду с дальнейшими мерами оперативного характера по ограждению и отрыву ДЗЮБЫ от бывших единомышленников, считали бы целесообразным организовать с ним регулярные встречи и беседы воспитательного значения одного-двух представителей СПУ, имея в виду постепенное вовлечение ДЗЮБЫ в активную творческую работу.
По этим соображениям считаем желательным не препятствовать заключению договора ДЗЮБЫ с издательством «Дніпро» на публикацию переведенного им романа осетинской писательницы Эзетхан Уруймаговой «Навстречу жизни» о революционных событиях на Северном Кавказе в 1905-1912 гг., который неоднократно издавался ранее на русском языке.
По мнению КГБ при СМ УССР следует также поддержать намерения ДЗЮБЫ о повторной поездке на завод «Азовсталь» и способствовать подготовке задуманной им книги очерков о жизни и труде ждановских металлургов.
Докладываем на Ваше решение.
ПРИЛОЖЕНИЕ: по тексту на «8» листах.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ УКРАИНСКОЙ ССР
В. ФЕДОРЧУК
ПИСЬМО ИВАНА СВЕТЛИЧНОГО
Иван!
Когда мне сказали, что я могу написать тебе письмо, я обрадовался. С тех пор, как мы виделись с тобой в последний раз, прошло вроде бы и немного времени, но над нашими головами прогремело столько событий, столько изменилось в нашей жизни и в нас самих, что уже сама возможность, сама оказия обменяться мнениями, вместе, как раньше, осмыслить новообретенный – чем-то горький, а чем-то и полезный – опыт меня радует. Пишу: меня, но надеюсь: и тебя тоже. Наши теперешние опекуны говорят даже, что тебе сейчас тяжелее, чем мне, – и у меня нет оснований не верить им, а из этого легко представить, что и потребность в общении с живыми людьми у тебя не меньше, чем у меня.
У меня потребность в общении обостряется искусственными обстоятельствами. Лагерная цензура, которая по идее должна была бы выполнять узкоспециальные, строго определенные законом функции, решает дела моих взаимоотношений с другими людьми на свой вкус и усмотрение. Мои письма и письма ко мне конфискуют, не утруждая себя тем, чтобы как-то серьезно мотивировать конфискацию. Иногда говорят: «В письме есть информация, которую вам не следует знать», – и таким образом за меня и без меня решают, что я могу знать, а чего не могу. Но чаще в письмах находят какие-то таинственные «условности»: что это за штука – того, наверное, и всевышний не ведает, а на просьбу объяснить, в чем цензура усматривает эти условности (ведь это надо знать хотя бы для того, чтобы не идти на риск новой конфискации), отвечают еще лаконичнее: «Вы знаете сами». И ни проверить действия цензуры, ни обжаловать никак и никому.
О чем можно писать в письмах – этого не знает никто, но о чем нельзя – нам повторяют часто. Нельзя писать о своих друзьях и знакомых, с которыми ты живешь в лагере, – и если бы я захотел сообщить тебе что-нибудь, скажем, об И. Калынце, З. Антонюке или В. Захарченко, которых ты знаешь и их судьбой можешь интересоваться, – уже одно это могло бы быть достаточным «основанием» для конфискации моего письма. Нельзя писать о лагерных условиях и лагерной жизни вообще, а поскольку никакой другой жизни, кроме лагерной, я не вижу и видеть не могу, то о чем я могу писать? «Пишите о самом себе», – повторяют наставники разных уровней и рангов. Но что значит писать о самом себе, не упоминая окружения, условий жизни, людей и т. п. Не говорю уже, что собственная персона – не для всех такая благодатная тема, чтобы на ней стоило сосредотачивать все свои интересы, но даже о здоровье лучше писать, когда оно не ухудшается, а особенно – от лагерных условий: питания, медицины и т. д. (такую деликатную тему цензура возводит до уровня едва ли не государственных тайн). И можно понять людей, которые порой совсем отказываются от такого, с позволения сказать, права на переписку и перепоручают эти функции лагерной администрации, чтобы она – в пределах законного лимита – стандартно сообщала родным о здоровье имярека.
Это звучит дико, но все это легко вписывается в общую атмосферу лагерной жизни. Непостижимыми парадоксами, кафкианской логикой «наоборот» здесь пропитано все. Казалось бы, по нормам нашего общества среди заключенных должен бы прививаться или хотя бы стимулироваться дух коллективизма. Однако именно проявлений коллективизма здесь боятся как черт ладана. Если заключенные дружат, это считается чем-то подозрительным и опасным и под разными предлогами этому противодействуют. Официально никто не может написать заявление или жалобу за своего товарища. Никто не имеет права подарить какую-нибудь безделушку, скажем, своему другу на день рождения. Все здесь направлено на рассоциализацию личности, на воспитание обособленных единиц, мещан, которые, кроме собственной персоны, не должны знать никаких живых интересов. Сколько там бедный Макаренко от такой «педагогики» переворачивается в своем гробу!
Теперь ты понимаешь, почему я обрадовался, когда мне сказали, что я могу написать тебе письмо? Но когда я взял в руки перо, писать оказалось нелегко. Теперь, в новых условиях, встают вопросы, которые раньше были бы странными: о чем писать? и – кому писать?
Да, да: и о чем, и кому...
Прежнего И. Дзюбу я знал, думаю, неплохо. Всякие преувеличения в аттестации своих друзей я считаю дурным тоном и не стану прибегать к красивым и громким словам, но и без преувеличения могу сказать: прежний И. Дзюба в моем воображении ассоциируется с образом человека и гражданина, который в своих действиях руководствовался моральным кодексом высокой пробы и никакие общественные интересы не приносил в жертву собственным.
Теперь ты декларировал: «того „Ивана Дзюбы“, который позволял делать из себя притчу во языцех и который растрачивал годы жизни на политических окольных путях, нет и уже не будет. А есть человек, которому больно от осознания досадных ошибок и впустую потраченного времени и который хочет одного и думает об одном: работать и работать, чтобы хоть немного наверстать упущенное и компенсировать ошибочное».
Итак, того И. Дзюбы, которого я знал, нет, а есть новый И. Дзюба, и логично, прежде чем писать ему, поинтересоваться своим адресатом подробнее.
Частично ответ на это дает твое «заявление». Но, к сожалению, только частично, только суммарно, многое – по крайней мере, для меня – остается непонятным и невыясненным, а без этого ни представить своего нового адресата, ни тем более говорить с ним прежним тоном не могу. Мне интересно знать, что именно новый И. Дзюба отсек от прежнего, а что унаследовал и как далеко зашла переоценка ценностей: касается ли она только мировоззрения, или захватила также и моральные принципы?
Ты знаешь, что к чужим взглядам и убеждениям я терпим. Евгений на своем суде об этом даже сказал: «космическая терпимость» – и в его словах я почувствовал нотки укора. Я признаю за собой такой грех, но не стыжусь его. Да, я терпим и к чужим взглядам, и к их эволюциям, изменениям, пересмотрам – даже и самым кардинальным. Единственная вера, которую я исповедую как священную, носит волшебное для меня название «демократия», а ее краеугольным камнем является терпимость. И твое заявление, хоть и было для меня во многом неожиданным, не поразило меня так, как многих, считавших его невероятным, неправдоподобным, дипломатическим, в конце концов даже фальшивкой. Я не настолько плохого мнения о тебе, чтобы предполагать, будто то «заявление» написали за тебя, а ты только дал напрокат свое имя. Не хочу думать также, что «заявление» вызвали ужасы заключения и преобладание личного над гражданским. Не могу поверить и в то, что это был дипломатический акт, рассчитанный на то, чтобы уступкой в одном, меньшем, достичь желаемого в другом, большем. Все такие предположения, оскорбительные и унизительные, слишком противоречат образу прежнего И. Дзюбы, чтобы я мог их принимать всерьез.
Одним словом, я исхожу из того, что «заявление» написал ты сам и, как говорится, в доброй памяти и здравом уме. Несмотря на все это, я повторяю, к твоей ревизии собственных убеждений отношусь терпимо, то есть признаю за тобой полное право на такую ревизию и не думаю, что нам уже и говорить не о чем. Единственное, что я хочу выяснить, до начала наших эпистолярных взаимоотношений (если они действительно будут возможны), это вопрос о характере и границах твоей ревизии. Я терпим к любым и чьим бы то ни было убеждениям, даже к абсолютно для меня неприемлемым. Мою терпимость немногие понимают и оправдывают, и даже самый близкий мне человек – моя жена – часто упрекала меня, когда я вступал в контакт и затевал спор с людьми, мировоззренчески для меня чуждыми, а то и враждебными. Я, однако, от таких контактов и споров часто получал большое удовольствие и пользу, иногда большую, чем от общения с моими единомышленниками и соратниками.
А признание за другими права думать не так, как думаю я, считал и считаю первой заповедью не только всяких споров, но и жизненных взаимоотношений в целом, я терпим ко всяческим взглядам, кроме тех, что отрицают мое право на собственные убеждения, то есть основываются на принципе нетерпимости к другим. Потому что если хорошо вдуматься, здесь речь идет не об убеждениях, не о мировоззрении, а о морали, об отношении к человеческой личности, о признании или отрицании за ней права быть человеком, и «обыкновенный фашизм», как известно, начинается именно с такой нетерпимости и основывается на ней. Я терпим, но вспомни: когда В. Мороз выступил против тебя со своим «Среди снегов», я был на твоей стороне и во многом из-за того, что в морозовской статье ощущались нотки нетерпимости к инакомыслящим. И поэтому, прежде чем вступать с тобой в эпистолярные взаимоотношения, я хочу выяснить именно это: изменил ли ты только свои взгляды, или также и мораль? Допускаешь ли ты за другими право думать не так, как ты, или уже одно это делает человека твоим личным врагом, не достойным твоего высокого внимания?
Задавать тебе такой вопрос я имею не только сугубо логические основания. Обращаться с ним к прежнему И. Дзюбе было бы смешно: прежний И. Дзюба как самое примечательное свое свойство имел толерантность к людям – толерантность не меньшую, а может даже и большую, чем твой покорный слуга. Теперь же, после твоего «заявления», после «переоценки и переосмысления своих позиций и взглядов», я не знаю, что осталось также и от твоей былой толерантности.
«Из всего, что произошло, – пишешь ты, – я сделал вывод: нельзя забывать, что мы живем в мире жестокой классовой идейно-политической борьбы, где нет „нейтральной территории“, где нельзя быть „немного“ за Советскую власть, за политику Коммунистической партии, а „немного“ – против. Неумолимая действительность рано или поздно поставит перед необходимостью сделать окончательный выбор».
Если эти слова брать в общем, абстрактно, только в контексте твоего «заявления», но вне контекста нашей общественной жизни, против них вряд ли можно сказать что-то по существу, во всяком случае, во мне они не вызывают никаких полемических эмоций. Странно только, что такой банальный вывод ты сделал лишь теперь, да еще и вследствие, как ты говоришь «большой гражданской и личной трагедии». Была нужда переживать трагедии ради таких аксиом! Это настораживает и наводит на другую, в конечном счете также простую и банальную мысль: мысль о том, что самые абстрактные банальности и самые банальные аксиомы не существуют сами по себе, без жизненных связей и контекстов, а когда твои слова поставить в такие связи и контексты, они звучат несколько иначе.
Что значит быть «немного» за, а «немного» против?
Здесь было бы кстати вспомнить трагедию людей, которые все те безобразия, что потом были названы культом личности, видели и не молчали: они тоже, не понимая банальных истин, были «немного» за, а «немного» против и в водовороте поединка искали «нейтральной территории», или может быть то «немного», прилепляемое к ним, было актом политической спекуляции? Здесь было бы кстати вспомнить, как Хрущев абстрактно невинную формулу «за» и «против» превратил в политическую дубину, которой весьма неделикатно поучал деятелей искусства творить художественные ценности. Здесь было бы кстати вспомнить, что и группа Молотова, а потом и сам Хрущев сошли с политической арены не столько из-за личных факторов, сколько из-за разного понимания того, что такое коммунизм и Советская власть и как им лучше можно прислужиться. Здесь бы... Но не будем трогать высокой политики, особенно современной: она для нас – persona grata, а ее амбиции простым смертным обходятся слишком дорого. Мы, литераторы, и в своей области имеем более чем достаточно примеров того, как сакраментальное «немного» вырастало из абсолютного «ничего», а при необходимости легко превращалось в угрожающее «анти». Действительно ли были «немного» против М. Рыльский или Ю. Яновский, когда их обвиняли во всех смертных грехах буржуазного национализма? И что, кроме желания, нужно было, чтобы разглядеть крамольное «немного» у В. Сосюры, когда он выступил со своим «Любите Украину?»?
А разве таких «немного» стало меньше в наше время? Если дело выбора жизненной позиции для тебя упростилось до такой степени, что уже никаких «немного» не осталось, я позволю себе спросить: кто больше сделал для развития советского общества – А. Солженицын, который своими произведениями будил в нас гражданскую совесть и чувство ответственности за все, что делаем мы и что делается вокруг нас, или В. Кочетов, которому все, что было после XX съезда КПСС, представлялось морально-политической деградацией, а выход и спасение виделись в реставрации сталинизма? Какими представляются тебе те «немного», которые характеризуют общественно-литературное противоборство твардовских и некрасовых с грибачевыми и корнейчуками?
Или помнишь, какой это был праздник, когда – после длительной поэтической летаргии – в литературу вошли «шестидесятники» – Лина Костенко, Н. Винграновский, И. Драч – и какие надежды на них возлагались? А что из этого вышло? Лина уже более десяти лет живет с кляпом во рту, а И. Драч держится в литературе стихами, которые поклонникам его таланта стыдно читать, – стыдно за И. Драча, стыдно за поэзию, стыдно за собственные надежды и чаяния. Но «шестидесятникам» хоть посчастливилось войти в литературу, их имена хоть известны читателям, а М. Воробьев, В. Кордун, В. Голобородько, В. Стус – поэты, которые своими талантами не уступают «шестидесятникам», а иногда и превосходят их, – даже и такого счастья не изведали. А В. Шевчук? А В. Дрозд? Сколько неопубликованных – и притом лучших – произведений осталось в их письменных столах и в редакционных портфелях? И бог с ним, что они раздражали высокую политику: в поэзии, скажем, тех же М. Воробьева или В. Голобородько чистая политика и не ночевала. И не мне тебе говорить, как обескровлена была наша литература этим «художественным геноцидом».
Теперь скажи мне, можешь ли ты выступление в защиту этих деятелей искусства назвать тем «немного» против, которое ты теперь считаешь для себя невозможным? И согласен ли ты, что наш общий друг В. Стус, который с тревогой и болью за нашу литературу, за ее действительно катастрофическое состояние, обратился к официальной общественности, уже тем самым стал особо опасным государственным преступником и суровое его наказание – вполне заслуженно? Видишь ли ты хоть какой-то криминал в поэзии И. Калынца, осужденного именно за художественное творчество?
Вот вопросы, на которые я хотел бы получить ответ до того, как вступить с тобой в эпистолярные взаимоотношения. Я хотел бы поддерживать такие взаимоотношения (пока другие невозможны) и надеюсь, что они могут быть полезны для нас обоих, но если твое «заявление» носит характер не только запоздалого открытия азбучных истин, но и призвано быть тем кляпом, которым литературные спекулянты и графоманы будут затыкать рты костенко и шевчукам, воробьевым и голобородько, находя разные «немного», а при необходимости и «много» везде, куда их поведет инстинкт самосохранения и карьеры, – тогда речь идет не только о «переоценке и переосмыслении своих позиций и взглядов», но также и о ревизии своих моральных устоев, о декларации воинствующего мещанства, соединенного с не менее воинствующей нетерпимостью ко всем, кто думает не так, как ты, и тогда – к сожалению, к превеликому сожалению! – нам с тобой не о чем будет говорить.
Одним словом, никакая переоценка и переосмысление своих убеждений меня не беспокоят, пока они опираются на твердые устои незапятнанно чистой морали. На следствии, как мне кажется из твоего дела (а целиком я его не знаю), ты вроде бы не переступал эти грани и не опозорил себя, как П. Якир или З. Франко, стремлением спасти собственную шкуру за счет других – это и дает мне основания надеяться на поддержание наших прежних отношений. Если же ты в ревизионистском азарте зашел так далеко, что сделал разменной монетой и свои моральные принципы (а я бы этому верить не хотел), тогда я буду скорбеть за упокой души бывшего друга, а нового И. Дзюбу [буду воспринимать] как человека, который вместо того, чтобы выбрать соответствующий псевдоним, – безбожно спекулирует чужим именем.
Помимо всего этого я хотел бы знать, как ты себя чувствуешь, что делаешь, как твой анти-«Интернационализм или русификация?», с кем виделся, доволен ли собой и вообще – что нового у тебя и возле тебя, в нашем лучшем из миров?
Жду твоего ответа.
И. СВЕТЛИЧНЫЙ