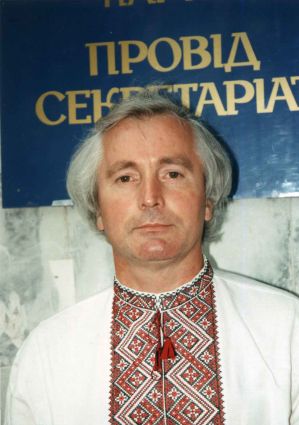
(середина 1950-х – 1980-е годы)
(Вступительная статья к изданию: Українська Громадська Група сприяння виконанню Гельсінкських угод: В 4 т. Т. 1.: Особистості / Харківська правозахисна група; Упорядник Є.Ю.Захаров; – Харків: Фоліо, 2001. С. 5–42.
С исправлениями для издания: Василь Овсієнко. Світло людей: Мемуари та публіцистика. У двох книгах. Кн. 2 / Упорядкував автор. Харків: Харківська правозахисна група; К.: Смолоскип, 2005. – С. 107–146).
Идеологическое противостояние СССР и стран Запада, под знаком которого прошло почти все ХХ столетие, угрожало во второй его половине перерасти в третью мировую войну. Однако неизбежность применения в ней термоядерного оружия, что равнялось бы самоубийству человечества, вынудила искать пути к мирному сосуществованию государств с различным социально-экономическим строем, к взаимопониманию и разрядке (детант). 1 августа 1975 года 33 государства Европы (то есть все, кроме Албании), а также США и Канада, после длительных переговоров и проволочек, всё-таки подписали в столице Финляндии Хельсинки Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ).
Хельсинкским актом были окончательно закреплены границы, сложившиеся в Европе в результате Второй мировой войны (при этом номинальная государственность Украинской ССР в составе СССР, и даже как члена-учредителя ООН, во внимание не принималась). Кроме того, СССР обеспечил себе статус наибольшего благоприятствования в торговле с Западом, которому явно проигрывал в экономическом соревновании и военном противостоянии. Это стало значительной победой советской дипломатии в русле политики разрядки. В обмен на это СССР обязался соблюдать гуманитарную часть (так называемую «третью корзину») Заключительного акта, в частности, права человека в рамках Всеобщей декларации прав человека ООН от 10 декабря 1948 года. Основные ценности, которые включала идеология хельсинкского процесса в гуманитарной сфере, – это защита прав человека путём построения демократического правопорядка и защита прав народов путём построения справедливого международного порядка (1). Заключительным актом СБСЕ предусматривалось, что выявление фактов преследования людей за убеждения отныне будет вызывать юридически обоснованные претензии других сторон и больше не будет трактоваться как вмешательство во внутренние дела страны.
Конечно, подписывая Хельсинкский акт, брежневское руководство вовсе не собиралось его соблюдать, но у демократического Запада была своя тактика в противоборстве с тоталитарным СССР: для него было важно открыть доступ к правдивой информации независимо от государственных границ – и коммунистический режим неминуемо проигрывал идеологический поединок. Политические обстоятельства середины 70-х годов заставляли тоталитарный советский режим играть на международной арене роль эдакого респектабельно-демократического. Отныне же его демагогия о «вмешательстве во внутренние дела СССР», когда речь шла о нарушении элементарных прав человека, становилась несостоятельной.
Поскольку Заключительный акт СБСЕ приравнивался к национальному законодательству, его подписание означало, что открываются юридические возможности легально и совершенно законно бороться с нарушениями прав человека, опираясь на внутреннее и международное право. Первыми это поняли московские правозащитники из круга академика Андрея Сахарова. По инициативе профессора Юрия Орлова 12 мая 1976 года они создали Московскую общественную группу содействия выполнению хельсинкских соглашений. Правозащитники, по выражению Андрея Амальрика, совершили революционный переворот в сознании терроризированного за предыдущие десятилетия населения: в несвободной стране они начали вести себя как свободные люди (2). Они потребовали от государства признания прав человека, то есть их узаконивания, и явочным порядком начали осуществлять конституционные права (свободу слова, печати, демонстраций, ассоциаций и др.), то есть понимать законы так, как они написаны. Исходя из того, что соблюдение законности означало бы изменение характера власти, её демократизацию, правозащитники заставляли государство соблюдать его собственные законы и подписанные им международные правовые акты.
Второй, по инициативе писателя и философа Николая Руденко, генерала Петра Григоренко (Москва), общественной деятельницы Оксаны Мешко, писателя-фантаста Олеся Бердника, юриста Левко Лукьяненко (Чернигов), 9 ноября 1976 года была создана Украинская общественная группа содействия выполнению хельсинкских соглашений. Её членами-учредителями стали также биолог Нина Строкатая-Караванская (г. Таруса Калужской обл.), инженер Мирослав Маринович, историк Николай Матусевич, учитель Олекса Тихий (Донетчина), юрист Иван Кандыба (г. Пустомыты на Львовщине). Они подписали Декларацию Украинской общественной группы содействия выполнению хельсинкских соглашений – о её создании и Меморандум № 1.
Чтобы обеспечить выполнение хельсинкских соглашений, УОГ поставила своей целью знакомить общественность со Всеобщей декларацией прав человека ООН, способствовать расширению контактов между народами и свободному обмену информацией, добиваться аккредитации в Украине представителей зарубежной прессы. Осознавая, что номинальная государственность УССР является полным мифом, Группа в эпоху краха мировой колониальной системы напомнила миру о существовании порабощённой Россией Украины и поставила вопрос о признании её мировым сообществом: чтобы Украина была представлена на следующих совещаниях отдельной делегацией. Это была гениальная догадка: поставить украинский национальный интерес на международную правовую основу в контексте противоборства демократического Запада с тоталитарным СССР. И миф об Украине всего лишь через полтора десятка лет наполнился реальным содержанием: она стала независимой!
Группа принимала письменные жалобы о нарушениях прав человека в Украине и в отношении украинцев за её пределами, передавала эту информацию в средства массовой информации и правительствам государств – участников хельсинкского процесса.
Авторы Декларации подчёркивали, что главным мотивом их деятельности будет не политический, а гуманитарно-правовой. Формулировки документов Хельсинкской группы были очень осторожными, цели – элементарными. Но именно с этого и должен был начинать народ, лишённый собственной государственности, изнурённый голодоморами, репрессиями, войнами, народ, не имевший не только своих национальных политических, но и общественных и культурных организаций, народ, который не распоряжался своей экономикой, природными богатствами, у которого не было ни своей армии, ни своего патриотического руководящего слоя, ни влиятельной интеллигенции, народ, самостоятельно не представленный на международной арене. Украина должна была снова заявить о своём праве на полновесную жизнь, а для этого ей нужна была важнейшая из свобод – свобода слова, что так чётко сформулировано в ст. 19 Всеобщей декларации прав человека ООН:
«Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ».
В Меморандуме № 1 политика СССР в отношении Украины определялась как геноцид. Во втором меморандуме говорилось о формально-декларативном характере Союза ССР и о том, что марксистская идеология утратила свою привлекательность. В третьем, на примере судьбы Иосифа Терели, речь шла о преследовании Украинской Греко-Католической Церкви и верующих в целом. В январе – апреле 1977 года Группа выпустила 10 Меморандумов о преследовании граждан за инакомыслие, в частности, в отношении Веры Лисовой, семью которой терроризировали обысками; в отношении Надежды Светличной, которую не прописывали в Киеве после освобождения из заключения, не принимали на работу и угрожали новым заключением – за «тунеядство», несколько документов в защиту арестованных 5 февраля 1977 года членов-учредителей УГГ Николая Руденко и Олексы Тихого. Меморандум № 5 под названием «Украина лета 1977-го» был направлен правительствам стран – участниц Белградского СБСЕ.
Хельсинкское движение быстро стало международным: 25 ноября 1976 года Хельсинкская группа была создана в Литве, 14 января 1977 года – в Грузии, 1 апреля – в Армении. Ещё с сентября 1976 года в Польше действовал Комитет защиты рабочих, преобразованный позже в Комитет общественной защиты, в январе 1977 – группа «Хартия-77» в Чехословакии. В США была создана специальная комиссия Конгресса.
Таким образом, брежневское руководство жестоко просчиталось: в обществе после десятилетий постоянных «чисток» всё-таки нашлись люди, которые решились открыто разоблачать фальшь и лживость режима, собирая и обнародуя факты нарушений прав человека. Их жертвенность и преданность своим идеалам оздоровили моральный климат общества: появилось независимое общественное мнение. Не все правозащитники собирались вести политическую деятельность, но они стали добиваться такого права для каждого гражданина, включая право создавать политические организации, альтернативные КПСС. Люди поняли, что только в государстве, где соблюдаются политические свободы, граждане могут эффективно защитить и свои экономические интересы.
Всё, что ещё было живого в Украине, потянулось к Хельсинкской группе. Это впервые за десятилетия репрессий такая немногочисленная украинская интеллигенция организовалась и заговорила на весь мир о неволе и бесправии своего народа. В этом смысле хельсинкское движение было для Украины куда важнее, чем для народов, имевших свою государственность, поэтому у нас оно оказалось в 70-80-х годах самым стойким.
У правозащитников не было иллюзий, что власть позволит открыто отстаивать права людей, ссылаясь на Хельсинкский акт. Они знали, что рискуют свободой и даже жизнью. Но они руководствовались соображениями высшего порядка. Кроме того, что чаще всего речь шла об элементарном человеческом достоинстве конкретных людей (из суммы которого, собственно, и складывается честь народа), это был также дальновидный политический расчёт: обратить внимание мировой общественности на состояние с правами человека в Украине и с её помощью давить на власть с целью добиться либерализации этой власти, что расширило бы плацдарм для дальнейшего наступления на тоталитарную колониальную систему с целью разрушить её.
То, что украинские правозащитники тогда сориентировались в международной политической ситуации правильно, свидетельствует тот факт, что именно этот путь, соединённый с экономическим истощением Советского Союза, с военным и идеологическим давлением Запада, привёл в конечном счёте к краху российской коммунистической империи и провозглашению независимого украинского демократического государства.
Следует отметить, что в движении за права человека и за национальные права царила высокая культурная и моральная атмосфера, чувствительность к новым идеям. Оно противостояло как официальной тоталитарной идеологии, так и примитивизму. Поэтому правозащитное движение в Украине объединило как ряд течений (национально-освободительное движение, общедемократическое, религиозное, социально-экономическое или же рабочее, борьба за право на эмиграцию), так и выдающихся личностей (Левко Лукьяненко, Иван Светличный, Михаил Горынь, Иван Дзюба, Евгений Сверстюк, Вячеслав Чорновил, Оксана Мешко, Нина Строкатая-Караванская, Василь Стус, Николай Руденко, Пётр Григоренко, Мустафа Джемилев, Иосиф Зисельс, Зиновий Красивский, Василий Романюк – будущий Патриарх Владимир и другие). В нём находили себе место украинцы и евреи, верующие разных конфессий и атеисты, националисты и национал-коммунисты, социал-демократы и анархисты. Они никогда не объявляли друг друга врагами, потому что в то время всем одинаково нужна была свобода, а государственная независимость Украины представлялась вероятным гарантом такой свободы.
Хотя украинское правозащитное движение не декларировало своих идеологических ориентаций, оно с самого начала было одной из форм борьбы за национальное освобождение. В Западной Украине краеугольным камнем правозащитное движение ставило национальные права и вопрос религии, тогда как на Большой Украине оно имело более широкий, социально-экономический характер, во второй половине 70-х годов оно тесно смыкалось с движением правозащитников-неукраинцев и с правозащитным движением в России (3). Как отметил в одном из выступлений украинский политолог Василь Лисовой, независимость для части правозащитников не была самоцелью, а средством защиты украинского самобытного мира, национального опыта, который объединяет «и мертвых, и живых, и нерожденных» (Т. Шевченко). Это было движение за свободу личности и за культурную самобытность всех этнических и религиозных групп, из которых издавна состояло население Украины.
Исходили из таких соображений. Пока нация не решила вопрос о своей государственности – этот вопрос будет отвлекать все её силы. Национальное государство может быть в большей или меньшей степени демократическим или тоталитарным. А об осуществлении прав человека в колониальном положении не может быть и речи. Независимая Украина, судя по её историческому опыту, представлялась правозащитникам только демократической. Потому что всегда, когда украинцы добивались хоть относительной независимости, они, в соответствии со своим свободолюбивым национальным характером, создавали демократические государственные институты или проекты, где уважалась личная и социальная свобода (Княжеская эпоха с вечевым управлением и выборными князьями; Казацкая христианская республика, просуществовавшая 110 лет; Конституция Пилипа Орлика; Центральная Рада 1917–1918 гг.; проекты государственного устройства Организации Украинских Националистов 1942 года и Украинского Главного Освободительного Совета 1944 года, нынешняя государственность, несмотря на некоторые уродливые явления).
Горький опыт жизни в условиях колониального бесправия и тотального беззакония привёл украинских правозащитников к принципиальному убеждению, что свобода возможна только там, где царит закон. В этом они опирались на правовые демократические традиции своего народа:
Бо де нема святої волі –
Не буде там добра ніколи,
Нащо таки себе й дурить.
Тарас Шевченко.
Таким образом, подписание Заключительного акта СБСЕ и возникновение хельсинкского движения имело такое важное значение, что позволяет разделить историю правозащитного движения в Украине на период до этого события и после него.
Предпосылки
Вследствие революции 1917–1920-х гг. в основной части Украины установилась принесённая на штыках из России государственность однопартийного, тоталитарного типа, которую, однако, можно рассматривать как компромисс между пробудившимися украинскими национальными и российскими оккупационными силами (4). Уже в 20-х годах эта чуждая украинскому народу власть заставила выехать за границу, репрессировала или физически уничтожила всех собственников, предприимчивых людей, всех членов украинских политических и общественных организаций (в том числе и Украинской коммунистической партии – «боротьбистов»), всех чиновников Украинской Народной Республики, то есть национальную, ещё немногочисленную, ведущую верхушку. Но, чтобы удержаться в Украине, партия большевиков, в которой украинцы составляли мизерное меньшинство, должна была считаться с мощным нарастанием национальных сил, поэтому поддержала политику коренизации, то есть украинизации. Формировалось течение национал-коммунизма (Николай Скрипник, Мыкола Хвылевый, Александр Шумский). Убедившись, что процесс становится неконтролируемым и угрожает формированием современной украинской нации и созданием самостоятельного украинского государства, которое, несомненно, быстро отказалось бы от чуждого ему тоталитарного режима, а замаскированной под СССР Российской империи – окончательным распадом, российские оккупационные силы с 1929 года перешли в решительное наступление против украинства как такового. Тезис И. Сталина, что украинская интеллигенция не заслуживает доверия, означал на практике тотальное физическое уничтожение в 30-х годах новой украинской элиты, формировавшейся уже преимущественно в лоне Коммунистической партии (большевиков) Украины и Украинской Автокефальной Православной Церкви. Начало истреблению было положено «делом СВУ» – полностью сфабрикованного Главным Политическим Управлением «Союза освобождения Украины».
Поскольку украинский этнос с его свободолюбием, частнособственнической психологией и глубокой религиозностью вообще не годился для создания «единого советского народа – строителя коммунизма», то обезглавливание нации было дополнено (под видом «раскулачивания») ещё и ликвидацией лучшей части украинского крестьянства. Массовое сопротивление коллективизации было сломлено искусственно вызванным голодом. Вследствие массового истребления и депортации коренного украинского населения на Восток (а во время Второй мировой войны и на Запад) и массового «доприселения» (это тогдашний официальный термин) на его место инородного населения – носителя тоталитарной идеологии, генофонд украинского народа – носителя демократического, свободолюбивого, христианского мировоззрения – был тяжело подорван и значительно изменён в худшую сторону. Ведь истреблялся лучший элемент. Однако мы должны согласиться, что украинцы как нация, по выражению Мирослава Мариновича (5), тоже несут на себе «грех коммунизма» и тяжко за него расплачиваются.
Западная Украина, оккупированная Польшей, тоже подвергалась национальному гнёту, однако не физическому истреблению, поэтому смогла оказать мощное сопротивление как немецкой, так и российской оккупации (в наибольшей степени – Украинская Повстанческая Армия). Эту национально-освободительную войну Украина при полном отсутствии внешней поддержки не могла выиграть, поэтому её следствием было истребление, заключение и депортация в Россию самой активной части населения Западной Украины. Хотя украинский народ проиграл и этот тур борьбы за освобождение, память об этой героической борьбе навеки осталась в его историческом сознании.
Бесспорно, что уровень национального сознания был выше в западных областях, где только что закончилась национально-освободительная война. В 50-х и даже в 60-х годах в Галичине возникали группы, считавшие себя наследниками Организации Украинских Националистов. Они вели националистическую пропаганду, собирали или намеревались собирать оружие, чтобы продолжать вооружённое сопротивление. Критическая масса таких групп, как заметил Левко Лукьяненко, 8–12 человек, продолжительность деятельности – от нескольких месяцев до трёх лет (6). Затем власти разоблачали подпольщиков, лидеров групп, как правило, расстреливали, а членов заключали в тюрьмы на максимальные сроки. По данным КГБ, только в 1954–1959 гг. было ликвидировано 183 «националистические и антисоветские группировки», осуждено 1879 человек, из них 46 группировок (245 человек) в среде интеллигенции (7). Хотя это уже было дискретное движение не связанных между собой во времени и пространстве групп, глухие отголоски того, что борьба за свободу продолжается, оседали в сознании народа. В 60-х гг. также и в западных областях эстафету национально-освободительной борьбы перенимает интеллигенция, движение постепенно приобретает характер юридически обоснованных политических требований.
Объединение Украины в результате Второй мировой войны в одном, хоть и не своём, государстве, вливание в неё национально сознательного западноукраинского населения вызвало глубинную психологическую мутацию в украинстве в целом, дало новый толчок консолидации нации (8).
Сворачивание в середине 50-х годов массового террора стихийно вызвало формирование новой элиты преимущественно на основе коренного населения: в середине 50-х годов украинцы стали преобладать в КПУ, её наконец-то начали возглавлять украинцы по происхождению. Хотя правящая номенклатура, которая начала формироваться, ввиду тотальной её русификации, была лишена полноценного национального сознания, всё же оказалось, что ни одна сторона – как украинская, так и российская – не признала вышеупомянутый компромисс окончательным. Идеологическое непризнание СССР наследником Российской империи, формальное существование УССР в рамках в целом демократической федералистской конституции СССР, мнимое членство УССР в ООН, принявшей Всеобщую декларацию прав человека, появление на западных границах стран «социалистического содружества», где было больше свобод, лелеяли у украинцев надежду когда-нибудь наполнить миф о свободной Украине реальным содержанием. В лоне искренне или вынужденно коммунистической элиты вызревало диссидентство, которое чаще всего занималось именно национально-культурными проблемами (9).
В то же время атеистическое государство усиливает давление на верующих разных конфессий. Были уничтожены УАПЦ и УГКЦ, запрещены почти все протестантские религиозные течения, закрыты и разрушены тысячи храмов, заключено в тюрьмы множество нарушителей запрета вести религиозную пропаганду и верующих юношей – за отказ идти в армию или брать в руки оружие. Это вызвало массовое, порой организованное движение за свободу совести, которое, однако, остаётся малоизученным из-за массовой гибели его участников, а также из-за того, что этот опыт часто ими сознательно не фиксировался (мол, у Бога всё записано).
В условиях относительной либерализации возникают стихийные рабочие забастовки и волнения в связи с повышением цен на продукты, игнорированием техники безопасности на производстве, произволом властей (часто милиции). Как вид рабочего сопротивления, как борьбу за элементарные права трудящегося порабощённого человека следует рассматривать забастовки и восстания в политических концлагерях российской Севера, Сибири и Казахстана в конце 40-х — начале 50-х годов, где обычно ведущей силой были заключённые украинские повстанцы. Хотя забастовки и восстания были жестоко подавлены, а за фиксацию и распространение информации о таких фактах власть жестоко преследовала, но всё же она была вынуждена уступать, смягчать режим как в «малой», так и в «большой» зонах, что становилось достоянием общества в борьбе с государством.
Шестидесятничество. Становление правозащитного движения
Идею прав человека украинские мыслители высказывали ещё в XIX в. (Михаил Драгоманов, Богдан Кистяковский и другие); в неявной форме она стала важной составной частью Конституции УНР 1918 года. Но движение, которое сознательно ставило перед собой цель добиваться признания прав человека государством, то есть узаконивания прав человека – явление, возникшее только в 60-х гг., в период хрущёвской «оттепели», на фоне критики культа личности и «казарменного коммунизма». Поскольку «сталинская», а затем «брежневская» Конституция СССР содержала ряд статей, провозглашавших свободу слова, собраний, вероисповедания и т. п., правозащитное движение пыталось использовать это обстоятельство, требуя «соблюдать Конституцию». Но по мере расширения движения правозащитники всё больше ссылались на международные документы по правам человека – Всеобщую декларацию прав человека ООН от 10 декабря 1948 года, принятые ООН 16 декабря 1966 года Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, Международный пакт о гражданских и политических правах, которые были подписаны УССР 19 октября 1973 года, и Факультативный протокол к последнему, вступивший в силу 23 марта 1976 года.
Правозащитное движение в Украине возникало как составная часть национально-освободительного: оно сочетало в себе требование индивидуальных прав (гражданских, политических, социальных) с коллективным правом на национально-культурную идентичность и национальную государственность (что обозначалось термином «национальные права»). Существовало также общедемократическое направление, религиозное, социально-экономическое (рабочее движение), требование права на эмиграцию (прежде всего борьба евреев за право на выезд).
Поскольку и культурные, и политические требования можно было формулировать и защищать лишь при условии по крайней мере такого фундаментального права, как свобода слова, то защиту прав человека стали считать решающим предварительным условием. Хотя в разных группах по-разному оценивали соотношение между национальными требованиями и правозащитой, но, в конце концов, признавали, что эти два компонента должны сочетаться.
С социологической точки зрения диссидентское и правозащитное движение состояло из людей разных мировоззренческих, философских и политических ориентаций, не всегда явно выраженных: экзистенциализм, позитивизм и аналитическая философия, ревизионизм и т. п. Одни инакомыслящие тяготели к рационализму (иногда соединённому с атеизмом), другие – к религиозному мировоззрению. В спектре политических позиций различались сторонники независимости, автономисты, национал-коммунисты, демократы (которые считали национальный вопрос менее важным или вовсе неважным) и т. д. Но эти индивидуальные предпочтения и позиции были известны разве что в кругу друзей, поскольку, по тактическим соображениям, они редко проявлялись в тогдашних публикациях, в программных документах. В конце концов, людей разных мировоззренческих и идеологических ориентаций объединяло стремление высказывать свои взгляды, что привело к распространению внецензурной литературы – так называемого «самиздата» (машинописная и фотокопическая литература критического содержания).
Как только в эпоху хрущёвской «оттепели» ослабли железные путы сталинщины, единичные уцелевшие представители украинской творческой интеллигенции – Александр Довженко, Максим Рыльский, Борис Антоненко-Давидович – привлекают внимание к ненормальному положению своего народа, прежде всего, его культуры, языка. Они стали «духовными отцами» поколения, которое получило название шестидесятники.
Действуя в рамках существующей системы, шестидесятники восстановили сумму социально-психологических качеств интеллигенции: естественное самоуважение, индивидуализм, ориентацию на общечеловеческие ценности, неприятие несправедливости, уважение к этическим нормам, к праву и законности (10). Первые его проявления – культурологические. Это поэзия Лины Костенко, Василя Симоненко, Николая Винграновского, Ивана Драча, Игоря Калинца; публицистика и литературная критика (Иван Светличный, Евгений Сверстюк, Иван Дзюба), произведения художников Аллы Горской, Панаса Заливахи, Стефании Шабатуры и других. В Киеве эти люди сплотились в Клубе творческой молодёжи (1959-1964, президент Лесь Танюк), который стал национально-культурным центром: организовывал литературно-художественные вечера, выставки, поездки, колядования. Такие же клубы начали действовать во Львове (1962 г., КТМ «Пролісок»), Днепропетровске, Одессе, в других городах. Когда же осенью 1962 года президент Киевского КТМ Лесь Танюк, Алла Горская и Василь Симоненко посетили захоронения жертв репрессий 30-х годов в Быковне под Киевом и обнародовали меморандум в горсовет с требованием расследовать те события – на КТМ началось интенсивное давление, увенчавшееся его закрытием в 1964 году, избиением В. Симоненко, эмиграцией в Россию Л. Танюка, убийством А. Горской.
Действовал этнографический музей Ивана Гончара, который фактически стал клубом, где толпилась и воспитывалась национально сознательная молодёжь. Начали свои репетиции фольклорные коллективы «Жайворонок» Бориса Рябокляча и «Гомін» Леопольда Ященко.
Хотя это движение подчёркивало ценность национально-культурной самобытности, оно не было консервативно-реставрационным, а несло в себе дух обновления форм и содержания. Оно неизбежно должно было перерасти в движение политическое, антиимперское, поскольку колониальное положение Украины было основной причиной уничтожения украинской культурной самобытности. Поэзия В. Симоненко была, возможно, первым явным свидетельством этого дорастания до политических требований («Народ мой есть! Народ мой всегда будет! Никто не перечеркнёт мой народ!»). Шестидесятники помнили, что Конституция СССР содержала статьи, которыми подтверждался суверенитет союзных республик, в том числе и право на выход из состава СССР, но первые политические требования ограничивались расширением полномочий республиканских государственных органов. И это, учитывая состояние массового политического сознания, была правильная идеологическая ориентация.
Важной составляющей зарождавшегося правозащитного движения было отстаивание права на свободу вероисповедания. Ведущую роль здесь играли верующие греко-католического обряда и протестантских церквей (баптисты, иеговисты и т. д.).
Первым Украинский Рабоче-Крестьянский Союз (1958–1961, лидер Левко Лукьяненко) осознал, что в час поражения нация в борьбе за самостоятельность должна опереться не на физическую силу, а на силу права, зафиксированного в Конституции и задекларированного в международных правовых документах. Ссылаясь на ст. 14 Конституции УССР, согласно которой республика имела право на выход из состава СССР, сохраняя существующий социальный строй, УРСС выдвинула совершенно законную идею референдума по этому вопросу. Конечно, никто из членов УРСС не был искренним марксистом-ленинцем и сторонником коммунизма, поэтому проект её национал-коммунистической программы писался как заведомо тактический. Хорошо понимала это и власть. «Конституция – для негров и для таких дураков, как вы», – сказал следователь арестованному Ивану Кандыбе, признав тем самым, что конституция является лишь пропагандистской фикцией. Члены УРСС были арестованы 20 января 1961 года, так и не выйдя из подполья. Л. Лукьяненко был приговорён закрытым судом к смертной казни, которую через 72 суток заменили на 15 лет заключения, остальные 7 членов получили от 7 до 15 лет заключения. Информация о «деле юристов» вышла из концлагерей только в 1967 году (11), так что её деятельность тогда фактически не была известна обществу. Однако идея выхода Украины из СССР и установления правового государства ненасильственными, правовыми средствами была осуществлена в 1991 году.
В конце 50-х – начале 60-х гг. в Украине появилось открытое оппозиционное движение. Как заметил известный политолог Иван Лысяк-Рудницкий, на фоне тотального уничтожения всего, что проявляло признаки инакомыслия, это казалось почти чудом (12).
С весны 1962 года началось интенсивное общение киевских и львовских шестидесятников, вырабатывалась общая линия поведения. Галичане Михаил и Богдан Горыни предлагали прибегнуть к опыту оуновского подполья, однако киевляне Иван Светличный, Иван Дзюба считали более целесообразным и безопасным развивать национально-культурное просветительство. Этот путь оказался правильным. В Украине, которая медленно выходила из чёрной полосы тотальных репрессий, «наросли з худеньких матерів в саду порубанім» (М. Винграновский) новые люди, молодое поколение интеллигенции, которая готовилась взять на себя высшую ответственность за судьбу своего народа. Это, по большей части, не были откровенные противники коммунизма, некоторые искренне хотели усовершенствовать социалистическую систему. В их кругу распространяется внецензурная машинописная и в фотокопиях литература критического по отношению к действительности характера: стихи, статьи, которые не могли быть опубликованы в официальной прессе, исторические документы, пробуждавшие национальное сознание и свободолюбие (например, изданная за рубежом брошюра «Вивід прав України», историософский труд конца XVIII в. «Історія русів», труды «Две русские народности» Николая Костомарова, «Що таке поступ» Ивана Франко, наконец, Всеобщая декларация прав человека ООН и др.). Своеобразной отдушиной, где как-то можно было высказаться, стала литературная критика, которая, однако, уже не умещалась в разрешённые рамки – и она тоже выплёскивалась в самиздат.
Событием, всколыхнувшим совесть шестидесятников, стал пожар 24 мая 1964 года в Центральной научной библиотеке АН УССР им. В. Вернадского в Киеве: сгорел отдел украинских старопечатных книг и рукописей, архив Центральной Рады. В самиздате появилось анонимное произведение под названием «По поводу процесса над Погружальским», где писалось: «Не будем утешать себя вечной истиной о бессмертии народа – его жизнь зависит от нашей готовности постоять за себя». (Авторы этого документа – Евгений Сверстюк и Иван Светличный).
Чтобы избежать обвинения в подпольной деятельности, шестидесятники в основном не стремились создавать документально оформленные организации. Их центры действовали на основе межличностных контактов (дружеских, семейных и профессиональных). В самиздатовских материалах в основном не ставился вопрос об изменении строя, поэтому их распространение трудно было квалифицировать как «антисоветскую агитацию и пропаганду» (ст. 62 УК УССР). Но это, однако, не спасло шестидесятников от репрессий. Потому что, как высказался как-то Евгений Сверстюк, когда вместе сходится так много таких умных, талантливых, славных людей, то что-то из этого должно было быть. Это понимала и власть. Никита Хрущёв уже в марте 1963 года заявил: «Мы против мирного сосуществования в сфере идеологии». С отстранением его от должностей идеологическое наступление на инакомыслие закономерно обернулось репрессиями. Власть сама подтолкнула инакомыслящих от коммунизма (можно сказать, диссидентов или ревизионистов) в лагерь своих непримиримых врагов, арестовав в августе – сентябре 1965 года десятки человек. В Киеве это были литературный критик Иван Светличный, инженеры Иван Русин и Александр Мартыненко, студент Ярослав Геврич, лаборантка Евгения Кузнецова, во Львове – психолог Михаил Горынь, искусствовед Богдан Горынь, студент Иван Гель, преподаватели университета Михаил Осадчий и Михаил Косив, в Крыму – литератор Михаил Масютко, в Житомире линотипист Анатолий Шевчук, в Одессе писатель Святослав Караванский, в Ивано-Франковске историк Валентин Мороз, художник Панас Заливаха, другие.
21 человек был приговорён к небольшим – по сравнению с привычными сталинскими – срокам заключения (максимально – 6 лет) (13). Судя по этому, аресты были проведены поспешно, может, и неохотно, по прямому указанию из Москвы. Целью репрессий было нанести превентивный удар по инакомыслию как общественному явлению вообще, пока оно не приобрело опасного размаха. Большинство ведущих лиц остались на свободе (Ивана Светличного выпустили через 8 месяцев «за отсутствием улик»), поэтому вместо того чтобы запугать, эти не слишком жестокие репрессии возбудили интерес общества к арестованным и к проблемам, которые они поднимали. Поднялась целая волна протестов, были собраны сотни подписей в поддержку арестованных (здесь отличилась Лина Костенко), возник термин «подписанты». Под судами во Львове толпы скандировали «Слава!», подсудимым бросали цветы. Такие действия уже имели характер организованного правозащитного движения.
Первым открытым протестом против арестов было выступление Ивана Дзюбы 4 сентября 1965 года на просмотре фильма «Тени забытых предков» Сергея Параджанова в кинотеатре «Украина» в Киеве. Он сказал, что этот праздник национального искусства омрачён многочисленными арестами и стал перечислять имена арестованных. Поднялся шум, директор кинотеатра начал стаскивать оратора со сцены. Дзюбу, по договорённости, поддержал Вячеслав Чорновил, а Василь Стус неожиданно призвал встать тех, кто против возрождения сталинизма.
Те, кто активнее всего защищал арестованных, сами подвергались репрессиям: исключение из вузов, из аспирантуры (Василь Стус), увольнение с работы (Михайлина Коцюбинская, Юрий Бадзьо, Светлана Кириченко), снятие с защиты диссертаций (Евгений Пронюк), запрет печататься сотням творческих людей. В. Чорновил составил книгу материалов об арестованных «Горе от ума (Портреты двадцати „преступников“)», за которую в 1967 г. тоже был заключён. Художница Алла Горская впоследствии, 28 ноября 1970 года, была убита при таинственных обстоятельствах. Такие факты лишали шестидесятников идеологических иллюзий относительно тоталитарного, антиукраинского характера власти в Украине. Так, заключённый в 1965 и 1981 годах психолог Михаил Горынь отметил: «Потом, когда нас арестовали второй раз, выяснилось, что очень хорошо себя чувствуешь, когда говоришь: да, я против вас воюю и буду воевать, потому что вы преступники. Тогда всё становится на свои места и не надо никаких оправданий. А первый период не был такой. Политическое лукавство в какой-то мере было продиктовано не столько уровнем сознания, сколько тактикой, неготовностью отвечать за свои действия» (14).
Арестанты 1965 года принесли в политические лагеря новый дух, отмечал Левко Лукьяненко (15). Эти люди уже были свободны от «шпиономании» и откровенно заговорили о своей связи с украинской патриотической диаспорой, нелегально получали в неволе самиздат и, главное, наладили выход информации из зон о фактах нарушения прав человека – как нынешних, так и в предыдущие времена. С тех пор вся история концлагерей – это протесты против нечеловеческих условий содержания, борьба за элементарные человеческие права политзаключённых, поиски способов передать на волю информацию об этой борьбе – с большим риском быть дополнительно наказанным. Потому что ни одна акция протеста, в том числе забастовки, длительные голодовки, не достигала положительного результата, если протестующих не поддерживали зарубежные правозащитные организации или зарубежные политики, если о них не говорили зарубежные радиостанции. Это воистину драматическая и героическая история, связанная со страданиями как самих заключённых, так и их семей, однако редко кто из них становился на колени. Понятие «узник совести» приобрело реальное содержание: каждый мог выйти на свободу досрочно, поправ собственную совесть, то есть написав «покаянное» заявление, выдав всё о себе и других людях, донося на ближнего. Силы духа узникам совести придавала моральная поддержка свободного мира, украинской диаспоры, наличие в концлагерях признанных моральных авторитетов – последних из повстанцев УПА, 25-летников, которые были также участниками восстаний политзаключённых (Михаил Сорока, Катерина Зарицкая, Даниил Шумук, Евгений Пришляк, Мирослав Симчич, Степан Мамчур и многие другие), с которыми младшее поколение быстро находило общий язык. Здесь сидели представители других порабощённых Россией народов, в глазах которых украинцы имели заслуженную репутацию самых стойких борцов за свободу.
Естественно, что оппозиция 60-х исходила из политической реальности – существования УССР в составе СССР. Она прибегала к понятным для широкой публики идеологиям – национал-коммунизму, национализму, социал-демократии. Тогда в странах «социалистического концлагеря» набрал популярности «ревизионизм» как надежда превратить «реальный социализм» в «социализм с человеческим лицом». В Украине тоже некоторые искренне отстаивали «настоящий» социализм и «настоящий» интернационализм – как равноправие наций, включая право каждой нации на свою государственность.
Наиболее выдающимся проявлением национал-коммунизма как движения за расширение национальной автономии был написанный с марксистско-ленинских позиций трактат Ивана Дзюбы «Интернационализм или русификация?», (конец 1965 г.). Этот труд, как отметил Георгий Касьянов (16), стал своеобразным манифестом большинства критически мыслящей украинской интеллигенции, которая надеялась решить национальные, а затем и социальные проблемы своей родины в рамках существующей системы. Привычная читателю марксистская терминология, серия антитез (противопоставление «справедливой» теории «ленинской национальной политики» несправедливой практике, «настоящего марксизма-ленинизма» его «искажённому варианту») воспринимались как тактический приём, не более, хотя сам автор пытался казаться искренним марксистом. Автор опровергает идею «слияния наций», миф о «цивилизаторской миссии великого русского народа» по отношению к другим народам СССР, причём делает это аргументированно, логично, последовательно. Радикалов автор привлёк остротой поставленных вопросов, умеренных – лояльностью к советской системе. Это была утончённая и высокоэрудированная оппозиция, но всё же в рамках существующей системы. Однако известно, что система не может быть изменена без преобразования в массовом сознании людей: без утверждения национального и гражданского сознания невозможно утвердить полноценное демократическое независимое государство (подтверждением чему могут служить 90-е годы). Дзюба стал самой авторитетной личностью среди критически настроенной интеллигенции, особенно молодёжи. В руководящих кругах Украины неожиданно оказалось много сторонников национал-коммунизма (прежде всего, Первый секретарь ЦК КПУ Пётр Шелест), и они несколько лет защищали И. Дзюбу от ареста, даже – будто бы с целью критики – способствовали размножению и распространению его труда. Но когда эта система почувствовала, что национал-коммунизм расшатывает её, и отбросила И. Дзюбу в лагерь своих врагов – он начал оправдываться, что не хотел нанести вред существующему строю, а лишь улучшить его. Окончательно И. Дзюба капитулировал после ареста 18 апреля 1972 года, чем вызвал горькое разочарование среди многочисленных своих сторонников (17).
Наиболее выдающимся представителем интегрального национализма стал блестящий публицист, историк Валентин Мороз с его философским волюнтаризмом, отстаиванием чистоты национального идеала любой ценой, культом сильной личности и пассионарностью. Второй арест его 1 июня 1970 года и осуждение на 14 лет стало грозным предупреждением всему зарождавшемуся правозащитному движению.
Обе эти выдающиеся фигуры – Иван Дзюба и Валентин Мороз – прошли свой трагический путь. И оба оказались в тупике. Потому что тупиковыми были обе эти ветви оппозиции. И национал-коммунизм, и интегральный национализм – тоталитарные направления, характерные для 20–40-х годов, но они стали вчерашним днём для шестидесятых. Ведь и коммунизм, и интегральный национализм оправдывают революционное насилие, нетерпимы к идее прав человека, и именно они, как утверждает Иван Лысяк-Рудницкий, завели украинский народ в тупик истории (18).
Третий путь, в своё время мало замеченный, предлагал подпольный «Украинский национальный фронт», издававший журнал «Воля і Батьківщина» (1964–1967, лидер Дмитрий Квецко). Это самостоятельное развитие в виде «народного социализма», очень близкого к реалиям тогдашней западноевропейской социал-демократии. Это была едва ли не самая детально разработанная программа националистического течения украинского освободительного движения в 1960-80-х. Вполне реалистичными, как отмечает Анатолий Русначенко (19, 20) были разделы программы УНФ «Национальные отношения» и «Политические требования» – они частично начали осуществляться в современной Украине.
Основное же течение национально-освободительного движения, получившее название «шестидесятники» и наиболее ярко проявившееся во внецензурном машинописном журнале «Український вісник» (1970-1972, редактор Вячеслав Чорновил), характеризовалось сочетанием борьбы против национального угнетения с борьбой за права человека. Узок был круг шестидесятников. «Мало нас. Дрібнесенька щопта. Лише для молитов і всечекання» (В. Стус). Но они засвидетельствовали непрерывность стремлений украинского народа к свободе. Важно, что ниточка сопротивления у нас не оборвалась после поражения в вооружённой борьбе, как у наших соседей белорусов. Шестидесятники в новых формах продолжили благороднейшие традиции украинского национально-освободительного движения XIX – ХХ вв. с его демократической и гуманистической направленностью, традиции украинской государственности XVII–XVIII веков и 1917-1920 гг., национально-освободительного движения 40–50-х гг.
Вторая половина 60-х годов была временем интенсивного размножения литературы самиздата, и именно в кругу шестидесятников. К его изготовлению, хранению, распространению было причастно широкий круг людей, которые не «засветились» в уголовных делах, но их вклад неоценим. Профессионализации самиздата очень способствовало появление целой прослойки «кочегаров с высшим образованием» – выброшенных с работы творческих людей, которым негде было применить свой потенциал. Самыми выдающимися авторами самиздата были В. Чорновил («Горе от ума (Портреты двадцати „преступников“)» и «Как и что отстаивает Богдан Стенчук, или 66 вопросов и замечаний «интернационалисту» – в ответ на неуклюжую попытку власти полемизировать с Иваном Дзюбой «Что и как защищает И. Дзюба», подписанную псевдонимом), Михаил Осадчий (роман «Бельмо» – об аресте автора в 1965 г. и заключении в Мордовии), Василь Стус («Место в бою или в расправе?», тоже в защиту И. Дзюбы, его же работа «Феномен эпохи» – блестящее литературоведческое исследование о падении гениального поэта Павла Тычины до уровня придворного лакея), историческое исследование историка Михаила Брайчевского об акте 1654 года «Воссоединение или присоединение?». Он же и Елена Апанович начинают цикл лекций по истории Княжеской эпохи, казачества. Действовал частный этнографический музей Ивана Гончара, который фактически стал клубом, где толпилась и воспитывалась национально сознательная молодёжь. Начали свои репетиции фольклорные коллективы «Жайворонок» Бориса Рябокляча и «Гомін» Леопольда Ященко. Возобновилась традиция колядований, чествования Тараса Шевченко 22 мая – в день его перезахоронения в Украине в 1861 году. В 1967 году власть попыталась было схватить нескольких участников возле памятника в Киеве, но около 600 человек по призыву Николая Плахотнюка пошли к зданию ЦК КПУ и добились освобождения задержанных. Это была победа: в дальнейшем, до 1972 года, власть стала проводить у памятников свои официальные «фестивали дружбы народов», а потенциальных участников несанкционированных собраний деканы предупреждали об исключении из вузов, руководители учреждений – об увольнении с работы. Впрочем, в 1970 году Владимир Рокецкий, а в 1972 году Анатолий Лупинос были схвачены за чтение стихов у памятника и заключены в тюрьму.
Появился целый ряд литературных произведений, которые несли свободолюбивые, гуманистические идеи. Самый яркий из них, роман «Собор» Олеся Гончара (январь 1968) вызвал живую дискуссию в обществе о национальных духовных ценностях. Прояснил эти идеи Евгений Сверстюк в глубокой философской работе «Собор в лесах», в статьях «Иван Котляревский смеётся», «Последняя слеза». Дискуссия завершилась изъятием романа из магазинов и библиотек, поношением знаменитого писателя в официальной прессе и заключением в 1970 году автора «Письма творческой молодёжи г. Днепропетровска» в поддержку «Собора» Ивана Сокульского, а также Николая Кульчинского, и условным заключением Виктора Савченко.
Сильные среды украинской, русской и еврейской оппозиционной интеллигенции, где вызревали идеи защиты прав человека, были в Одессе (Нина Строкатая, Василь Барладяну, Анна Михайленко, Леонид Тимчук, Вячеслав Игрунов, Давид Найдис, Рейза Палатник), в Харькове (преимущественно общедемократического характера, ориентированного на московских правозащитников – Генрих Алтунян, Владимир Недобора, Владимир Пономарёв, Аркадий Левин), в Днепропетровске (Иван Сокульский, Александр Кузьменко, Николай Береславский), в Умани (Надежда Суровцова, Кузьма Матвиюк, Богдан Чорномаз), в городах Галичины.
В ночь на 1 мая 1966 года студент Георгий Москаленко и рабочий Виктор Кукса вывесили сине-жёлтый флаг над Киевским институтом народного хозяйства. Они были найдены через 9 месяцев и заключены. То тут, то там разбрасывались листовки против русификации. За них в 1968 году были заключены рабочие строительства Киевской ГЭС Олесь Назаренко, Василь Кондрюков, Валентин Карпенко, в 1969 – Левко Гороховский в Тернополе, за стихи – Николай Горбаль в Борщеве. Отдельные патриоты в знак протеста против нарушения права украинцев быть хозяевами на своей земле прибегали к публичному самосожжению. Так, Василь Макух совершил это на Крещатике в Киеве 5 ноября 1968 года – раньше чеха Яна Палаха. Николай Береславский из Бердянска делал такую попытку 10 февраля 1969 года в вестибюле Киевского университета – его скрутили в последний момент. В ночь на 21 января 1978 года, разбросав листовки, сжёг себя у могилы Т. Шевченко в Каневе бывший политзаключённый Олекса Гирнык из Калуша.
Как справедливо отметил Роман Шпорлюк (21), в эпоху Брежнева–Щербицкого Москва развернула беспрецедентную экспансию на Украину, стремясь полностью ликвидировать её языковую, культурную и историческую национальную идентичность. Делалось это через уничтожение украиноязычной системы образования, газет и журналов, политические чистки. Вследствие этого огромные массы украинского населения в своём национальном и человеческом самосознании опустились ниже нуля: они стали стыдиться и чураться своего украинства.
Впоследствии Василь Стус писал об этой гнетущей атмосфере так: «Не один из нас отчаянно думал, что само духовное существование родного народа сегодня поставлено под угрозу. И не один из нас чувствовал: если какое-то спасение ещё есть, то только сегодня. Потому что завтра уже будет поздно. И мы, живые свидетели этого тихого, потаённого затопления нашей национальной суши, вынуждены были заговорить о явлениях геноцида» (22). Николай Руденко в одном интервью по случаю провозглашения независимости Украины в 1991 году сказал: «Господь нас выхватил из-над самой пропасти. Ещё одно поколение, ещё лет 15–20 – и уже нечего было бы спасать, Украина стала бы ненужной украинцам, как ненужна Белоруссия белорусам...»
Проникал в Украину, в частности, через Леонида Плюща, русский самиздат. Это Л. Плющ перевёл на русский язык важнейшие украинские произведения. Хотя украинский самиздат был тематически уже российского, поскольку почти исключительно сосредотачивался на национальной проблеме, он стимулировал пробуждение национальных, свободолюбивых настроений других порабощённых народов и открывал всесоюзному читателю проблемы, которые должны были в будущем решаться, прежде всего, проблему деимпериализации сознания господствующей в СССР нации, русской.
Когда в мае 1969 г. в Москве возникла Инициативная группа защиты прав человека в СССР, в неё вошли киевлянин Леонид Плющ и харьковчанин Генрих Алтунян (оба стояли на общедемократических позициях). Первой в Украине собственно правозащитной организацией следует считать «Общественный комитет защиты Нины Строкатой-Караванской» (заявление от 21 декабря 1971 г. о его создании подписали Вячеслав Чорновил, Ирина Стасив-Калынец (Львов), Василь Стус (Киев), Леонид Тимчук (Одесса), Пётр Якир (Москва). Комитет намеревался действовать на основе Конституции и международных правовых актов – Всеобщей декларации прав человека ООН и Пакта о гражданских и политических правах. Целью он ставил ознакомление официальных учреждений и общественности с обстоятельствами дела, надзор за соблюдением законности в ходе следствия и суда, сбор подписей в защиту арестованной. Кроме заявления, Комитет успел обнародовать бюллетень «Кто такая Н. А. Строкатая (Караванская)». Но уже в начале 1972 почти все члены Комитета оказались за решёткой.
Как мы уже отмечали, до сих пор шестидесятничество сознательно избегало организационных моментов, опасаясь жестоких репрессий, закрытых судов, обвинений в «измене родине». Так, Евгений Пронюк, который ещё в 1964 г. написал программную самиздатовскую статью «Состояние и задачи Украинского освободительного движения», предлагал создать подпольную патриотическую партию. Неформальный, но общепризнанный лидер шестидесятников Иван Светличный отверг эту идею, более того, он был и против издания журнала «Український вісник» как признака организации. И всё же к концу 60-х годов интенсивно производимый шестидесятниками самиздат фактически превратился в организационную инфраструктуру движения сопротивления. «Український вісник» собирал под одной обложкой всё самое важное из самиздата, сознательно обходя вещи, которые могли быть признаны «антисоветскими». Когда поползли слухи об арестах, готовящихся именно в связи с появлением журнала, В. Чорновил остановил подготовленный 6-й выпуск. Но маховик репрессий уже был запущен.
Покос 1972 года. Конец шестидесятничества
Инакомыслие расшатывало систему, портило международную репутацию государства, которое, не выдерживая экономической и военной конкуренции с демократическим Западом, включилось в процесс «разрядки» (детанта). Поэтому 28 июня 1971 года ЦК КПСС тайно принял постановление «О мерах по противодействию нелегальному распространению антисоветских и других политически вредных материалов», которое через месяц продублировал ЦК КПУ, добавив «местного материала». Затевался «генеральный погром». По слухам, Политбюро ЦК КПСС 30 декабря 1971 года постановило начать всесоюзную кампанию против самиздата с целью разрушить инфраструктуру его изготовления и распространения. Для украинского движения был разыгран отдельный, «шпионский детектив» (23). 4 января 1972 года на границе в Чопе был задержан гражданин Бельгии турист Ярослав Добош, член «Союза украинской молодёжи». Он после надлежащей «обработки» показал, что встречался во Львове и Киеве и «обменялся информацией» с несколькими шестидесятниками, в т.ч. с Иваном Светличным. Начиная с 12 января 1972 г. в Украине было арестовано около ста человек, проведено тысячи обысков, десятки тысяч людей были терроризированы допросами в качестве свидетелей, уволены с работы, исключены из вузов. Примитивная авантюра со «шпионскими» страстями закончилась пресс-конференцией Добоша 2 июня, после чего его выдворили за пределы СССР. Никому из арестованных не инкриминировали «измену родине», только «антисоветскую агитацию и пропаганду» (ст. 62 УК УССР). Но на этот раз почти все ведущие деятели шестидесятничества получили максимальный срок (7 лет заключения в лагерях строгого режима и 5 лет ссылки) и были этапированы за пределы Родины – в Мордовию и Пермскую область России, затем в Сибирь (Иван и Надежда Светличные, Вячеслав Чорновил, Евгений Сверстюк, Иван Гель, Ирина и Игорь Калинцы, Стефания Шабатура, Михаил Осадчий, Василь Стус, Зиновий Антонюк и другие). Самые упрямые, не дававшие никаких показаний (Николай Плахотнюк, Леонид Плющ, Борис Ковгар, Василь Рубан) были упрятаны в психушки. Тогда почти каждого обвинённого в «антисоветской агитации и пропаганде» откровенно шантажировали, проводя через психиатрическую экспертизу. Единичные попытки протеста против арестов пресекались жесточайшим образом. Так, когда талантливый переводчик Мыкола Лукаш предложил арестовать себя вместо Ивана Дзюбы, его припугнули психушкой и наложили запрет на публикацию его переводов. Философ Василь Лисовой 5 июля 1972 года подал в ЦК КПУ «Открытое письмо членам ЦК КПСС и ЦК КП Украины», которое заканчивалось так:
«Учитывая условия, в которых подаётся это письмо, мне трудно верить в конструктивную реакцию на него. Хотя я не выступаю ни в роли ответственного, ни в роли свидетеля, ни в роли каким-либо образом причастного к тому делу, что ныне именуется «делом Добоша», после подачи этого письма я бесспорно окажусь в числе «врагов». Пожалуй, это и правильно, потому что Добош освобождён, а «дело Добоша» – это уже просто дело, обращённое против живого украинского народа и живой украинской культуры. Такое «дело» действительно объединяет всех арестованных. Но я считаю себя тоже причастным к такому делу – вот почему прошу меня также арестовать и судить» (24).
На следующий день его «просьба» была удовлетворена. С кипой неразложенных машинописных оттисков письма, предназначенного для распространения (около 100 экземпляров), 6 июля был арестован и Евгений Пронюк, 5 марта 1973 года по этому делу был арестован Василь Овсиенко.
Общественная атмосфера, в отличие от 1965 года, была гнетущей. Всех, кто не давал показаний против арестованных и проявлял малейшие признаки сочувствия к ним, увольняли с работы, исключали из институтов, им закрывались любые возможности служебного роста и творческого обнародования (печать, выставки и т. п.). Как возрождение 20-х годов справедливо называют расстрелянным, так возрождение 60-х – задушенным. Кто хотел выжить – должен был унизительно каяться (Зиновия Франко, Николай Холодный, Леонид Селезненко, Иван Дзюба), другие – лицемерно писали пасквили на своих недавних друзей или зарубежных «украинских буржуазных националистов – наёмников иностранных разведок», выжимали из себя фальшивые оды в честь душителей своей родины (Иван Драч, Дмытро Павлычко), отдельные не выдерживали удушливой атмосферы и спивались (Михаил Чхан), накладывали на себя руки (Григорий Тютюнник), самые стойкие – надолго уходили во «внутреннюю эмиграцию» (Лина Костенко, Михайлина Коцюбинская, Валерий Шевчук), или же действительно эмигрировали в Россию (Лесь Танюк, Павло Мовчан).
В этих условиях понятными оказались тенденции к сворачиванию публичной оппозиционной деятельности и возвращению к подпольным методам. Так, подготовленный В. Чорноволом, но остановленный 6-й выпуск «Украинского вестника» анонимно издали Ярослав Кендзёр, Михаил Косив, Атена Пашко; параллельно в Киеве 6-й выпуск издали Евгений Пронюк и Василь Лисовой. Кроме того, чтобы дать общественности правдивую информацию, издатели имели цель спутать следствию карты, отвести обвинения от В. Чорновола. В 1973–1975 гг. Степан Хмара (Червоноград), Виталий Шевченко и Олесь Шевченко (Киев) подпольно издали спаренный 7–8 выпуск «Украинского вестника», а 9-й вынуждены были уничтожить непосредственно перед обысками. Они были выявлены и осуждены только в 1980 году.
Ещё учась в школе в Самборе, Зорян Попадюк вместе со своими одноклассниками организовал подпольную оппозиционную группу «Украинский национально-освободительный фронт» (УНОФ; названием хотели подчеркнуть преемственность от «Украинского Национального Фронта» Дмитрия Квецко, Зиновия Красивского, разгромленного в 1967 году). Скоро все члены УНОФ поступили в вузы, группа разрослась количественно и географически. Она издавала машинописный журнал «Поступ». Она была раскрыта в марте 1973 года. 19-летний З. Попадюк получил 7 лет заключения и 5 лет ссылки, Яромир Мыкытко – 5 лет заключения. Остальные студенты были исключены из вузов, парни рекрутированы в армию.
В ночь на 22 января 1973 года – 55-ю годовщину независимости Украинской Народной Республики, 24-летний Владимир Мармус и восемь его коллег из села Росохач подняли на учреждениях в г. Чорткове 4 национальных флага и вывесили 19 больших листовок: «Свободу украинским патриотам!» (имелись в виду репрессии 1972-73 гг. против инакомыслящих); «Позор политике русификации!», «Да здравствует растущий украинский патриотизм!». В. Мармус «за незаконное хранение огнестрельного оружия, создание подпольной националистической организации, вовлечение несовершеннолетних в националистическую организацию» был осуждён на 6 лет лагерей строгого режима и 5 лет ссылки. Другие члены организации осуждены на разные сроки (Николай Мармус и Степан Сапеляк – на 5 лет заключения и 3 года ссылки, Пётр Винничук и Владимир Сенькив – на 4+3, Николай Слободян и Андрей Кравец – на 3+2, Николай Лисый – на 1 год, Петра Витива как несовершеннолетнего не судили).
Национальные флаги вывешивали в Стебнике (17-летний Любомир Старосольский и Степан Калапач, получили соответственно по 2 и 3 года), в Киеве.
Однако надежда властей репрессиями искоренить инакомыслие и правозащитное движение не оправдалась. Жертвы «покоса» 1972 года оказались на удивление стойкими. Борьбу за права человека они продолжили и в лагерях Мордовии, Пермской области, Владимирского централа. Вот как об этом свидетельствует Семён Глузман: «Пока наши надзиратели-чекисты вдохновенно боролись с присутствием в зоне зимнего белья и пружинных механических бритв („Не положено!“), тихие и внешне спокойные до безразличия Антонюк и Горбаль обкладывались множеством книг и журналов и... писали, писали, писали. Их „ксивы“ несли миру информацию о людях зоны, её жизни. И это было страшное оружие. Десятки, сотни тысяч чекистов и их стукачей выискивали крамолу на воле, сажали в тюрьмы, лагеря и психиатрические больницы, а здесь, в самом потустороннем месте полной неволи и изоляции, писали Самиздат!» (25).
Юридически уголовные, но «осуждённые за особо опасные государственные преступления», политзаключённые развернули борьбу за Статус политзаключённого с требованиями отменить принудительный труд и обязательную норму выработки, установить справедливую оплату труда; снять ограничения на переписку; улучшить медицинское обслуживание; обеспечить возможность творческого труда и другое. Поскольку власть реагировала на выработанный в 1975 году с активным участием «зэковского генерала» Вячеслава Чорновола проект Статуса политзаключённого лишь дополнительными репрессиями, с 1976 года заключённые начали переходить на него явочным порядком: бастовали, объявляли голодовки по поводу лишения свиданий, срывали нашивку с фамилией, отказывались носить лагерную одежду (известна «холодовка»: сидели в карцерах в одном белье). Это вызывало дополнительные репрессии. Отдельные узники совести проводили в карцерах, помещениях камерного типа (ПКТ), на тюремном режиме, голодая, едва ли не половину своего срока (например, Вячеслав Чорновил, Василь Лисовой, Василь Стус, Зорян Попадюк).
В начале 70-х годов в лагерях голодовками протеста и заявлениями отмечали День советского политзаключённого 30 октября, День украинского политзаключённого 12 января (аресты 1972 года), День памяти жертв красного террора 5 сентября (декрет Совнаркома 1918 года), День прав человека 10 декабря. При этом ссылались на Всеобщую декларацию прав человека ООН, принятые ООН 16 декабря 1966 года Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, Международный пакт о гражданских и политических правах, которые были подписаны СССР 19 октября 1973 года, и Факультативный протокол к последнему, вступивший в силу в мире 23 марта 1976 года.
Об акциях, которые готовились, старались заранее сообщить «Международной амнистии», другим международным правозащитным организациям. Они, а следовательно и лидеры западных государств (прежде всего президенты США Ричард Никсон, Джимми Картер, Рональд Рейган) оказывали давление на руководство СССР, в результате чего многим узникам совести удалось сохранить жизнь, а некоторых даже удалось вырвать из неволи (Леонид Плющ, Валентин Мороз), порой в обмен на советских шпионов. Моральная поддержка Запада придавала силы духа узникам совести. Даже те, кто во время следствия под давлением, под страхом водворения в психушки признавал себя виновным, в лагерях созревали до сознательных и твёрдых борцов за права человека. Случаи морального падения и раскаяния, чтобы купить свободу, несмотря на бешеное давление, были крайне редкими (Василь Захарченко, впоследствии Олесь Бердник). Здесь следует отдать должное КГБ: в 60–80-х годах оно отбирало в неволю высококачественные кадры.
В лагерной борьбе против общего врага – российского империализма – вызревала настоящая межнациональная солидарность. В совместных акциях протеста участвовали общины украинцев, евреев, армян, литовцев, эстонцев, латвийцев, молдаван, грузин, русских демократов. Хорошо это засвидетельствовал в «Украинских силуэтах» и других произведениях Михаил Хейфец (26). Этот опыт и эта личная дружба очень пригодились в конце 80-х годов для разрушения всем ненавистной «империи зла».
Образцы героической стойкости демонстрировали женщины-политзаключённые Стефания Шабатура, Надежда Светличная, Ирина Калынец – ведь перед ними были живые примеры оуновок-подпольщиц Ирины Сенык, Оксаны Попович, которые были уже заключены во второй раз, 25-летниц Катерины Зарицкой, Дарьи Гусяк, Галины Пальчак.
В самом тяжёлом – абсолютно бесправном (хуже смерти!) – положении находились жертвы карательной психиатрии (Николай Плахотнюк, Василь Рубан, Борис Ковгар, Анатолий Лупинос, Леонид Плющ, позже Василь Сирый, Анна Михайленко). Впрочем, перед видимой перспективой применения «карательной психиатрии» тогда стояли практически все политзаключённые. Этот способ шантажа власть широко – и беззастенчиво перед всем цивилизованным миром – применяла как во время следствия (почти каждого арестованного по политическим мотивам проводили через психиатрическую экспертизу), так и в отношении осуждённых. За независимую экспертизу в отношении Петра Григоренко в 1972 г. был заключён киевский психиатр Семён Глузман. Впоследствии, в 1981 году, за экспертизу в отношении борца за права рабочих Алексея Никитина был заключён харьковский психиатр Анатолий Корягин, консультант Рабочей комиссии по расследованию использования психиатрии в политических целях (начала действовать 5 января 1977 г.).
Украинская общественная группа содействия выполнению Хельсинкских соглашений
Власть была уверена, что после «покоса» шестидесятников 1972 года с «украинским буржуазным национализмом», как она именовала всё, что было связано с проявлениями национального самосознания, не будет никаких хлопот лет 10–15. Но она ошиблась. Жизненные силы украинского народа ещё не были исчерпаны, поэтому, чтобы засвидетельствовать свою жизнеспособность и волю продолжать борьбу, появилась в концлагерях и тюрьмах (на этой новейшей Сечи Запорожской, как говорит Михаил Горынь) новая когорта – правозащитников.
Показательна в этом отношении судьба писателя Николая Руденко. Сын шахтёра, фронтовик, парторг Союза писателей, он пользовался всеми привилегиями советского истеблишмента. Но, как порядочный человек, он твёрдо отказывался давать отрицательные характеристики на репрессированных коллег, в частности, еврейских писателей, обвинённых в «космополитизме». Разоблачение «культа личности Сталина» привело его к убеждению, что учение, на котором строился СССР, ошибочно в своей основе. За критику марксизма Руденко в 1974 году был исключён из КПСС, в 1975 – из Союза писателей. В начале 70-х Руденко включился в работу по защите прав человека. Имел тесные отношения с московскими правозащитниками Андреем Сахаровым, Петром Григоренко, стал членом советского отделения «Международной амнистии». 18 апреля 1975 года был арестован за правозащитную деятельность, но ещё во время следствия в связи с 30-летием победы амнистирован как участник войны. Когда Руденко добивался восстановления пенсии как инвалид, его в феврале – марте 1976 мошенническим образом принудительно подвергли психиатрической экспертизе. Только благодаря порядочности врачей его не упрятали в психбольницу.
Как только 9 ноября 1976 года Николай Руденко на пресс-конференции на квартире Александра Гинзбурга в Москве (в Киеве не было аккредитованных иностранных журналистов) объявил о создании Украинской общественной группы содействия выполнению Хельсинкских соглашений – через два часа в окна его жилья в Конче-Заспе под Киевом, где ночевали его жена Раиса Руденко и Оксана Мешко, полетели кирпичи. Женщины закрывались одеялами и подушками, и всё же О. Мешко была ранена в плечо. Так КГБ – шутит Н. Руденко – отсалютовал в честь создания УГГ (27, 28).
Превентивные обыски 23–24 декабря 1976 года у членов-основателей Группы не напугали их, хотя Николаю Руденко подбросили 39 долларов, Олесю Берднику — порнографические открытки, а у Олексы Тихого нашли замазанную в глину на чердаке сарая давно непригодную для стрельбы немецкую винтовку (возможно, её во время войны спрятал брат Тихого, ушедший на фронт и погибший).
Среда Украинской Хельсинкской Группы оказалась достаточно широкой и героически стойкой. Это бывшие политзаключённые, их друзья и родственники, это молодые люди, которые не хотели больше задыхаться в атмосфере официальной лживой идеологии. ЦК КПСС и его «боевой авангард» – КГБ – были растеряны. Ведь хотелось сохранить «человеческое лицо» перед миром. Однако они не выдержали и в очередной раз явили миру свой истинный лик: прибегли к испытанным методам – арестам самых активных, запугиваниям и увольнениям с работы, из институтов всех сочувствующих и подозрительных.
5 февраля 1977 года за решёткой оказались Николай Руденко и Олекса Тихий. Разрешение на арест лидеров Московской группы Юрия Орлова и Александра Гинзбурга, Украинской – Николая Руденко и Литовской – Томаса Венцлавы дало Политбюро ЦК КПСС по предложению Генерального прокурора СССР Романа Руденко и Председателя КГБ Юрия Андропова. (Об этом стало известно уже после роспуска КПСС). Относительно Николая Руденко было оговорено: судить Донецким областным судом, для чего, мол, «есть процедурные основания»: его подельник Олекса Тихий живёт в Донецкой области. Но на самом деле суд хотели провести подальше от центров.
Н. Руденко и О. Тихий сначала были обвинены по ст. 187-І УК УССР – «Распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй», максимальное наказание за что – 3 года заключения. Таких осуждённых держат в уголовных лагерях. Но во время следствия статью заменили на 62-ю – «Антисоветская агитация и пропаганда». Оба были осуждены на максимальные сроки: Н. Руденко по ч. 1 ст. 62 к 7 годам заключения в лагерях строгого режима и 5 годам ссылки (хотя он инвалид войны), а О. Тихого – по ч. 2 ст. 62 – к 10 г. лагерей особого режима и 5 г. ссылки с признанием особо опасным рецидивистом (Тихий уже был в 1957 году судим за «антисоветскую агитацию»). Этот стандарт, за редкими исключениями, в дальнейшем применялся ко всем членам УГГ.
Н. Руденко и О. Тихому инкриминировали написанные и подписанные ими документы УГГ (члены Группы договорились, что каждый признаёт себя соавтором, хотя бы он только подписал документ; действовали и взаимные поручения подписывать документы, если кто-то не мог приехать по причине административного надзора или ареста). Кроме того, О. Тихий был обвинён в незаконном хранении огнестрельного оружия (ст. 222).
Обыски по делу Руденко и Тихого были почти у всех членов Группы, у знакомых. Были вызваны в качестве свидетелей во время следствия десятки человек со всей Украины, из Москвы. Формально открытый, на самом же деле закрытый процесс состоялся 23 июня – 1 июля 1977 года в Дружковке на Донетчине, в «ленинской комнате» «Смешторга», заполненной «спецпубликой». Чтобы учреждение нельзя было найти, с него сняли вывеску. Допрошенных свидетелей, вопреки правилу, выводили из зала, поднадзорных И. Кандыбу и Л. Лукьяненко после допроса насильно отправили домой (29).
Родные Руденко и Тихого о суде узнали только 25 июня из повесток на допрос. В зал суда не допустили 80-летнюю мать Тихого, сыновей Николая и Владимира. Владимир пытался пригласить защитника из Киева, сам защищать отца, но ему отказали. Из автобуса, ехавшего в Донецк, сняли Петра Винса с товарищем. Их отвезли в милицию, обыскали, забрали деньги, купили билеты на самолёт и отправили в Киев. Петра Старчика и Кирилла Подрабинека задержали «для выяснения личности» и отправили в Москву.
На суде не был оглашён ряд документов, зато свидетелем обвинения выступил профессор Донецкого университета Илья Стебун с утверждениями, что Тихий склонял его к враждебной деятельности, давая ему на рецензию свою машинописную книгу «Язык народа. Народ». (Это его Н. Руденко в своё время защищал от обвинений в «космополитизме»).
Процесс по делу Руденко–Тихого, несмотря на принятые меры, был освещён по радио «Свобода». Он не дезорганизовал, а наоборот, ещё больше активизировал деятельность других членов Группы, хотя каждый, кто хоть как-нибудь был причастен к деятельности Группы, попадал под пристальное наблюдение, с ним «беседовали», его склоняли стать доносчиком, или же увольняли с работы, исключали из института, выбрасывали из очереди на квартиру и т. п.
2 марта 1977 арестован в Одессе близкий к Группе Василь Барладяну. Ст. 187-1, три года уголовных лагерей. За три недели до конца срока, 29 февраля 1980, он получил ещё 3 года по той же статье.
23 апреля 1977 года в Киеве были арестованы Николай Матусевич и Мирослав Маринович. Обоим инкриминирована ч. 1 ст. 62. Кроме того, Матусевичу – ч. 1 ст. 206 «Хулиганство», по факту 1972 года. Следствие длилось более полугода в расчёте на то, что молодые люди не выдержат психологического давления, покаются, и это можно будет использовать для дискредитации правозащитного движения. Но Н. Матусевич вообще отказался участвовать в расследовании и в судебном процессе, а М. Маринович не давал показаний. Суд состоялся в г. Василькове Киевской обл. 22–27 марта 1978 года. Как и первые осуждённые, эти тоже не признали за собой вины. Приговор – 7 лет заключения в лагерях строгого режима и 5 лет ссылки.
Летом 1977 года радио «Свобода» начало передавать обстоятельное заявление писателя Гелия Снегирёва (формально он не был членом УГГ) об отказе от советского гражданства и отрывки из его эссе «Патроны для расстрела, или Нене моя, нене» – о печально известном «деле СВУ» («Союз освобождения Украины» – полностью сфабрикованное ГПУ в 1929 году дело, положившее начало тотальному уничтожению украинской интеллигенции). 22 сентября Г. Снегирёв был арестован. Началась новая серия обысков и допросов. Вследствие голодовки и пыток Снегирёв в марте 1978 года был разбит параличом. 1 апреля в газете «Радянська Україна» появилось подписанное его именем покаянное заявление, бессовестно сфабрикованное КГБ. Тяжело больного, его перевели в Октябрьскую больницу, где держали под пристальным наблюдением до смерти, наступившей 28 декабря. Труп сожгли в крематории.
8 декабря 1977 года арестован в Киеве член Группы Пётр Винс – сын заключённого лидера баптистов Украины Георгия Винса. 30 суток ареста по обвинению в «хулиганстве». 15 февраля 1978 он получил 1 год за «тунеядство».
12 декабря 1977 года в Чернигове арестован по обвинению в антисоветской агитации и пропаганде Левко Лукьяненко, находившийся там под административным надзором после освобождения в январе прошлого года. Кроме документов Группы, ему инкриминировали как антисоветские статьи «Остановите кривосудие!» – в защиту художника Петра Рубана, «Год свободы», «Проблемы инакомыслия в СССР» и другие. Во время следствия Л. Лукьяненко держал длительную голодовку, отказался от советского гражданства. 20 июля 1978 года Черниговский областной суд в г. Городне вынес приговор: 10 лет лишения свободы в лагерях строгого режима и 5 лет ссылки с признанием особо опасным рецидивистом. Об «открытости» процесса свидетельствует хотя бы тот факт, что Оксану Мешко, ехавшую в Городню, сняли с автобуса и отправили в обратном направлении.
В 1978–1980 г. были репрессированы почти все члены-основатели Группы, но на их место с упрямой одержимостью шли всё новые и новые люди. Так, в Группу вступили Пётр Винс (февраль 1977), Ольга Гейко-Матусевич (14 мая 1977), Виталий Калиниченко и Василь Стрильцив (октябрь 1977), Василь Сичко (26 февраля 1978), Пётр Сичко (30 апреля 1978), Юрий Литвин (июнь 1978), Владимир Малинкович (октябрь 1978), Михаил Мельник (ноябрь 1978), Василь Овсиенко (18 ноября 1978). Вступление в Группу в каждом случае было сознательным актом храбрости и жертвенности: ведь объявленный её член держался на свободе считанные недели или месяцы. Некоторые работали как необъявленные члены, оставляя заявление, в котором просили считать их членами Группы с момента ареста. Были случаи написания заранее последнего слова, потому что не было уверенности, что его удастся произнести на будущем суде.
Противопоставляя репрессиям законность и легализм, Группа 14 октября 1977 года подала в Совет Министров УССР ходатайство о регистрации её как общественной организации и предоставлении ей официального статуса. После ареста Н. Руденко нового Председателя не избирали, но неформальными лидерами её были Олесь Бердник (до ареста 6 марта 1979 года) и Оксана Мешко.
Летом 1978 года Группа обнародовала программный документ «Наши задачи», где заявила, что исходит из «принципов единства общечеловеческих и национальных прав украинских граждан». Защита национальных прав украинцев и граждан других национальностей, а также религиозных прав, была поставлена на первое место в её деятельности.
Группа в лице Иосифа Зисельса защищала упрятанных в «психушки», в лице Петра Григоренко – права крымских татар, в лицах Петра Винса, Ольги Гейко – права верующих. Общедемократические тенденции в ней представляли Леонид Плющ, Владимир Малинкович. В отдельных её документах речь шла о социально-экономических правах.
Авторский коллектив, которым считала себя Группа, оказался чрезвычайно продуктивным: за три первых года, работая в условиях постоянного риска, он создал сотни высококвалифицированных, скрупулёзно выверенных и хорошо отредактированных правозащитных документов, которые составили бы несколько томов. Это десятки Меморандумов и Информбюллетеней о нарушениях прав конкретных людей.
Материалы приходилось возить в Москву, откуда они передавались за границу. Попытка передать подборку материалов консулу США в Киеве закончилась избиением и заключением Петра Винса. Многие документы изымались при обысках и похищались кагебистами. У Оксаны Мешко на Верболозной, 16, было проведено 9 обысков. Ей несколько раз перекопали сад. В доме напротив установили пост с камерой ночного видения, а на неё саму было совершено вооружённое нападение, чтобы довести пожилую женщину до инфаркта.
Для поддержки правозащитного движения в Украине украинская диаспора уже в ноябре 1976 года создала Вашингтонский Комитет Хельсинкских Гарантий для Украины (Богдан Ясень – псевдоним Осипа Зинкевича), который вместе с издательством «Смолоскип» им. В. Симоненко собирал и издавал материалы УГГ на украинском и английском языках, популяризировал деятельность Группы в правозащитных и политических кругах мира. Самые значительные его дела – издание книг:
Український правозахисний рух. Документи й матеріяли Української Громадської Групи Сприяння виконанню Гельсінкських Угод. Передмова Андрія Зваруна. Упорядкував Осип Зінкевич. Українське Видавництво «Смолоскип» ім. В. Симоненка. Торонто – Балтимор. 1978. 478 с.;
Інформаційні бюлетені Української громадської групи сприяння виконанню гельсінкських угод. Випуски: ч. 1, 1978 р.; ч. 2, 1978 р.; безномерний, березень 1979 р.; ч. 1, 1980 р.; ч. 2, 1980 р. Упорядкував Осип Зінкевич. Післяслово Ніни Строкатої. Комітет Гельсінкських ґарантій для України. Українське видавництво «Смолоскип» ім. В. Симоненка. Торонто – Балтимор, 1981. 200 с.;
Українська Гельсінкська Група. 1978–1982. Документи і матеріяли. Упорядкував і зредагував Осип Зінкевич. Українське Видавництво «Смолоскип» ім. В. Симоненка. Торонто – Балтимор. 1983. 1000 с.
Впоследствии начал действовать Американский общественный комитет содействия выполнению Хельсинкских соглашений (Роман Купчинский). Когда же за рубежом оказались Пётр Григоренко (США) и Леонид Плющ (Франция), в октябре 1978 года начало действовать Зарубежное представительство УГГ. К нему присоединились Надежда Светличная, Нина Строкатая-Караванская. С 1979 года за рубежом начал выходить «Вестник репрессий в Украине» на украинском и английском языках (редактор-составитель Н. Светличная). Документы Группы, тайно поступавшие из Украины, публиковались в периодике и выходили отдельными изданиями. Надежда Светличная начала вести передачи на радио «Свобода» о правозащитном движении – их, несмотря на глушение, тайно слушала вся мыслящая Украина.
22 мая 1978 года в Группу вступил сосланный в Якутию после заключения Вячеслав Чорновил. В феврале 1979 года объявила себя членами УГГ целая группа политзаключённых и ссыльных: Оксана Попович, Богдан Ребрик, Василь Романюк (впоследствии – Патриарх Владимир), Ирина Сенык, Стефания Шабатура, Даниил Шумук, Юрий Шухевич-Березинский (теперь он говорит, что на самом деле с ним не связались). В октябре 1979 членами Группы стали Иосиф Зисельс, Зиновий Красивский, Ярослав Лесив, Пётр Розумный, Иван Сокульский, позже Николай Горбаль (21 января 1980), Михаил Горынь (ноябрь 1982) Валерий Марченко (октябрь 1983), Пётр Рубан (1985).
С 1979 года КГБ развернуло против Группы настоящую войну. Репрессии против причастных к ней приобрели мафиозный характер. По Украине прокатилась волна уголовных процессов против правозащитников по цинично сфабрикованным делам: «тунеядство» (Пётр Винс), «сопротивление милиции» (Василь Овсиенко, Юрий Литвин), «хулиганство» (Вадим Смогитель, Василь Долишний), «попытка изнасилования» (Николай Горбаль, Вячеслав Чорновил), «нарушение паспортного режима» (Василь Стрильцив), «незаконное хранение оружия» (Пётр Розумный), «изготовление, хранение и сбыт наркотиков» (Василь Сичко, Ярослав Лесив). Украина стала своего рода полигоном КГБ, где испытывались самые брутальные методы. Причастных к Группе избивали неизвестные или милиция (Петра Винса, Юрия Литвина, Василя Долишнего), женщинам угрожали изнасилованием (Ольге Гейко), подбрасывались документы (Михаилу Горыню), за защиту родных сажали жён (та же Ольга Гейко-Матусевич, Раиса Руденко), матерей (76-летнюю Оксану Мешко). Никто из членов Группы не выходил на свободу: незадолго до освобождения, а то и в день освобождения жертве фабриковали новое дело (Василь Овсиенко, Юрий Литвин, Николай Горбаль, Василь и Пётр Сичко, Ярослав Лесив, Иван Сокульский, Ольга Гейко, Василь Барладяну). Только такими методами в начале 80-х годов удалось фактически прекратить деятельность Группы.
Всего в Группу за время её существования вступил 41 человек. (Кроме них, УГГ в 1982 году пополнилась двумя иностранными членами, а в конце 1987 года было кооптировано ещё шестеро). 24 из 41 были осуждены в связи с членством в Группе. Они отбыли в концлагерях, тюрьмах, психушках, в ссылке более 170 лет. В целом же на страстном счету 39 членов Группы – более 550 лет неволи. Группа расплатилась пятью жизнями: Михаил Мельник покончил с собой накануне неминуемого ареста 9 марта 1979 года. Четыре заключённых лагеря особого режима ВС-389/36 (посёлок Кучино Чусовского р-на Пермской обл.) погибли в неволе: Олекса Тихий 5 мая 1984, Юрий Литвин 4 сентября 1984, Валерий Марченко 7 октября 1984 и Василь Стус 4 сентября 1985. Только один член УГГ – Владимир Малинкович – был выдворен за границу в ночь на 1 января 1980 года, в немалой степени потому, что он неукраинец.
Вот дальнейшая, после ареста Л. Лукьяненко, далеко не полная, хроника репрессий против УГГ.
8 декабря 1978 г. заключён на 3 года по ст. 187-1 активист движения евреев за выезд, член УГГ Иосиф Зисельс (г. Черновцы). Через три года после освобождения, 19 октября 1984 – ещё на 3 года по этой же статье.
9 января 1979 года Василь Стрильцив (г. Долина Ивано-Франковской обл.) осуждён на 3 месяца исправительных работ за «оскорбление» директора школы – трёхлетней давности, а 25 октября он арестован за «нарушение паспортного режима» по ст. 196 – 2 года. 22 октября 1981 обвинён по ч. 1 ст. 62 – 7 лет лагерей строгого режима и 4 года ссылки.
По сфабрикованному делу «сопротивление милиции» (ч. 2 ст. 188-1) 7–8 февраля 1979 на 3 года осуждён Василь Овсиенко (с. Ленино, ныне Ставки, Радомышльского р-на Житомирской обл.). 9 июня 1981 арестован в лагере и осуждён по ч. 2 ст. 62 ещё на 10 лет лагерей особого режима и 5 лет ссылки. Особо опасный рецидивист.
6 марта 1979 года арестован Олесь Бердник, Киев. Ч. 2 ст. 62, 6 лет особого режима и 3 года ссылки. Особо опасный рецидивист.
6 июля 1979 отец и сын Пётр и Василь Сичко (г. Долина Ивано-Франковской обл.) арестованы и осуждены по ст. 187-1 на 3 года. Отец — строгого режима, сын – усиленного. Их младший сын и брат Владимир (не член УГГ) 4 декабря 1981 после безосновательного исключения из университета отказался служить в армии и был осуждён на 3 года. Не освобождая, Петра 16 июня 1982 по той же ст. 187-1, а Василя 3 декабря 1982 за «хранение наркотиков» (которые ему подбросили в тумбочку) осудили ещё на три года.
6 августа 1979 арестован по обвинению в сопротивлении милиции (ч. 2 ст. 188-1) Юрий Литвин (с. Барахты Васильковского р-на Киевской обл.). 3 года уголовных лагерей строгого режима. Арестован в лагере 2 марта 1982, по ч. 2 ст. 62 осуждён ещё к 10 годам лагерей особого режима и 5 годам ссылки. Особо опасный рецидивист.
3 октября 1979 арестован в с. Пшеничное Солонянского р-на Днепропетровской обл. Пётр Розумный – «незаконное хранение холодного оружия» (изъяли карманный ножик, когда ездил к политссыльному Евгению Сверстюку в Сибирь), ст. 222-3, 3 года уголовных лагерей.
23 октября 1979 г. арестован в Киеве по сфабрикованному обвинению в «попытке изнасилования» Николай Горбаль. 5 лет уголовных лагерей строгого режима. За день до освобождения возбуждено дело по ч. 2 ст. 62 – 8 лет лагерей особого режима и 5 лет ссылки. Особо опасный рецидивист.
15 ноября 1979 года арестован в г. Болехов Ивано-Франковской обл. по сфабрикованному обвинению в изготовлении и сбыте наркотиков (ст. 229) Ярослав Лесив. 2 года заключения. В мае 1981 снова арестован в лагере по такому же обвинению – 5 лет.
29 ноября 1979 г. арестован в г. Васильковка Днепропетровской области Виталий Калиниченко. Ч. 2 ст. 62. 10 лет лагерей особого режима и 5 лет ссылки. Особо опасный рецидивист.
20 февраля 1980 года в Одессе арестована Анна Михайленко, которая была необъявленным членом Группы. 8 лет пыток в психушках.
12 марта 1980 арестован в г. Моршине Львовской обл. Зиновий Красивский и отправлен досиживать неотбытый срок 8 месяцев и ссылку 5 лет.
12 марта 1980 арестована в Киеве Ольга Гейко-Матусевич. 3 года по ст. 187-1 в уголовном лагере. В момент освобождения арестована по ч. 1 ст. 62 – ещё 3 года лагерей строгого режима.
2 апреля 1980 в ссылке в Якутии Вячеславу Чорноволу предъявлено сфабрикованное обвинение в «попытке изнасилования» – 5 лет уголовных лагерей.
11 апреля 1980 в Днепропетровске арестован член Группы Иван Сокульский, а 1 июля близкий к Группе Григорий Приходько (с. Александрополь Синельниковского р-на Днепропетровской обл.). Осуждены к 5 годам тюрьмы, 5 годам лагерей особого режима и 5 годам ссылки. Признаны особо опасными рецидивистами. 3 апреля 1986 Сокульский осуждён в тюрьме г. Чистополь ещё на 3 года по сфабрикованному обвинению в «хулиганстве» (ч. 2 ст. 206).
14 мая 1980 арестован в Киеве Василь Стус, который примкнул к УГГ ещё осенью 1977 года, будучи в ссылке в Магаданской области. Ч. 2 ст. 62. 10 лет лагерей особого режима и 5 лет ссылки. Особо опасный рецидивист.
Кагебисты не постыдились на самое Рождество Христово, 7 января 1981 года, с особым цинизмом, осудить на полгода лишения свободы и 5 лет ссылки по ч. 1 ст. 62 почти 76-летнюю киевлянку Оксану Мешко, перед этим продержав её 75 суток на психиатрической экспертизе. Её везли этапом на берег Охотского моря 108 суток.
30 июня 1980 года за сотрудничество с членами УГГ в с. Гута-Логановская Малинского р-на на Житомирщине арестован Дмитрий Мазур. Ч. 2 ст. 62, 6 лет лагерей строгого режима и 5 л. ссылки. В ссылке был тяжело избит, дважды бежал и дважды (в октябре 1986 и в феврале 1988) был судим на 1 г. уголовных лагерей.
23 марта 1981 в г. Пустомыты Львовской области арестован последний в Украине член-основатель УГГ – Иван Кандыба. Ч. 2 ст. 62. 10 лет лагерей особого режима и 5 лет ссылки. Особо опасный рецидивист.
15 августа 1981 арестована жена Н. Руденко Раиса – формально не член Группы, но её «незаменимый секретарь». Ч. 1 ст. 62, 5 лет лагерей строгого режима и 5 лет ссылки.
3 декабря 1981 во Львове арестовали Михаила Горыня, подбросив примитивно сфабрикованные «антисоветские» тексты – на самом же деле за подготовку 4–7 бюллетеней УГГ, на чём его не смогли поймать. Ч. 2 ст. 62. 10 лет лагерей особого режима и 5 лет ссылки. Особо опасный рецидивист. Формально М. Горынь был принят в Группу в прогулочном дворике лагеря Кучино в ноябре 1982 года.
2 сентября 1982 года в ссылке в Актюбинской области Казахстана арестован по ст. 56, ч. 2 (аналог ст. 62 УК УССР) близкий к Группе Зорян Попадюк. Как прооперированный по поводу туберкулёза, осуждён на 10 л. лагерей не особого, а строгого режима и 5 л. ссылки.
21 октября 1983 арестован журналист Валерий Марченко (Киев). Ч. 2 ст. 62. 10 лет лагерей особого режима и 5 лет ссылки. Особо опасный рецидивист.
29 ноября 1985 в г. Прилуках Черниговской обл. арестован Пётр Рубан. Ч. 2 ст. 62. 9 лет лагерей особого режима и 5 лет ссылки. Особо опасный рецидивист.
Всё это время продолжались репрессии против освобождённых политических заключённых, проявлявших малейшие признаки нонконформизма. Их не принимали на работу по специальности (Кузьма Матвиюк, Игорь Кравцив, Надежда Светличная, Григорий Маковийчук, Любомир Старосольский, Анна Михайленко, Василь Лисовой, Олесь Сергиенко, Евгений Пронюк, Василь Долишний и другие). Им каждые полгода продлевали административный надзор, каждый раз усиливая его, предъявляли предупреждения по Указу Президиума Верховного Совета СССР от 25 декабря 1972 года об уголовной ответственности.
Борьба продолжается
Между тем, видя разгром УГГ, возникают попытки возобновить подпольную деятельность. В 1979 году в Ивано-Франковске были арестованы члены «Украинского национального фронта» Николай Крайник, Василь Зварыч, Иван Мандрик – последнего под видом вызова в командировку забрали трое неизвестных, а через три дня жене сообщили, что он покончил жизнь самоубийством. На суде оказалось, что в УНФ-2 входило около 40 человек, они вели исключительно просветительскую деятельность, в частности, издали №№ 10 и 11 «Украинского вестника».
В конце 70-х – начале 80-х годов в нескольких городах Украины существовал круг молодых людей, называвший себя «Люди доброй воли» (лидер – Татьяна Метелева). Он вёл просветительскую и правозащитную работу.
Отдельного внимания заслуживает движение крымских татар за возвращение на свою историческую родину.
В 1980 году появляется обращение Украинского патриотического движения. Анонимные авторы (теперь известно, что этот текст написал Василь Стус) констатировали, что СССР превратился в военно-полицейское государство, имеющее далеко идущие имперские цели. Свободная Украина могла бы стать надёжной защитой Запада от коммунистической экспансии, поэтому деколонизация СССР – единственная гарантия мира во всём мире.
В условиях тотального контроля продолжаются попытки идеологического обоснования движения сопротивления. Начиная с 1973 года филолог Юрий Бадзьо, зарабатывая на жизнь физическим трудом, тайно работал над фундаментальным историософским трудом «Право жить» – о положении украинского народа в СССР, где он лишён прошлого, настоящего и будущего, потому что ему суждено стать материалом для создания «новой исторической общности – советского народа». Автор стоял на позициях «демократического социализма», пользовался марксистской терминологией, но беспощадно критиковал ленинизм. Кагебисты похитили его рукопись на 1400 листов. Через год при обыске забрали второй вариант (450 листов), но за два месяца до ареста (23 апреля 1979) он успел сделать третий, за что получил 7 лет заключения и 5 лет ссылки. Это был своего рода теоретический итог шестидесятничества, обобщение его исторического опыта (30).
В камере лагеря особого режима в Сосновке (Мордовия) тайно писал работу «Грани культуры» Иван Гель (31). Он исследовал истоки тоталитарной российской системы, способы и методы идеологического давления на порабощённые народы с помощью науки, образования, культуры. И. Гель различает диссидентов (которые критикуют советскую систему изнутри) и участников национально-освободительного движения. Он упрекает Запад в сознательном замалчивании национальных проблем в империи, а русских диссидентов – в том, что они избегают принципиальной оценки этих проблем. Ведь с открытым осуждением русификаторской политики выступил тогда разве что Андрей Буковский в открытом письме А. Косыгину.
Значительный вклад в осмысление роли правозащитного движения в Украине внёс Юрий Литвин, написав в апреле 1979 года статью «Правозащитное движение в Украине, его основы и перспективы» (32). Стоя в целом на анархо-синдикалистских позициях, он рассматривает правозащитное движение как противоборство общества, стремящегося к как можно большей свободе, с государством, которое пытается двигаться к деспотизму. Силу украинского правозащитного движения он видит в высоких моральных качествах правозащитников, в том, что оно является достойным звеном мирового движения и что оно неполитическое.
Над большим исследованием по истории Украины работал исключённый из аспирантуры историк Михаил Мельник (работу изъяли с обыском 6–7 марта 1979 года, после чего автор 9 марта покончил с собой), над воспоминаниями – Борис Антоненко-Давидович (и их похитили).
Теоретическая мысль правозащитников подводила к выводу, что правовое общество в Украине не может возникнуть как следствие реформирования существующей системы, в колониальном положении Украины. Это возможно только в условиях её независимости.
Хотя власти жестокими репрессиями удалось приглушить правозащитное движение в Украине, но окончательно она его не искоренила. В 1981 году, в 9-ю годовщину арестов, в Киеве были расклеены листовки: «Соотечественники! 12 января – День украинского политзаключённого. Поддержите его!» Это было дело рук пятерых молодых интеллигентов, трое из которых украинцы, двое – евреи. Журналист Сергей Набока, переводчик Леонид Милявский, математик Лариса Лохвицкая, эндокринолог Инна Чернявская получили по три года заключения за «клевету на советскую действительность», обнаруженную в их статьях и стихах. Наталка Пархоменко, мать маленькой дочери, была освобождена.
Бывший политзаключённый Иосиф Тереля прибегает к отчаянной попытке продолжить открытую правозащитную деятельность в Галичине: 9 сентября 1982 года пятеро украинских греко-католиков объявили себя Инициативной группой защиты прав верующих и Церкви. Её членом стала Стефания Петраш, муж которой Пётр, сыновья Василь и Владимир были заключены за правозащитную деятельность. 24 декабря Й. Тереля снова оказался за решёткой.
Арестованные правозащитники не шли ни на какие компромиссы. Они саботировали расследование, суды, не подписывали протоколы допросов, не признавали свои действия преступными, отказывались от советского гражданства. Это была открытая конфронтация с оккупационной властью. Сложился парадокс: правозащитники протестуют против нарушений законов, а карательные органы новыми репрессиями пытаются доказать, что нарушений законности нет...
Группа действовала и в неволе. Так, в 1979 году из лагеря особого режима Сосновка (Мордовия) просочилось «Обращение украинского национального освободительного движения по делу украинской самостоятельности» (известное ещё как «Заявление 18-х политзаключённых», автор Л. Лукьяненко), где разоблачался колониальный характер власти в Украине.
Отдельно следует упомянуть документ «Попытка обобщения» Олексы Тихого и Василя Романюка (1978), в котором авторы провозглашают высшим принципом общественного и межнационального сосуществования Всеобщую декларацию прав человека ООН, пакты и документы ООН о независимости и суверенитете наций и народов. Авторы предлагают для спасения нации от духовного и культурного уничтожения принять определённые нормы поведения для украинца. Они сводятся, в основном, к пассивному сопротивлению русификации: употреблять только родной язык, не служить в армии за пределами Украины, не ехать на работу за пределы Украины. Кроме того, придерживаться общечеловеческих норм поведения: не сквернословить, не пьянствовать, не наживать предметов роскоши, не накапливать денег, а тратить их на благотворительность. В заключении Романюк и Тихий пишут: «Не надо нарушать законы. Достаточно пользоваться законами, которые провозгласила Конституция СССР».
Блестящим образцом правозащитной публицистики является «Из лагерной тетради» Василя Стуса (33), что, вкупе с выдвижением его поэтического творчества на соискание Нобелевской премии, стоило ему жизни.
Из всех членов Группы только один Олесь Бердник покаялся после 5 лет заключения и был освобождён в апреле 1984 года (34).
Восхищает храбрость наших женщин – Оксаны Мешко, Ольги Гейко, Оксаны Попович, Надежды Светличной, Ирины Сенык, Нины Строкатой, Стефании Шабатуры, Раисы Руденко, которые до конца вытерпели неволю в нечеловеческих условиях и сохранили свои души незапятнанными. А те женщины, которые остались в «большой зоне», были опорой и поддержкой заключённых. Вера Лисовая и Елена Антонив, ежеминутно рискуя, распределяли помощь семьям политзаключённых, которую собирали в Украине и которая поступала из Фонда Александра Солженицына (для поездки на свидание, на снаряжение посылки). По сути, Украина 80-х годов, как не раз в нашей трагической истории, держалась на казацких жёнах, матерях и сёстрах, таких как Анна Михайленко (заключена в 1980 г. в психбольницу на 8 лет), Стефания Петраш (жена Петра, мать Василя и Владимира Сичко), Валентина Чорновил и Атена Пашко (сестра и жена Вячеслава Чорновола), Ольга Горынь (жена Михаила Горыня), Нина и Алла Марченко (мать и тётя Валерия Марченко), Михайлина Коцюбинская, Леонида Светличная (жена Ивана Светличного), Ольга Стокотельная (жена Николая Горбаля), Светлана Кириченко (жена Юрия Бадзьо), Нина Обертас, Ольга Бабич (сестра Сергея Бабича), Тамила Матусевич (сестра Николая Матусевича), Валентина Сокоринская (жена Олеся Бердника), Надежда Лукьяненко (жена Левко Лукьяненко), Валерия Андриевская (жена Евгения Сверстюка), Люба Хейна (жена Мирослава Мариновича) и других. Они ездили на свидания, вывозили информацию, переправляли её за границу, морально поддерживали заключённых и страдали вместе с ними, а часто и хуже них, потому что кагебисты шантажировали не только их самих, но и детей.
Когда мужья, сыновья и братья пошли на войну – казацкие матери, жёны и сёстры взяли на себя бремя их защиты, воспитывая в то же время новое поколение казацких детей (в украинском языке, в отличие от русского, «воспитать» – «виховати», то есть прежде всего сохранить детей от опасности, а не прокормить).
Ещё 23 сентября 1981 года, в докладе на 13-м Национальном съезде Американской ассоциации содействия славистическим исследованиям в г. Пасифик-Гров известный исследователь политической мысли Иван Лысяк-Рудницкий отметил:
«...подтверждённая фактами значимость украинских диссидентов не вызывает сомнений. Жертвенность этих храбрых мужчин и женщин свидетельствует о несокрушимом духе украинской нации. Их борьба за человеческие и национальные права согласуется с тенденцией мирового общечеловеческого прогресса в духе свободы. Украинские диссиденты верят, что правда свободы победит. Тем, кому посчастливилось жить в свободных странах, не пристало верить меньше» (35).
К такому выводу подталкивает возвышенный стиль большинства документов Группы, что отметила в 1981 году и Нина Строкатая в послесловии к изданию Информбюллетеней (36).
Сила и огромное моральное превосходство украинских правозащитников над режимом заключались в том, что они не стали подпольщиками, а подписывали документы своими именами, открыто демонстрировали легализм, апеллируя к советскому закону и международным правовым документам, подписанным СССР.
Украинские правозащитники пользовались заслуженным уважением и моральной поддержкой в демократическом мире. В 1978 году лидеры Московской, Украинской и Литовской хельсинкских групп были выдвинуты на соискание Нобелевской премии мира. В 1985 году на Нобелевскую премию в области литературы было выдвинуто творчество члена Группы Василя Стуса. Но Москва разделалась с ним традиционным российским способом: «Нет человека – нет проблемы». Стуса поспешили уничтожить в карцере «лагеря смерти» Кучино, зная, что эту премию присуждают в октябре каждого года – но только живым.
Московская Хельсинкская группа прекратила свою деятельность в сентябре 1982 года, потому что одни её члены были заключены, другие выброшены за границу. Были разгромлены Грузинская, Литовская и другие группы. Украинским же правозащитникам был один путь – в российские концлагеря. Почти все, будучи в неволе, они твёрдо решили не сдаваться. Члены УГГ, сидевшие в лагере особого режима ВС-389/36 в с. Кучино Пермской области, посовещались – и Украинскую Хельсинкскую Группу не распустили. (Кстати, на особом, камерном режиме в Кучино в период с 1 марта 1980 до 8 декабря 1987 года – в разное время и в разных камерах – сидели члены УГГ Олесь Бердник, Николай Горбаль, Михаил Горынь, Виталий Калиниченко, Иван Кандыба, Юрий Литвин, Левко Лукьяненко, Валерий Марченко, Василь Овсиенко, Пётр Рубан, Иван Сокульский, Василь Стус, Богдан Ребрик, Олекса Тихий, Даниил Шумук, иностранные члены УГГ эстонец Март Никлус и литовец Викторас Пяткус, вступившие в УГГ в самую тяжёлую пору – в 1982 году. А рядом на строгом режиме сидел Николай Руденко. Всего 18 человек. Нигде и никогда они не собирались в таком количестве). Условия в неволе были действительно особенно суровыми: камерное содержание, некачественная еда и грязная вода, запрет получать лекарства и литературу с воли, водворение в карцеры, работа, одно подцензурное письмо в месяц, лишение свиданий – отдельные заключённые годами не видели никого, кроме сокамерников и надзирателей... Недаром Кучино стали называть «лагерем смерти».
Перестройка пришла в концлагеря строгого режима в начале 1987 года в виде «помилований», на особый режим – в 1988. То есть власть и дальше считала правозащитников преступниками, но проявила к ним «милосердие». Реабилитированы они были, в основном, после принятия Закона УССР «О реабилитации жертв политических репрессий в Украине» от 17 апреля 1991 года.
В середине 80-х годов даже правящая верхушка СССР убедилась, что тоталитарное государство полностью исчерпало свои внутренние возможности, поэтому вынуждена была обратиться к обществу, чтобы обновиться его силой. Политика «гласности» означала, что государство неохотно, но понемногу отказывается от тотального контроля над печатным словом. Общество воспользовалось этим немедленно: появилось масса изданий, которые раньше назывались бы самиздатом – разовых, многократных и периодических. Они формировали общественное мнение и стали тем кайлом, что изо дня в день долбило тоталитарный режим – и он начал поддаваться. Если ещё арестовывали – то на неделю-две, если разгоняли митинг или демонстрацию – то протесты были ещё большими. Право на свободу слова, собраний, совести, в конце концов, право на общественную и политическую деятельность, объединение в политические партии общество завоевало тяжкими усилиями прежде всего горстки правозащитников – пассионарных личностей, прошедших закалку в тюрьмах и концлагерях. Они как апостолы стали солью земли. Конкретнее – моральным и идейным ядром многих общественных и политических организаций, которые начали формироваться. 3 июня 1989 года на Львовской площади в Киеве состоялось учредительное собрание Всеукраинского общества политических заключённых и репрессированных, которое возглавил Евгений Пронюк.
Как только в период «гласности» и «перестройки» первые хельсинкцы оказались на свободе, они возобновили правозащитную деятельность. 6 сентября 1987 года Василь Барладяну, Иван Гель, Михаил Горынь, Зорян Попадюк, Степан Хмара, Вячеслав Чорновил обнародовали Заявление о создании Украинской инициативной группы за освобождение узников совести, где выдвинули требование освободить и реабилитировать всех политзаключённых; исключить из Уголовного кодекса статьи, по которым заключали оппозиционеров; вернуть в Украину тела узников совести, погибших в неволе. 8 сентября в Москве был создан Межнациональный комитет защиты политзаключённых. Огромную роль в разрушении СССР и демократизации общества сыграли Совещания представителей национально-демократических движений народов СССР, где участвовали лидеры украинского правозащитного движения В. Чорновил, М. Горынь, Л. Лукьяненко, С. Хмара и другие. Одно из первых таких совещаний состоялось в июле 1988 года во Львове.
С 1987 года начинают возникать первые так называемые неформальные объединения, которые расширяли рамки дозволенного, где обсуждались жгучие проблемы общества, где явочным порядком осуществлялась важнейшая из свобод человека – свобода слова. Так, Украинский культурологический клуб возник в Киеве 6 августа 1987 года (37), Общество Льва во Львове – 19 октября 1987 (38).
Одновременно в Галичине разворачивается поддержанное УГГ – УХС мощное движение за восстановление репрессированной Украинской Греко-Католической Церкви. В мае – октябре 1989 г. Комитет защиты УГКЦ (Василь Сичко, Степан Хмара, Ярослав Лесив и другие) организуют голодовки в Москве с требованием легализовать репрессированную Церковь. 17 сентября 1989 года во Львове состоялся 250-тысячный митинг греко-католиков у Собора Святого Юра. 5 июня 1990 года в Киеве восстанавливается Украинская Православная Автокефальная Церковь. Легализуются гонимые доселе протестантские церкви.
30 декабря 1987 года было объявлено о возобновлении деятельности Украинской Хельсинкской Группы. Восстановленный летом 1987 года В. Чорноволом журнал «Український вісник» стал её печатным органом, члены редколлегии Богдан Горынь, Василь Барладяну, Павло Скочок, Виталий Шевченко, Степан Сапеляк, Николай Муратов – новыми членами Украинской Хельсинкской Группы.
11 марта 1988 года за подписями Михаила Горыня, Зиновия Красивского и Вячеслава Чорновола было опубликовано «Обращение Украинской Хельсинкской Группы к украинской и мировой общественности» о возобновлении деятельности УГГ. Обращение поддержали члены УГГ Левко Лукьяненко (он тогда ещё был в ссылке в Томской обл.), Оксана Мешко (Киев), Николай Матусевич (в ссылке в Читинской обл.), Зиновий Красивский (Львовская обл.), Вячеслав Чорновил (Львов), Михаил Горынь (Львов), Пётр Розумный (Днепропетровская обл.), Василь и Пётр Сичко (г. Долина), Иосиф Зисельс (г. Черновцы), Ярослав Лесив (Ивано-Франковская обл.), Ольга Гейко-Матусевич (Киев), Василь Стрильцив (Ивано-Франковская обл.) и кооптированные в УГГ в декабре 1987 года Василь Барладяну (Одесса), Богдан Горынь (Львов), Павло Скочок (Киевская обл.), Виталий Шевченко (Киев), Степан Сапеляк (Харьков), Николай Муратов (Москва). Всего 19 человек. Председателем УГГ объявили Л. Лукьяненко, с его согласия. Исполнительный Комитет состоял из трёх рабочих секретарей: М. Горынь, З. Красивский, В. Чорновил. Действовало Зарубежное Представительство УГГ в составе: Николай Руденко, Надежда Светличная, Леонид Плющ, Нина Строкатая-Караванская.
Исполком взялся составить новый программный документ – Декларацию принципов Украинского Хельсинкского Союза. Его разработали Вячеслав Чорновил, Богдан и Михаил Горыни. Принципы были частично оглашены на 50-тысячном митинге во Львове 7 июля 1988 года братьями Горынями, которым удалось получить слово, а В. Чорновил распространял текст Декларации. С этого момента начинается история Украинского Хельсинкского Союза, который, собственно, ставил перед собой уже отчётливо политические цели. То есть был предпартией, доказательством чего является отказ летом 1989 года Международной Хельсинкской Федерации принять УХС в свой состав. 29 апреля 1990 года Учредительный съезд УХС преобразовал его в первую в Украине политическую организацию, альтернативную КПСС/КПУ – Украинскую Республиканскую партию.
Чтобы продолжить традицию неполитического правозащитного движения в Украине, 16 июня того же года по инициативе Оксаны Мешко был создан Украинский комитет «Хельсинки-90».
Таким образом, правозащитное движение в Украине было неотъемлемой частью общечеловеческого прогресса в духе свободы. Оно возникло на почве национально-освободительного движения и оппозиционного коммунистической идеологии инакомыслия, поставленного тоталитарным государством вне закона, из общественной необходимости защищать элементарные права человека от постоянных их нарушений со стороны государства ─ в социально-экономической, национально-культурной сфере, в отношении религии (39).
Украинская общественная группа содействия выполнению хельсинкских соглашений занимает в истории украинского национально-освободительного и правозащитного движения выдающееся место. Её можно сравнивать с Кирилло-Мефодиевским братством (1845–1847). Но если Братство после арестов не оставило после себя организационных структур, то в УГГ в зародышевом состоянии мы видим истоки большинства ныне действующих в Украине правозащитных организаций, национально-демократических и националистических партий, которые вместе с другими факторами привели Украину к независимости, где открылась возможность построить правовое общество, отвечающее как свободолюбивому духу украинского народа, так и букве международных правовых актов.
Библиография
1. Лісовий Василь. Культура – ідеологія – політика. – К. Видавництво імені Олени Теліги, 1997. С. 229.
2. Алексеева Людмила. История инакомыслия в СССР. Новейший период. – Весть. Вильнюс – Москва (VIMO), 1992, с. 191.
3. Захаров Евгений. Диссидентское движение в Украине (1954–1987). // Права людини, 1988, №2 (114). – С. 6–9.
4. Лисяк-Рудницький Іван. Радянська Україна з історичної перспективи. У книзі: Історичні есе. Том 2. Київ, «Основи», 1994, с. 458.
5. См.: Маринович М. Спокутування комунізму. Дрогобич, 1993, 45с.
6. Лук’яненко Левко. До історії українського правозахисного руху. Прес-бюлетень УРП-Інформ. Випуск 42 (182). 18 жовтня 1994 року. С. 7–10.
7. Захаров Е. Указ. соч.
8. Лисяк-Рудницький Іван. Радянська Україна з історичної перспективи. У книзі: Історичні есе. Том 2. Київ, «Основи», 1994, с. 463.
9. Там же, с. 466 и др.
10. Касьянов Георгий. Несогласные: украинская интеллигенция в движении сопротивления 1960-80-х годов. – К.: Либідь, 1995.– С. 30.
11. Опубликована под названием: Українські юристи під судом КГБ. Сучасність, 1968.
12. Лисяк-Рудницький Іван. Політична думка українських підрадянських дисидентів. У книзі: Історичні есе. Том 2. Київ, «Основи», 1994, с. 477.
13. См. об этом: Чорновіл Вячеслав. Лихо з розуму (Портрети двадцяти «злочинців»). Збірник матеріялів. 1968. Переиздано «Мемориалом» в 1991 г. во Львове.
14. Цит. по книге: Касьянов Г. Незгодні.., с. 51).
15. Лук’яненко Л. Указ. соч., с. 8.
16. Касьянов Г. Незгодні.., с. 96-98.
17. См., напр., «Відкритий лист до Івана Дзюби» Василя Стуса. Твори в 6 т. 9 кн. Львів: Просвіта, 1994-99. Том 4, 441–443.
18. Лисяк-Рудницький І. Історичні есе, т. 2, с. 480–481.
19. Русначенко Анатолій. Національно-визвольний рух в Україні. — К.: Видавництво ім. О.Теліги. – 1998. – С. 105–140.
20. Русначенко Анатолій. Розумом і серцем. Українська суспільно-політична думка 1940–1980-х років. – К.: Видавничий дім «КМ Academia», 1999. С. 221–232.
21. Шпорлюк Роман. Імперія та нації / Пер. з англ. – К.: Дух і Літера, 2000. С. 277.
22. Стус Василь. Твори. Львів: Просвіта. Т. 4, с. 443.
23. Касьянов Г. Незгодні.., с. 119-121.
24. Лісовий Василь. Відкритий лист до членів ЦК КПРС і ЦК КП України. – Зона, 1994, № 8, С. 125-148.
25. Глузман Семен. Уроки Світличного. В кн. «Доброокий. Спогади про Івана Світличного.» К.: Видавництво «Час», 1998. – C. 478.
26. Хейфец Михаил. Украинские силуэты. Нью-Йорк: Сучасність, 1983. С. 273-285. (на укр. и рус. языках); другие издания: Михайло Хейфец. Українські силюети. // Поле відчаю й надії. Альманах. – К.: 1994. С. 137–392; Михаил Хейфец. Избранное. В трех томах. Харьковская правозащитная группа. – Харьков: Фолио, 2000.
27. Українська Гельсінкська Група. До 20-ліття створення. Документи. Історія. Біоґрафії. Видання УРП. Підготували Вахтанґ Кіпіані та Василь Овсієнко. Київ, 1996. С. 29-32.
28. Руденко Микола. Найбільше диво – життя. Спогади. Київ – Едмонтон – Торонто: Таксон, 1998. – С. 433.
29. Українська Гельсінкська Група. 1978-1982. Документи і матеріяли. – Балтимор – Торонто: Українське Видавництво «Смолоскип» ім. В. Симоненка. 1983. С. 605-624, 779-781.
30. Бадзьо Юрій. Право жити. // Україна в складі СРСР, людина в системі тоталітарного соціалізму. – К.: Таксон, 1996. – C. 400.
31. Говерля Степан. Грані культури. – Лондон: Українська видавнича спілка. 1984, 184 с.; Гель Іван (Степан Говерля). Грані культури. Львів: Наукове товариство імені Т.Шевченка. 1993. 216 с.
32. См. в книге: Литвин Юрій. Люблю – значить живу. Публіцистика. Упорядник Анатолій Русначенко. – К.: Видавничий дім «KM Academia», 1999. С. 56–62.
33. Стус В. Твори.., т. 4, с. 485-502
34. Заявление О. Бердника опубликовано в газете «Літературна Україна» 17 мая 1984 года.
35. Лисяк-Рудницький І., Історичні есе, т. 2, с. 486-487.
36. Строката Ніна. Послесловие к изданию: Інформаційні бюлетені Української громадської групи сприяння виконанню гельсінкських угод. Упорядкував Осип Зінкевич. Українське видавництво «Смолоскип» ім.В.Симоненка. Торонто – Балтимор, 1981. С. 175.
37. Набока Сергій. Український культурологічний клуб. – Український альманах. 1997. Варшава: Об’єднання українців у Польщі. 1997. С. 154–156.
38. Романишин Юрій. Товариство Лева. Там же, с. 157–159.
39. Литвин Юрій. Люблю – значить живу. С. 56.
1992–2004. С исправлениями 2007 г. На сайте ХПГ с 26.02.2008.