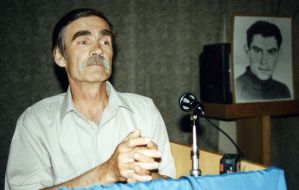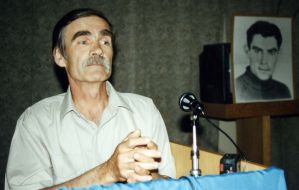
Василий ЛИСОВОЙ. ДИССИДЕНТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ.
Словом «диссидент» (от лат. dissidens — несогласный), которое в своем историческом значении применялось как название для еретиков, стали называть лиц, которые в 60-х — нач. 80-х гг. в СССР и других странах «социалистического лагеря» подвергали сомнению и критиковали официальную коммунистическую идеологию и политику. Увеличение числа лиц, которые в 60–80-х гг. открыто выражали несогласие с официальной идеологией и политикой, и тех, кто так или иначе с ними солидаризировался, дало основание говорить о «диссидентском движении» в СССР. Сами участники этого движения не использовали слово «диссидент» в качестве самоназвания: использование этого слова имеет западное происхождение. Большинство участников украинского Д. д. (позже принявшего правозащитный характер) прошли через различного рода преследования, исключения из учебных заведений, лишение работы, а самые активные из них — через лагеря, тюрьмы и ссылки. Некоторые из них погибли в лагерях: Ю. Литвин, В. Марченко, В. Стус, О. Тихий. Отдельные были брошены в психбольницы, стали жертвами преступной психиатрии (Л. Плющ, В. Рубан, Н. Плахотнюк, М. Якубовский). Участников движения можно разделить на две группы: тех, кто публично (открыто) критиковал официальную идеологию и политику — письменно или устно; тех, кто изготавливал, хранил и распространял неподцензурную литературу (так называемый «самиздат»). Эти две группы действовали в окружении «пассивных» участников — тех, кто знал о деятельности лиц из названных двух групп, общался с ними, симпатизировал их идеям (а нередко придерживался даже более радикальных взглядов) и был читателем неподцензурной литературы. Наибольшее распространение Д. д. получило в Украине, России, Эстонии, Латвии, Литве и в меньшей степени в Армении и Грузии.
Диссидентское движение хотя и содержало политическую составляющую, но его почвой было интеллектуально-культурное движение. Украинская интеллигенция, воспользовавшись процессом десталинизации, начатым известным выступлением Н. Хрущёва на XX съезде КПСС в 1956 г., предприняла новую попытку национально-культурного возрождения, названного движением «шестидесятников». Этим словом стали обозначать тех представителей творческой интеллигенции, которые пытались модернизировать украинскую культуру и имели мужество своим творчеством оказывать сопротивление власти, которая квалифицировала их творчество как идеологически враждебное. Это привело к сочетанию интеллектуально-культурного движения с гражданско-политическим действием, что даёт основание называть это движение движением сопротивления русскому шовинизму и коммунистическому тоталитаризму. В словесном искусстве впереди шла поэзия (Л. Костенко, В. Симоненко, И. Драч, Н. Винграновский и др.), литературоведение и литературная критика (И. Свитличный, И. Дзюба, Е. Сверстюк, Михайлина Коцюбинская). Если оценивать литературно-художественное движение шестидесятников, принимая во внимание стилистические особенности и содержание произведений, то можно выделить несколько тенденций: (а) преимущественно традиционный стиль, но содержательная направленность на пробуждение гражданского и национального самосознания (А. Малышко, О. Гончар, В. Симоненко, Д. Павлычко и др.); (б) экзистенциализм; (в) архетипический символизм и космический спиритуализм; (г) «модернизм» — при условии, что термин «модернизм» мы будем использовать не в его узком значении (как название определённой эстетики или стиля), а в широком — как попытку «обновить» или «осовременить» литературно-художественное творчество, используя различные течения в литературе и искусстве XX в. Тенденция, названная «экзистенциализмом», представлена акцентом на ценности внутреннего духовного мира личности, восприятии мира как «моего мира», с драматическим переживанием судьбы Украины в этом мире. Хотя этот способ мировосприятия и миропонимания испытал определённое влияние западного литературного экзистенциализма (Ж.-П. Сартр, Сент-Экзюпери), включая литературу и искусство абсурда (Камю, Кафка), но общественно-политическим побуждением к появлению такой литературы был драматический конфликт личности с системой и осознание трагического состояния украинской нации (см. Экзистенциализм, Абсурд). Наиболее отчётливо эта тенденция представлена в стихах и публицистике самого выдающегося поэта 60–80-х годов — Василия Стуса.
Выражением «архетипический символизм» здесь обозначены попытки интуитивно-символического «высвечивания» архетипов, которые либо образуют подтекст украинской культурной самобытности (в частности, попытки символически-метафорической «репрезентации» структур коллективного бессознательного), либо касаются метафорики бытия и космоса. На интеллектуальном уровне первая тенденция перекликалась с психоанализом К. Г. Юнга. Это литературно-художественное движение можно также обозначить как движение «к истокам». Оно нашло свое проявление в разных видах искусства 60-х годов: в живописи наивистов (Екатерина Билокур, Мария Примаченко, Лиза Миронова), в живописи «раннего» Панаса Заливахи, в пластике Галины Севрук, в песенном творчестве Нины Матвиенко, в композиторском творчестве (М. Скорик, В. Ивасюк и др.), в хоровом песенном творчестве (Л. Ященко и др.), в «поэтическом кино». В поэзии это движение представлено интересом к поэзии Богдана-Игоря Антонича и в поэтическом творчестве И. Калинца, В. Голобородько, Н. Воробьёва, В. Герасимьюка (70-е годы) и др. Мотивы абсурда наиболее отчётливо представлены в поэзии Н. Холодного, Г. Чубая, отчасти в поэзии И. Сокульского. Бытийный (метафизический) символизм представлен в поэзии Н. Воробьёва. Сопровождением этого художественного движения было оживление интереса к этнографическим исследованиям, возрождение украинской обрядности (например, колядок, которые власти также пытались запрещать).
Несколько отличным, хотя и близким к этому направлению мышления, было литературно-философское течение, которое можно обозначить термином «космический спиритуализм» — создание символики и метафорики, которая касалась взгляда на человека и нацию как часть одухотворённой Вселенной (О. Бердник и др.). Кроме того, были попытки и рационального обоснования взгляда на человеческую деятельность в масштабе Вселенной. Такую попытку мы имеем в произведениях и статьях Н. Руденко, который подчеркнул важность некоторых «забытых» идей — С. А. Подолинского и В. И. Вернадского. Само это направление мышления достойно высокой оценки и соответствует идеям некоторых из современных западных философов (например, идее «единого мира» К. М. Майер-Абиха).
Если термин «модернизм» использовать в значении «осовременивания» эстетики и стиля, то им мы охватим различные новаторские эстетические тенденции, включая использование некоторых художественных стилей XX в. — в поэзии (Лина Костенко, И. Драч, Н. Винграновский и др.), в живописи (И. Марчук, В. Медвидь и др.), в музыке (Сильвестров, Грабовский, Скорик, Станкович и др.) и т. д. (см. Модернизм, Авангард, Абстракционизм, Экспрессионизм, Сюрреализм и др.). Это искусство существовало на грани между публичностью и подпольем, но андеграунд в данном случае был вынужденным (и это важное отличие от западных или современных его разновидностей). Сопровождением и вдохновителем этих литературно-художественных обновлений была общественная деятельность и творчество таких литературоведов и литературных критиков, как И. Свитличный, И. Дзюба, Е. Сверстюк, наиболее резонансные произведения которых распространялись в самиздате. Среди других отраслей общественных наук и гуманитаристики необходимо отметить историков (М. Брайчевский, О. Апанович, О. Компан и др.), а также журналистов (В. Черновол, В. Марченко).
Что касается основных интеллектуальных направлений в гуманитаристике и философии, то наряду с тенденцией экзистенциализма можно назвать ещё три тенденции, не всегда чётко артикулированные: философский неоконсерватизм, критический рационализм и философский ревизионизм («критическая диалектика»). Тенденция неоконсерватизма («либерального консерватизма») наиболее отчётливо представлена литературно-философской эссеистикой Евгения Сверстюка («Собор в лесах», «Иван Котляревский смеется» и др.), распространявшихся в самиздате. Мы имеем дело скорее с «традицией Гердера», в которой «кордоцентризм» и личностноцентризм экзистенциализма диалогически дополняется акцентом на важности традиции как источника ценностей и смыслов. Но традицию в интеллектуально-культурном движении шестидесятников понимали не как сохранение культурных достижений прошлого в их неизменном виде, а как обновление, переосмысление и дополнение собственным творчеством. И именно такой подход к пониманию традиции позволяет понять сочетание, с одной стороны, движения «к истокам», с другой стороны, новаторский характер литературного и художественного творчества шестидесятников. В этом направлении мышления важную роль играет интуиция, а в стиле речи — использование символов и метафор. Этот способ мышления и речи лежит ближе к «философскому стилю» Г. Сковороды, нежели к аналитическому направлению. В западной философии XX в. этот стиль представлен скорее философией жизни (экзистенциализмом, интуитивизмом А. Бергсона, герменевтикой). В этом акценте на традиции можно находить некоторые переклички с философией позднего Хайдеггера и философской герменевтикой Гадамера. Вряд ли можно отрицать определённое влияние идей этих философов (заимствованных, в частности, из комментариев тогдашних «критиков буржуазной философии») на литературное и художественное творчество. Но не столько эти внешние влияния, сколько потребности национально-культурного возрождения побуждали к попыткам преодолеть отсечение украинцев от культурной традиции, которую практиковал коммунистический режим. Выражение «критический рационализм» здесь употреблено в широком значении (в противовес его использованию по отношению к философии К. Поппера) для обозначения в большей степени аналитического подхода, нацеленного на критику разного рода мифологем и стереотипов, внедрённых официальной идеологией. Примером такого направления мышления могут служить такие выдающиеся произведения украинского самиздата, как «Интернационализм или русификация?» И. Дзюбы и «Воссоединение или присоединение?» М. Брайчевского, «Право жить» Ю. Бадзё и некоторые др. В профессиональной (академической) философии в 60–80-е годы наблюдалась явно не артикулированная оппозиция между логико-аналитическим и диалектическим подходом («спор логиков и диалектиков»). Сторонники диалектического подхода пытались развить вариант «критической диалектики» («ревизионизм»). Однако скорее по причине кратковременности оттепели как аналитическая, так и ревизионистская тенденция в профессиональной советской философии не привела к появлению общественно резонансного произведения или такого, которое было бы важным в контексте западной философской традиции. И хотя названные интеллектуальные тенденции не были отчётливо представлены текстами, они характеризовали тогдашние дискуссии в «кулуарах»: пренебрежение ими, как и названными выше тенденциями в литературно-художественной жизни, обедняет понимание интеллектуальной атмосферы 60-х годов.
Создание и распространение самиздатовской литературы стало основным способом деятельности Д. д. (см. Самиздат). Произведение И. Дзюбы «Интернационализм или русификация?», книга В. Черновола «Горе от ума», большая статья М. Брайчевского «Воссоединение или присоединение?», статьи Е. Сверстюка, неподцензурные стихи В. Симоненко, Н. Холодного, И. Драча, Л. Костенко, И. Сокульского, статьи В. Мороза, разного рода обращения и протесты, информации о преследованиях и условиях содержания политзаключённых в лагерях, редактируемый В. Черноволом неподцензурный журнал «Украинский вестник» составляли основную массу украинской литературы, распространявшейся в «самиздате». К этому нужно добавить произведения русского самиздата, распространявшиеся в Украине. Из диаспорных изданий в более узком кругу имели распространение книга И. Кошеливца «Современная украинская литература», произведение Б. Кравцива «На багряном коне революции» и некоторые др. Самыми влиятельными фигурами в украинском Д. д. были Иван Свитличный, Иван Дзюба, Вячеслав Черновол, Евгений Сверстюк, но движение не имело централизованного характера и состояло из ряда многих ячеек, в которых люди были объединены личными, профессиональными, семейными и местными отношениями.
Исследования Д. д. можно разделить на политические, сосредоточенные прежде всего на вопросе идеологии, исторические и социологические. Приведённый выше обзор интеллектуально-культурной основы Д. д. позволяет лучше понять источники его идеологии. Едва ли не первая попытка дать общий обзор идеологии украинского Д. д. принадлежит И. Лысяку-Рудницкому. Права личности и право наций на самоопределение (а следовательно, оценка самобытности укр. культуры и нац. самосознания) — идеологическая сердцевина укр. Д. д. Но характерной особенностью идеологии Д. д. было отсутствие нациоцентричности: оценка культурной самобытности украинской нации основывалась на универсальной установке уважения к культурному разнообразию мира и, соответственно, уважения к любой другой нации и культурной самобытности национальных меньшинств. Это включало также оценку диалектных различий внутри украинской нации (показательным в этом отношении может быть отношение к фильму «Тени забытых предков»). Уважение к другим нациям и защита прав национальных меньшинств обеспечили солидарность представителей разных наций в украинском Д. д. — евреев, крымских татар, белорусов и т. д. Это была позиция, которая находила проявление в конкретных действиях — публичных речах (напр., выступление И. Дзюбы в Бабьем Яру), заявлениях (напр., П. Григоренко и др. в защиту крымских татар), сборе соответствующей информации (напр. сбор С. Караванским информации о расстреле польских офицеров в Катыни).
Конечно же, очерченная здесь общая, «рамочная» идеология объединяла людей с различными личными мировоззренческими и идейными позициями — от «радикально» правых (с ориентацией на частную собственность и национальное независимое государство), в том числе с некоторыми тенденциями интегрального национализма (В. Мороз), до людей с социалистическими ориентациями. Многие из бывших участников ОУН и УПА или их дети присоединились или по крайней мере солидаризировались с Д. д., признавая, что другая историческая ситуация требует другой идеологии национально-освободительной борьбы. В политических лагерях между заключёнными-диссидентами и бывшими участниками ОУН и УПА не существовало принципиальных расхождений и конфликтов, а было чувство солидарности. Но некоторые из диссидентов вполне искренне придерживались позиции «социализма с человеческим лицом» (позиция, близкая к правому крылу социал-демократизма). Идеологические тексты, в которых ставилась цель выхода Украины из состава СССР и образования независимого украинского государства, как правило, были предназначены для конспиративного распространения среди узкого круга лиц (напр., «Проект программы» группы Лукьяненко — Кандыбы, статья Е. Пронюка «Состояние и задачи украинского освободительного движения» и др.). К так называемым «чистым демократам» («либерал-демократам»), которые не считали важной ориентацию на утверждение украинского национального самосознания и украинского независимого государства, в укр. Д. д. принадлежали единичные личности. К Д. д. присоединились некоторые лица из религиозных конфессий, подвергавшихся преследованиям (греко-католики, баптисты и др.). Что касается национал-коммунизма, то сам факт использования коммунистической риторики, в частности в обращениях в официальные инстанции, не может быть надежной основой для квалификации автора текста как убеждённого национал-коммуниста. Хотя отдельные тексты укр. диссидентов, которые распространялись в самиздате, содержали элементы марксистской и коммунистической риторики, всё же они, как правило, основывались на логике, которая противоречила марксистскому классовому принципу. Ведь все важнейшие ценностно нагруженные понятия (свобода, права человека, справедливость, равенство) почти во всех тогдашних оппозиционных текстах выводились за рамки классовой идеологии. Вследствие этого основополагающие понятия-ценности не подвергались в их текстах деструкции в результате применения классового принципа; наоборот, отстаивается их самоценность, самодостаточность. Раз официальная коммунистическая идеология утверждает, что социалистическая демократия — высший тип демократии (в сравнении с «буржуазной демократией»), то диссиденты требовали, чтобы соблюдались хотя бы элементарные нормы демократии. Поскольку Конституция СССР провозглашает свободу слова, то это должна быть свобода слова (отсюда требование соблюдать Конституцию). Раз говорится о справедливых межнациональных отношениях и о равенстве наций, то практика не должна демонстрировать осуществление противоположных принципов. После подписания СССР в 1975 году Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, в Украине в ноябре 1976 г. была создана Украинская общественная группа содействия выполнению Хельсинкских соглашений (см. Украинская хельсинкская группа). Инициаторами её создания были Н. Руденко, О. Бердник, О. Мешко, Л. Лукьяненко, П. Григоренко (Москва). Постепенно многие участники Д. д. становятся членами УОГ. Это было возможно потому, что признание личных прав человека было важной составляющей того интеллектуально-культурного движения 60-х, из которого вырастало и которым питалось Д. д. Однако в укр. Д. д. признание важности личных прав всегда сочеталось с признанием права наций на самоопределение как важного элемента международного правового порядка, а также с признанием прав национальных меньшинств. Личность и национально-культурная самобытность оставались двумя важными ценностями даже тогда, когда Д. д. приобрело правозащитный характер. Эта установка была сохранена и даже усилена, когда на основе УОГ был создан Украинский хельсинкский союз, который, в свою очередь, стал основой для создания первой в Украине демократической партии — Украинской республиканской партии. Идеология укр. Д. д. стала основой так называемой «национально-демократической» идеологии: сам этот термин в контексте западных политических идеологий является несколько необычным, поскольку каждая западная демократическая идеология само собой включает национальный аспект — оценку национально-культурной идентичности и национальных интересов. Использование термина «национально-демократический» указывает на особенность украинской ситуации, необходимость акцента на утверждении украинского независимого национального государства, в противовес только демократической идеологии, которую можно было мыслить и под углом зрения демократизации СССР. Это касается также оппозиции терминов «коммунисты» и «национал-коммунисты». Сказанное здесь об идеологии диссидентского и правозащитного движения требует более долгого разговора о судьбе идеи Маркса о «реальном гуманизме»: стремление утвердить гуманизм путем социальной революции и диктатуры пролетариата привело (в большевистском использовании этой идеи) к массовому террору и геноциду. Итак, чтобы иметь «социализм с человеческим лицом», нужно было отбросить классовую деструкцию базовых ценностей.
Что касается исторических исследований, которые одновременно содержат элементы социологии, то книга Л. Алексеевой «История инакомыслия в СССР» сохраняет свою ценность и сегодня (учитывая охват всех разновидностей и звеньев Д. д. в СССР). Относительно украинского Д. д., то вслед за некоторыми исследованиями, опубликованными на Западе, важнейшими на сегодня историческими исследованиями являются книга Георгия Касьянова «Несогласные» (Киев, 1995) и Анатолия Русначенко «Национально-освободительное движение в Украине» (Киев, 1998). Во второй из этих книг подана и наиболее полная библиография (список охватывает публикации в Украине и на Западе). Значительно больше сделано в публикации источников: многотомные издания В. Стуса и В. Черновола, И. Дзюбы, отдельные книги диссидентов, сборники документов, воспоминания и т. п. Что касается публикации разного рода документов — заявлений, обращений, писем и т. п., то необходимо отметить деятельность международных правозащитных организаций (в частности Amnesty International Publications) и украинцев в диаспоре: речь идет как о периодических изданиях (напр., ж. «Сучасність»), так и об отдельных публикациях. Весомый вклад в это дело внесло издательство «Смолоскип», возглавляемое О. Зинкевичем. Оно регулярно публиковало сборники документов украинского правозащитного движения (в частности, объёмные книги «Украинское правозащитное движение», 1978, «Украинская Хельсинкская группа», 1983 и др.), а также издавало англоязычную газету «Смолоскип», в которой публиковались разного рода документы украинского Д. д. С 1992 г. издательство действует в Украине, имеет Музей самиздата — самое богатое в Украине собрание текстов украинского самиздата (см. «Смолоскип»). Собирает и хранит документы Д. д. также Музей шестидесятников, основанный по инициативе Н. Светличной (председатель правления М. Плахотнюк).
Первую попытку социологического исследования Д. д. в Украине (количество участников названных двух групп, их этническое и социальное происхождение, возраст, семейное положение, профессия, уровень образования, география проживания и деятельности и т.д.), сделал Б. Кравченко в небольшом разделе «Диссиденты» (около трёх страниц), помещённом в его книге «Social Change and National Consciousness in Twentieth-Century Ukraine» (1985). Сегодня к этому направлению исследований примыкает сбор информации об участниках Д. д., который осуществляет Харьковская правозащитная группа, возглавляемая Е. Захаровым; в составе которой работает также В. Овсиенко (Киев), написавший большое количество биографических справок о диссидентах. Достижением этих усилий стала публикация «Международного биографического словаря диссидентов Центральной и Восточной Европы и бывшего СССР. Т. 1, Украина. Части 1 и 2. — Харьков, 2006, составленный Е. Захаровым и В. Овсиенко (первая часть содержит вступительную статью Е. Захарова «Диссидентское движение в Украине, 1954–1987»). Харьковской правозащитной группой создан также веб-сайт «Виртуальный музей: диссидентское движение в Украине» (http://museum.khpg.org), на котором размещены биографические справки о лицах, интервью, воспоминания, исследования. На сегодняшний день собрана важная информация в виде интервью с участниками Д. д., включая видео-интервью (О. Дырдовский, В. Овсиенко, В. Кипиани, Ю. Зайцев и др.). На свежих аудиоинтервью с диссидентами Б. Захаров построил «Очерк истории диссидентского движения в Украине (1956–1987). — Харьков, 2003». Тем не менее, до сих пор, к сожалению, у нас нет систематических исследований сред-сообществ, связанных с распространением самиздата, в частности контактов или «троп», топография которых в пределах Украины позволила бы оценить как масштаб распространения, так и количество людей, задействованных в этом деле. Важной социологической характеристикой Д. д. в Украине является его относительно высокая степень распределённости по разным регионам Украины, несмотря на явное преобладание западных регионов над восточными (в России Д. д. было сосредоточено преимущественно в Москве и Санкт-Петербурге). Одной из важных особенностей украинского Д. д. (по сравнению, скажем, с российским) является тот факт, что значительное количество бывших диссидентов стали активными участниками политической жизни Украины конца 80-х – 90-х годов. Что касается оценки интеллектуально-культурного движения шестидесятников и Д. д., то взвешенная оценка, очевидно, должна основываться на дифференцированном подходе. Д. д. содержало далеко идущий проект утверждения ценности личности и нации (в контексте оценки культурного разнообразия мира и культурной самобытности любой нации или цивилизации). Но этот проект был укоренён в умонастроении просветительского идеализма: преобладала вера в то, что в условиях свободы люди очень быстро смогут распознать настоящие ценности и их глашатаев, а, соответственно, становление гражданского и национального самосознания произойдёт быстро. Здесь мы имеем недооценку силы инерции стереотипов и идеологем в массовом сознании, сформированных имперской коммунистической идеологией. Второй недостаток заключается в том, что критика коммунистического режима не была соединена с разработкой конкретных политических теорий и стратегий, рассчитанных на перспективу — на «демонтаж» коммунистической империи. Имеются в виду теории и стратегии, нацеленные на преобразования в массовом сознании, в политической системе, в экономике и социальной сфере, которые бы обеспечили успешное утверждение национальных демократических государств в условиях распада СССР. Для разработки хорошо обоснованных проектов, которые касались бы путей реформирования постсоветских обществ, не было соответствующих условий (вследствие кратковременности «оттепели»). В 60–70-е годы в Д. д. преобладало представление, что время, когда возникнет потребность в таких конкретных теориях, не настолько близко, как это фактически произошло. А это отразилось на готовности партий национал-демократического толка к ситуации, которая возникла после распада СССР. Пренебрежение партиями национал-демократического толка ролью политического образования и просвещения, недооценка организационных и кадровых аспектов партийного менеджмента, а также роли дискуссии в партийной жизни и в общении с «низами», привело к преобладанию вождизма, монологизма партийных лидеров и т. п. В общем, за этим стоит недооценка роли критического самосознания как важного признака качества политических элит и как основного средства радикального преобразования массового сознания, унаследованного от коммунистического режима (см. Национал-демократия). Но эта критика и самокритика не подрывает исторического значения Д. д. в тех радикальных политических преобразованиях, которыми являются распад СССР и крах коммунистического тоталитаризма. Большинство исследователей считают Д. д. особым периодом национально-освободительного движения и признают его решающую роль в появлении современного украинского независимого государства. В современных публикациях преобладают попытки дать взвешенную, преимущественно многоаспектную, оценку как интеллектуально-культурного движения шестидесятников, так и связанного с ним Д. д.
Лит.: Prisoners of Conscience in the USSR: their Treatment and Conditions. – Amnesty International Publications, 1975. Алексеева Л. История инакомыслия в СССР. — Khronika Press, 1984. Krawchenko Воhdan. Social Change and National Consciousness in Twentieth-cetntury Ukraine // Canadian Institute of Ukranian Studies, 1987. Лисяк-Рудницький І. Політична думка українських підрадянських дисидентів // Історичні есе. Т. 2. – К., 1994. Касьянов Г. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960–80-х років. – К., 1995. Русначенко А. Національно-визвольний рух в Україні: середина 1950-х – початок 1990-х років. – К., 1998. Українська громадська група сприяння виконанню Гельсінкських угод. Т. 1. Особистості. Т. 2–4. Документи і матеріали. Харьков, 2001 (укладачі Є. Захаров та В. Овсієнко). Захаров Б. Нарис історії дисидентського руху в Україні (1956 – 1987). – Харків, 2003. Міжнародний біоґрафічний словник дисидентів країн Центральної та Східної Європи й колишнього СРСР. Том 1. Україна. Частини 1, 2. – Харків, 2006 (Частина 1 містить вступну статтю Є. Захарова «Дисидентський рух в Україні»). Коротенко А., Аликина Н. Советская психиатрия: заблуждение и умысел. – К., 2002. Український правозахисний рух. Укладач О. Зінкевич. – Торонто – Балтимор, 1978. Українська Гельсінкська група. Упорядкував О. Зінкевич. – Торонто – Балтимор, 1983. Світличний І. Голос доби. – К., 2001. Дзюба І. М. Інтернаціоналізм чи русифікація. – К., 2005. Дзюба І. М. З криниці літ. У 3-х томах. Т. 1. – К., 2006. Сверстюк Є. На святі надій. – К., 1999. Чорновіл В. Твори в десяти томах. Т. 1–4. – К., 2002–2005. Лук‘яненко Л. Не дам загинуть Україні. – К., 1994. Михайло Брайчевський. Вчений і особистість. – К., 2002. Василь Стус. В житті, творчості, спогадах та оцінках сучасників. – Балтимор – Торонто, 1987. Бадзьо Ю. Право жити. – К., 1996. Снегирёв Г. Роман-донос. – К., 2000. Марченко В. Творчість і життя. – К., 2001. Хейфец М. Украинские силуэты. – «Сучасність», 1983. Суровцова Н. Спогади. — К., 1996. Горська А. Червона тінь калини. Листи, спогади, статті. – К., 1996. Горбаль М. Один із шістдесяти. Спогади. – К., 2001. Руденко М. Спогади. – Київ – Едмонтон – Торонто, 1998. Батенко Т. Опозиційна особистість ХХ ст.: політичний портрет Б. Гориня. – Львів, 1997. Маринович М, Глузман С., Антонюк З. Листи з волі. – К., 1999. Сверстюк Є. «Це вибір» (Біобібліографічний нарис). – К., 2002. Три повстання Січків. – Харків, 2004. Бердиховська Б., Гнатюк О. Бунт покоління. – К., 2004. Мешко О. Не відступлюся! – Харків, 2005. Овсієнко В. Світло людей. Мемуари і публіцистика. Книги 1 і 2. – К. – Харків, 2005. Мороз Р. Проти вітру. – Львів, 2005. Горинь Б. Не тільки про себе. – К., 2006.
В.С.Лисовой
17 июля 2007 года.